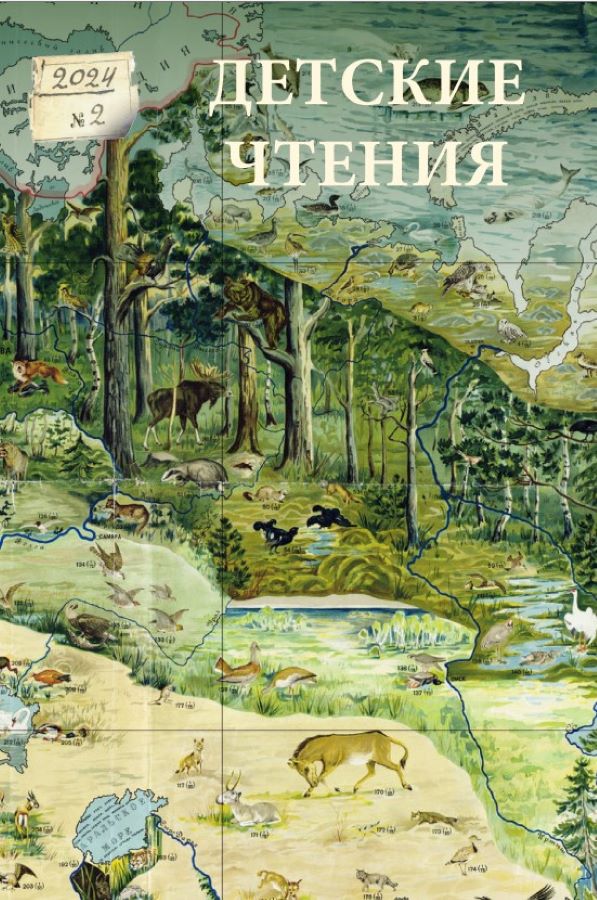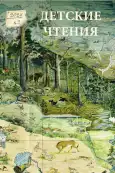От риторики просвещения к прагматике освоения: образы этнических территорий в серии научно-популярных книг для детей (1927–1929)
- Авторы: Черняева Н.А.1
-
Учреждения:
- Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
- Выпуск: Том 26, № 2 (2024)
- Страницы: 106-128
- Раздел: ИССЛЕДОВАНИЯ
- URL: https://journal-vniispk.ru/2304-5817/article/view/280777
- DOI: https://doi.org/10.31860/2304-5817-2024-2-26-106-128
- ID: 280777
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье проанализирован образ территории вновь созданного советского государства в серии популярных книг для детей, выходивших с 1927 по 1929 гг. под общим подзаголовком «Как живут и чем промышляют», посвященных народам СССР и местностям, в которых они проживали. Будучи рекомендованной к изучению в общеобразовательных школах, серия книг вносила значительный вклад в формирование географического воображаемого школьников поколения 1920-х гг. Рассмотрены принципы, на которых строился образ географии новой советской страны, его отличие от модели территории Российской империи в аналогичной популярной литературе до 1917 г., а также анализ специфически советского единства между территориальным и национальным. Конструируемая книгами модель географического устройства распадалась на центральную часть, которая не была этнически маркирована, и территории национальных окраин — иерархическая конструкция, в которой привилегия видения и рассказывания принадлежит субъекту, находящемуся в смысловом и географическом центре. В статье рассмотрена характерная для изданий сложная диалектика этнографического и прагматического взглядов на территории: неизбежное развитие народов от архаики к социализму превращало места проживания этносов в пространства индустриальной модерности, экономический ресурс государства.
Полный текст
Образы природного и географического пространства родной страны играли заметную роль в детской литературе и особенно учебных изданиях для школьников в России, начиная примерно с середины XIX столетия, являясь важным ресурсом для национальной и культурной идентификации подрастающего поколения [Лескинен 2012]. После революции 1917 г. и в ходе создания нового государственного территориального образования, Союза Советских Социалистических Республик, эти образы предсказуемо претерпели значительные изменения. 1920-е гг., по выражению О. Горбачева, были периодом «ментального открытия советского пространства властью и гражданами новой страны», чему способствовали дискуссии в правительстве и в прессе о «районировании», то есть новом территориальном устройстве страны [Хирш 2022], расцвет краеведения и другие факторы [Горбачев 2018, 158]. В это десятилетие авторы детской литературы обращаются к теме новой советской географии. В статье рассматривается пример создания обобщенного образа географического пространства Советского Союза в цикле книг для внеклассного чтения, выходивших с 1927 по 1929 гг. в издательстве «Работник просвещения». Пятнадцать книг были посвящены народам СССР и территориям, на которых они проживают. Книги имели единый подзаголовок «Как живут и чем промышляют» (например: «У теплого моря: как живут и чем промышляют крымские татары» [Байсутов 1928]); они издавались тиражами от 5000 до 10000 экземпляров, и многие переиздавались по три-четыре раза. Практически все издания были созданы одним автором1 — географом, этнографом Николаем Ивановичем Леоновым (1894–1971), писавшем также под псевдонимами Н. Амыльский, Н. Байсутов, В. Пелка и Д. Чибизянов. Учитывая статус изданий, подробнее о котором будет сказано ниже, эти книги вносили значительный вклад в формирование «географического воображаемого» школьников, создавая у юных читателей представления о территории страны, разнообразии ее ландшафтов, природных условий, а также о жизни и территориях проживания населяющих ее народов. Целью работы является рассмотрение принципов, на которых строился образ географии новой советской страны, его отличие от образа территории Российской империи в аналогичной литературе до 1917 г. с помощью сравнительного анализа цикла книг Леонова с серией книг по этнографии народов России со схожим названием, «Где на Руси живут и чем промышляют», известного популяризатора науки Н. А. Александрова. Автор статьи уже обращался к нескольким изданиям цикла «Как живут и чем промышляют» в работе, посвященной образам коренных народов севера в детской литературе 1920-х — 1930-х гг. [Черняева 2024]. Однако как целостное высказывание об этно-территориальном устройстве СССР этот цикл прежде не рассматривался. В данной статье анализируются книги, которые не обсуждались в прежних работах.
Автор книг и статус изданий
Анализируемые нами книги выходили в довольно обширной серии «Читальня советской школы», издававшейся с 1926 по 1930 гг. и знакомящей читателя с устройством природного мира («Как живут пчелы», «Как устроено и работает тело коровы»), промышленными технологиями («Стекло, его производство и применение»), дальними странами и территориями («В джунглях Индии»), мировой историей («Сам и Дик: Эпизод из эпохи гражданской войны Северо-Американских штатов»). Чтение книг должно было, по замыслу создателей, носить систематический характер: каждая книга содержала не только возрастные рекомендации, но и была пронумерована, чтобы читать их в определенной последовательности. В пояснении от издательства, обычно размещаемого в конце каждой книги, отмечалось, что содержание выпусков серии «построено так, чтобы они могли служить подсобными книжками при проработке программ трудовой школы» и что выпуск книг утвержден руководящим органом Народного Комиссариата Просвещения — Государственным ученым советом. Как отмечали историки советской педагогики, в 1920-е гг. в школах акцент делался именно на «книгах для чтения» вместо традиционных учебников. Так, А. А. Сенькина отмечает, что «в середине 1920-х гг. наряду с введением «рабочих книг» в качестве основной формы учебника обсуждалась необходимость создания в каждой школе рабочей библиотечки» [Сенькина 2012, 71]. Вполне возможно, что книги «Как живут и чем промышляют», знакомящие с географией и народонаселением СССР, могли использоваться в ряде школ в учебном процессе как дополнительное или даже основное чтение по предметам естественного цикла.
Автором четырнадцати книг был географ и этнограф Н.",И.",Леонов, чьи научные интересы причудливо разделились между территориями и народами Крайнего Севера и Центральной Азии. Леонов родился в Минусинске, провел там детские годы, а также период с 1919 по 1922 гг. Выпускник исторического факультета МГУ в 1918 г., он увлекался литературой и пробовал себя как поэт, прозаик и драматург. С 1924 по 1930 гг. Леонов был сотрудником и членом расширенного президиума Комитета содействия народностям северных окраин (Комитета Севера) при Президиуме ВЦИК, курируя там вопросы школьного строительства и образования. Когда в 1927 г. созданный Комитетом Севера так называемый Северный факультет перешел под эгиду Ленинградского института живых восточных языков, именно Леонову была поручена экспертиза учебных программ факультета [Неруш 2021]. В 1930 г. Леонов переехал из Москвы в Узбекистан, возможно, на фоне усиливающихся репрессий в отношении старых сотрудников Комитета Севера. В 1930–31 гг. его научные и популярные работы несколько раз подвергались разгромной критике в журнале «Советский север» (подробнее об этом см. [Черняева 2024]), в результате чего он прекратил работу над темами северных народов. В 1930 г. Леонов возглавил кафедру географии Ферганского педагогического института, где проработал более 30 лет [Костецкий 2008, 212]. Научные публикации по темам геотектогенеза и археологии Леонов сочетал с работой в любимом им жанре научно-популярной литературы, выпуская выходившие массовыми тиражами книги о великих астрономах, мыслителях Средней Азии и археологических находках.
Заголовок книжной серии отсылает нас к серии изданий по народоведению Н. А. Александрова (1841–1907) «Где на Руси какой народ живет и чем промышляет», выходившей с 1870-х по 1906 гг. в издательстве Л. Панафидина и имевшей подзаголовок «Чтения для народа». Издания по этнографии народов России, рассчитанные на массового читателя, стали популярны в последней трети XIX в. [Токарев 1966, 430], о чем свидетельствуют значительные объемы выпускаемой литературы, часто выходившей как серийные издания, а также широкий круг авторов, специализировавшихся на «этнографической беллетристике»2. Серия книг Александрова была самой обширной: она включала 24 выпуска, рассказывавших о 40 народах. Судя по всему, Леонов был знаком с книгами Александрова: он дает своему циклу схожее название и, кроме того, между книгами Леонова и Александрова обнаруживаются некоторые текстуальные переклички. В то же время номенклатура народностей и территорий, рассматриваемых книгах Леонова, лишь частично совпадала с теми, к которым обращалась серия Александрова. Даваемые авторами характеристики природных и климатических условий, территорий проживания народов, их жизненного уклада, нравов и хозяйственных практик значительно отличаются.
Народы и территории: взгляд из центра на периферию
В обеих сериях территория страны представала как населенная тунгусами, алеутами, чукчами, якутами, бурятами, башкирами, дагестанцами, чеченцами и другими народами. Однако в Российской Империи административные границы и границы, отделяющие территории проживания отдельных этносов, не совпадали. Поэтому в книгах Александрова сведения о территориях и населяющих их народах создавали довольно хаотичную картину. В книгах Леонова связь между этносом и территорией — прямая и однозначная. Каждый из регионов, которым посвящены его книги, будь то Камчатка, Крым, Алтай или Дагестан, представали как территория проживания одного этноса. Идея исторической связи народа и территории лежала в основе советских практик национального строительства. Как показал Ю. Слезкин, большевистская идеология наций опиралась на понимание этнических границ как территориальных и поэтому объективных [Слезкин 2001, 335]. Советское определение нации предполагало общность языка, территории, экономических связей и психического склада. В своей фундаментальной работе «Империя наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза» Франсин Хирш показывает, каким образом практики создания новых, «национальных» территорий (так называемые практики «районирования») способствовали массовому появлению национального самосознания у жителей, прежде отождествлявших себя по роду, вероисповеданию и месту рождения. «Национальность стала фундаментальным маркером идентичности, определив не только административно-территориальное деление Советского Союза, но и представления людей о себе и других» [Хирш 2022, 205]. Книги цикла «Где живут и чем промышляют», создававшиеся в конце 1920-х гг., во многом отражали эту новую национально-территориальную идеологию и административное устройство, при котором народ и географическое пространство, им занимаемое, образуют непротиворечивое квазинатуральное единство.
В серии книг Александрова география России была представлена в таких ее частях как Европейская Россия, Урал, Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ. Европейские территории Российской империи включали Бессарабию, территории Балтики, Поволжье, Прикамье и Московскую губернию. В цикл не вошли территории Туркестана, как тогда называли Среднеазиатские владения России, возможно потому, что их присоединение к России было довольно недавним событием — всего 10 лет до даты выпуска первой книги в серии Александрова.
В книгах Леонова выбранные им для описания территории находились на севере и востоке страны (Карелия, территория Коми, Алтай, Якутия, Чукотка, Камчатка) или на юге (Крым, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Северный Кавказ). Слепым пятном для автора цикла здесь оказывается не Средняя Азия, а центральная часть России. Лишь одна книга посвящена районам, которые находились в центре страны, — «Как живут и чем промышляют люди в лесной полосе СССР» [Пелка 1927] — и рассказывает о «лесах Заволжья». В названии книги нет указания на национальность обитателей лесов, которые фигурируют в тексте просто как «люди», в отличие от персонажей всех других книг, определяемых через этнические характеристики: «чукчи», «алеуты», «гольды», «башкиры», «туркмены» и т. д. Почти полное отсутствие описания центральных районов страны определялось целевой аудиторией изданий: это русскоязычные читатели, проживающие в Европейской части страны. Именно им, а не школьникам из Дагестана, Туркмении, Якутии, Чукотки и т. д. адресованы рассказы о дальних уголках страны и проживающих там народах. Потенциальные читатели книг принадлежали общему с автором культурно-языковому полю, в котором собственная идентичность и территория проживания не воспринимались как этнически маркированные. Таким образом, в цикле книг Леонова территория страны предстает как территория проживания народов, и это — территория окраин, периферии. Отсутствие необходимости репрезентации центральных районов, из которых и осуществляется взгляд на этнизированные окраины, создавали иерархическую структуру, в которой привилегия видения и рассказывания принадлежит субъекту, находящемуся в смысловом и географическом центре.
Мажорная география
Термин «мажорная география» был введен Г. Орловой для фиксации кардинального различия в описании природных и климатических условий России, преобладавших в географических текстах до революции и после. По мнению Орловой, большинство учебников географии, изданных до 1917 г., отличала «риторика дефективности»: «природа страны рассматривалась как сплошной географический изъян и сумма неудобств» [Орлова 2004, 176]. Исследователь утверждает, что в 1930-е–1950-е гг. в географических учебниках формируется новая стратегия описания природных реалий — «позитивно-героическая» или «мажорная». «Природа оказывалась пространством героического творчества, а потому описания сурового климата... соседствовали в учебниках с рассказами о том, как снимают урожай дынь на Сахалине и выращивают цитрусовые на Чукотке» [Там же]. Если речь шла об ограничениях, налагаемых природными условиями, то они описывались как временные преодолеваемые трудности.
Рассказы о природных условиях цикле Леонова, созданного в 1927–1929 гг., демонстрируют многие черты позитивной или мажорной географии, отмеченные Орловой, и составляют разительный контраст с описаниями природы и климата в цикле Александрова. Дореволюционные издания выбирали для рассказа о естественных климатических явлениях «катастрофический» дискурс. Любая природная зона была чревата неблагоприятными для человека воздействиями, которые, в свою очередь, грозили перерасти в природные катастрофы. К примеру, книга Александрова «Степь: башкиры» открывается описанием зимних буранов, характерных для башкирской степи: «Кто не видал их, тот не может себе представить этого адского зрелища... Все слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, который слепит глаза, захватывает дыхание, ревет, свистит, воет, стонет... Человек теряет память, присутствие духа, безумеет... вот причина гибели многих несчастных жертв» [Александров 1900, 3–6]. Книга Леонова о башкирах «В стране светлых лесов и степей: как живут и чем промышляют башкиры» тоже начинается с описания окружающего ландшафта, но так как путешествие героя-повествователя происходит летом, то язык хоррора заменяется на язык пасторали: «Дорогу обступают березы, осины, дубы. Травы пестреют яркими душистыми цветами. Слышится звон и стрекотание насекомых. Разливаются звонкоголосые птицы» [Амыльский 1929, 3].
Неблагоприятные погодные условия если и упоминаются в советских изданиях, то почти всегда — в разделах, посвященных прежнему, уходящему образу жизни народа. Так, в книге «В степных просторах: как и чем промышляют киргизы (казахи)», с зимними буранами или джутом (гололедом) сталкиваются казахи, не желающие перехода от кочевого образа жизни к оседлому. Поучительной для читателей должна была стать история Джарубая, зимовавшего в юрте поодаль от людей и отправившего во время большой метели семью на поиски разбредшегося стада, в то время как его маленькие дети насмерть замерзли в юрте, когда ветром сорвало один из войлоков. Переход же к оседлости и заготовка достаточного количества кормов на зиму мог бы избавить казахов от опасностей зимней непогоды [Леонов 1927a, 41–42].
Если описываемая территория состояла из нескольких климатических зон, то выбор в советских изданиях делался в пользу зон, наиболее благоприятных для проживания, дающих автору возможность максимально ярких и радостных описаний. Так, территория Крыма в книге «У теплого моря: как живут и чем промышляют крымские татары» предстает через описание ландшафта южного берега: «С левой стороны громоздятся желтоватые горы, а впереди за барьером шоссе — пропасть. Заглянешь в эту пропасть и видишь на дне ее зелень садов, рощ, а еще ниже, там, за зеленью садов, начинается голубое. Это — море. Чем дальше, тем больше море ширится, растет и сливается в дымке с небом. Никогда ничего более красивого Ленька не видел. Он весь под впечатлением дивной картины» [Байсутов 1928, 13]. Александров в книге «Крым (Таврический полуостров)» делает акцент на степных районах Крыма с их характерными летними засухами. Картина такой засухи в дореволюционной книге предстает откровенно зловещей:
Тут, куда ни посмотришь, повсюду иссохшая, выжженная трава, растрескавшаяся глинистая почва... Явится саранча, зажужжат мухи и осы, закричат сотни глодающих птиц, запестреют у дороги, точно стада овец, тяжеловесные дрохфы, а по каменьям, как разбойники в засаде, сидят одни горбатые ястреба, пустельга, копчики; в воздухе же плавают шулики, жадно высматривающие степных мышей, а выше их, далеко в небе, зоркий глаз увидит парящих черных орлов; и все вокруг в вышине и в необозримой степной глади полно одними этими хищниками [Александров 1898, 6–7].
Такая концентрация описания хищных птиц в одной картине создает ощущение опасности, резко контрастирующее с «дивной картиной» Крымского пейзажа из книги Леонова. Иными словами, образы природных и климатических условий, характерные для различных территорий страны, претерпели значительную трансформацию между изданиями рубежа XIX–ХХ вв. и конца 1920-х гг. Природа еще не превратилась в пространство героического творчества, какой она стала, по мнению Орловой, в учебниках по географии 1930-х–1950-х гг. Тем не менее уже в конце 1920-х гг. природа различных территорий предстает как в целом благоприятная для жизни человека. Предвосхищая известную формулу 1930-х гг., природа в ее репрезентациях в популярной литературе для детей стала «лучше и веселее».
Подходы к этничности: между экзотизацией и нормализацией
Наряду с описаниями природы каждая из книг содержала очерк жизни народа: традиционной экономики, особенностей жилища, одежды, еды, семейного уклада, обрядов и ритуалов, включая календарные праздники и свадьбы. Большинство книг рассказывали о верованиях и мифологии, цитировали аутентичный или стилизованный фольклор, якобы рассказанный повествователю во время встречи с местными жителями. Последовательность расположения материала в книгах напоминала классический этнографический очерк. Однако учитывая детскую аудиторию изданий, авторы избегали наукообразных описаний и специальной терминологии. Чтобы облегчить восприятие материала, Леонов почти во всех книгах использовал беллетризованный нарратив путешествия: повествователь (автор) или вымышленный персонаж отправляется в путешествие в дальний край, и повествование строится в форме его путевых заметок или воспоминаний. В роли вымышленного персонажа, глазами которого читатель воспринимает реальность, часто выступал мальчик-подросток: школьник Ленька («У теплого моря»), сын повествователя Бориска («В горных аулах»), сирота Мишук, отправляющийся из Ленинграда к поморам («По берегам северных морей»). Во время путешествия герой знакомится со сверстниками из местного населения, живет в доме «туземцев», ест привычные для местных блюда и таким образом узнает жизнь народа изнутри.
Как уже отмечалось выше, повествователь разделяет с читателями общее культурное поле, используя местоимения «мы», «нас», «нашему» для обозначения привычных и понятных форм жизни. Все описываемые формы проявления этничности, будь то внешность людей, жилище или язык тела, неизменно характеризуются как особые, экзотические, «не наши»:
Все пленяет Леньку своей новизной. И море, и кипарисы, и буйволы. А какие здесь люди? На южном берегу не увидишь бородатого крестьянина! В деревне, через которую пришлось проходить, Ленька видел стройных людей, с черными жгучими глазами, в кругленьких барашковых плосковерхих шапочках. Сидят эти люди не на стульях, не на скамейках, а прямо на полу, подогнув под себя ноги. Вместо деревянных бревенчатых изб Ленька видит сложенные из дикого камня хибарки с маленькими четырехугольными отверстиями вместо окон [Байсутов 1928, 15].
Схожее описание этнического мира, тотально отличающегося от мира, привычного читателю, встречаем в книге «В горных аулах», посвященной Дагестану:
По обеим сторонам улицы белые домики с галерейками. Изредка на домиках вывески, покрытые арабскими буквами. <...> Навстречу идут люди в папахах, в черкесках, с кинжалами за поясами. Ручки изукрашены резной костью, насечками, шагов почти не слышно. Мягко ступают чувяки. Тем слышнее нерусский, чуждый нашему уху разговор [Пелка 1928, 49].
Использование арабской вязи в письменности — один из наиболее ярких, по мнению автора, маркеров инаковости, экзотизма. Повествователю кажется, что русскоязычный читатель не может не удивиться, узнав, что многие народы используют буквы арабского алфавита для письма, и в книге «В ущельях Кавказа» о Чеченской Автономной области он обращается к воображаемым читателям: «Видали ли вы когда-нибудь арабские буквы? Нет? <...> Разве в СССР живут арабы?» [Пелка 1928a, 4]. Таким образом, этничность оказывается равна экзотике, странности, новизне.
Визуальное оформление обложек книг усиливало экзотизацию народов, о которых шла речь в текстах. Обложки были выполнены в едином стиле: в рамке был помещен рисунок, изображающий представителя народа, о котором шла речь в книге, на фоне «типичного» национального ландшафта: гор, виноградников, юрт и т. д. (Рис. 1). Экзотизации изображений способствовал отбор атрибутов материальной культуры, максимально помещающих персонажей в этнический контекст. Это могли быть традиционная национальная одежда и головной убор (Рис. 2), используемые в хозяйстве животные (ишак, конь), поза (блюдо с фруктами, которое наездник держит на голове) (Рис. 3). Там, где лицо персонажа дано крупным планом, этническая принадлежность могла быть подчеркнута через стереотипные черты, такие как узкие глаза, выступающие скулы (Рис. 4).
Рис. 1. Обложка книги. Байсутов Н. У теплого моря: Как живут и чем промышляют крымские татары. М.: Работник просвещения, 1928
Рис. 2. Обложка книги. Байсутов Н. В песчаных степях: Как живут и чем промышляют туркмены. М.: Работник просвещения, 1927
Рис. 3. Обложка книги. Байсутов Н. Там, где растет хлопок: Как живут и чем промышляют узбеки. М.: Работник просвещения, 1927
Рис. 4. Обложка книги. Леонов Н. В степных просторах: Как живут и чем промышляют киргизы (казаки). М.: Работник просвещения, 1927
В то же время в книгах отражается подход к этничности в духе академической этнографии, при котором особенности быта, хозяйствования, ритуальных практик находят объяснение исходя из особенностей природной среды и целостного контекста культуры. Описывая отдельные элементы повседневности как непривычные, автор объясняет их смысл. Маленькие домики с плоской крышей и крошечными окнами, в которых живут крымские татары, идеально спасают от зноя летом. Чеченские сакли упираются своей задней стеной в скалу, чтобы быть устойчивее и освободить максимальную площадь земли под пашню. У каждого народа — свои бытовые привычки и ритуалы, но в большинстве своем они разумны, так как порождены особенностями природных условий, в которых проживает народ. Автор подчеркивает, что обычаи других народов при близком знакомстве с ними оказываются удобны и дают больший комфорт и безопасность, чем привычные читателям практики. Так, и у башкиров, на нарах, покрытых войлоком, удобно спать, во всяком случае, «удобнее, чем на грязном полу или на узких лавках в наших деревнях» [Амыльский 1929, 11]. Обычай омовения рук перед едой, практикуемый на Кавказе, характеризуется как «очень хороший» [Пелка 1928a, 9]. Даже описания ритуалов, которые большевистская пропаганда в эти годы характеризовала как «отсталые» и нуждающиеся в искоренении, например уплата калыма за невесту, практикуемая у народов Средней Азии и Кавказа, даны максимально смягченно, в духе культурного релятивизма. Рассказывая в книге «В степных просторах» о готовящейся свадьбе казахов, автор подчеркивает, что хотя отцы молодых сговорились об их браке, когда невеста и жених были еще детьми, совершающийся брак — по любви. «Джумарт обещает Айше, что она будет его единственной женой. Обещает он также Айше, что станет помогать ей в домашних хлопотах. Хороший парень Джумарт, оттого еще веселей поет Айше» [Леонов 1927a, 43]. Понимая, что в оценке феномена калыма этнографический подход вступает в конфликт с советскими идеологическими установками, автор всеми силами избегает выражения личной позиции, прибегая в описании свадьбы к сказовому слову. Рассказ идет от лица условного наблюдателя из местных, облеченного опытом и мудростью. «Теперь, говорят, выкуп за невесту — калым — отменяют. Разве можно торговать людьми? А в прежнее время продавали своих дочерей за калым. Джумарт, сын Саваныра, уже заплатил его, назад не возьмешь. Да разве жаль Джумарту отдать за веселую Айшу двадцать пять лошадей?» [Там же, 43].
Представление об этничности, при котором повседневная жизнь народа, привычки и обычаи находят объяснение в особенностях природной среды и глубинных культурных установках, составляло контраст с евроцентризмом дореволюционных изданий. В книгах Александрова все нерусскоязычные народы характеризовались как недостаточно цивилизованные и значительно уступавшие русским в части гигиены, моральных качеств и умственного развития. Сравнение описания башкир в книге Александрова «Степь: башкиры» и Леонова «В стране светлых лесов и степей» может служить примером такого контраста, так как оба автора пользуются одним источником — мемуарами С. Т. Аксакова «Семейная хроника». История покупки дедом автора С. Багровым земель в Бугурусланском уезде, традиционной территории проживания башкир, дает толчок двум разительно отличающимся нарративам. Александров использует воспоминания Аксакова о потенциальной возможности подпоить башкирских старшин и за бесценок получить во владение башкирские земли (возможность, которой дед Багров не воспользовался), как доказательство низких моральных качеств башкир, их склонности к лени и тунеядству. Башкиры в книге Александрова живут в бедности, голодают, продают земли за бесценок, и в целом вымирают «за недостатком умственного развития» [Александров 1900, 35]. В книге Леонова история покупки земель русским землевладельцем использовалась как пример российской колонизации, повлекшей обеднение местного населения и, в конечном счете, его радикализацию. От несправедливого захвата земель русскими эксплуататорами в XIX в. прямая линия вела к вспышкам башкирского национализма в ХХ в., которые были преодолены советской властью, гарантировавшей народу самоуправление в рамках автономии. В книге Леонова башкиры предстают как уникальный самобытный народ, отличающийся трудолюбием, гостеприимством, заботой о детях, стремлением к красоте одежды и жилища.
От традиционных ремесел к индустриальной модерности
Особенности хозяйствования, традиционных занятий и ремесел играли большую роль в описании народов в цикле, что соответствовало подзаголовку изданий — «как живут и чем промышляют». В книге «В песчаных степях» подробно рассказывается о мастерстве туркменских женщин, ткущих прочные и очень красивые ковры, «которые могут быть в употреблении десятки и даже сотни лет, не теряя своей прочности и красоты» [Байсутов 1927, 20–21]. Целый раздел книги «В горных аулах» рассказывает об уникальных мастерах села Кубачи в Дагестане, известных выделкой оружия, медной посуды и металлических украшений. Иллюстрации в книге включают фотографии мастерских, зарисовки различных типов инструментов, а также используемых в гравировке видов орнамента [Пелка 1928,12–16].
Подробно описаны опыт и умения декхан в Узбекистане в рытье арыков, позволивших народу «отвоевать у пустыни землю для посева» [Байсутов 1927a, 32]. Несмотря на восторженные характеристики традиционных практик, автор почти всегда подчеркивает их обреченность перед лицом новых технологий массового производства товаров. «Это ремесло в Кубачах умирает. Слишком мало возможностей у кустаря-литейщика соперничать с фабричным товаром», — комментирует рассказчик свое знакомство с ремесленниками Дагестана [Пелка 1928, 24]. Невозможность приспособить традиционные технологии к реалиям массового потребления проявляется и в производстве туркменских ковров: «Качество туркменских ковров стало заметно ухудшаться с того времени, когда появилась возможность продавать их» [Байсутов 1927, 24]. Таким образом, автор делает вывод о том, что традиционные технологии хозяйствования обречены уйти в прошлое вместе с традиционным укладом жизни.
В советской идеологии траектория развития народов мыслилась как переход от феодального или даже родового общества к социализму, минуя промежуточные стадии. Ф. Хирш определила эту идеологию как «государственный эволюционизм», основанный на марксистской теории стадиального общественного развития [Хирш 2022]. Поэтому единственной возможной перспективой сохранения народных промыслов являлось их вхождение в большую экономику советской страны, превращение местного экономического ресурса в ресурс государства. В завершающих главах книг автор описывал начавшиеся преобразования в экономике, позволяющие этническим территориям стать частью универсальной социалистической модерности. К примеру, узбекский хлопок, собираемый вручную, обеспечивает производительность «фабрик Союза»: «Все мы с вами носим белье и рубашки из ситца, бязи и бумажного полотна. Все мы к этому так привыкли, что нередко забываем, что у нас не было бы этих необходимейших вещей, если бы где-то, в жарких странах нашего Союза республик, узбекские декхане не разводили на своих полях хлопчатник. <...> Много миллионов рабочих рук в нашем Союзе осталось бы без заработка, если бы узбекский декханин перестал сеять хлопок» [Байсутов 1927а, 50–51]. Крымские виноград и табак поставляются «в Москву, в Ленинград и в другие города» [Байсутов 1928, 26–27].
Рамка модерности, возникающая в финале каждой из книг, чревата дискурсивной унификацией: культуры, чей самобытный уклад был описан в книгах с большой заинтересованностью, подробностями и пониманием, демонстрируют в последних главах книг похожие, повторяющиеся черты. Так, отдельные регионы предстают не как места проживания национальностей, а как кладовые ресурсов. К примеру, казахи на местном сходе рассуждают о «богатствах» своей земли, которые — не только в «овечьих стадах, добрых скакунах и тучных пастбищах», но и в том, что скрывается в недрах земли. Это — «золото, серебро, свинец, уголь и нефть» [Леонов 1927a, 54]. Триумфом экономики нового Дагестана объявляется стекольный завод «Дагестанские огни», работающий на прежде не использованных подземных газах на побережье. «Газ ныне взят в чугунные трубы. Подземные газы дают заводу даровое топливо. <...> Для приготовления стекла из материалов нужны: кварц, известь, мел, сода, глина. Все это имеется вблизи завода» [Пелка 1928, 53].
Следуя идеологии «государственного эволюционизма», требовавшей показа развития экономик «отсталых» народов в сторону социализма, автор в финале работ фактически отказывается от этнографического взгляда на территории, что оборачивается дискурсивным дефицитом. Автору довольно сложно сказать что-то определенное о новой жизни древних территорий и он ограничивается стереотипными фразами, например: «Растет новое поколение узбеков. Растет Узбекистан — страна узбеков» [Байсутов 1927a, 63]. Или: «Пройдет еще ряд лет, и старина отступит еще глубже перед лицом трактора, заводской трубы и яркого света от водяных электростанций. Строится новый Дагестан» [Пелка 1928, 56]. Тем самым издания, призванные знакомить читателей с разнообразием национального состава страны, культивируя этнографическую «чувствительность», в финале делали выбор в пользу безразличной и универсальной модерности.
Заключение
Формирование в начале 1920-х гг. нового политического и территориального образования — Союза Советских Социалистических Республик — происходило не только на фронтах войны и в кабинетах политиков, но и в пространстве коллективного воображаемого, по мере того как образы новой советской территории, создаваемые картографами, географами, а также писателями, кинематографистами, журналистами и т. д. овладевали массовым сознанием. В статье проанализирован пример создания воображаемой советской географии в серии изданий для детей 1920-х гг., посвященных народам СССР и территориям, на которых они проживали. СССР в серии книг Н. И. Леонова представал как страна, населенная различными народами, которые были исторически связаны с территориями, на которых они проживали. Модель географического устройства распадалась на центральную часть, которая не была этнически маркирована и к которой территориально принадлежали повествователь и предполагаемые читатели текста, и территории национальных окраин — иерархическая конструкция, в которой привилегия видения и рассказывания принадлежит субъекту, находящемуся в смысловом и географическом центре.
Сравнение книг цикла с дореволюционными изданиями по народоведению Н. А. Александрова «Где на Руси какой народ живет и чем промышляет», на который опирался Леонов, показало, что образы природных и климатических условий, характерные для различных территорий страны, претерпели значительную трансформацию между текстами рубежа XIX–XX вв. и конца 1920-х гг. Если в изданиях до 1917 г. природа страны представала как враждебная человеку и чреватая катастрофами, то в книгах 1927–1929 гг. природные условия описаны как в целом благоприятные для жизни и хозяйствования.
Структура повествования в книгах отражала сложную диалектику этнизации и нормализации, чужого и своего. С одной стороны, описываемые народы характеризовалась как другие, экзотические, «не наши». В то же время элементы чужой культуры описывались в их глубокой укорененности в природных и климатических условиях, истории народа и потому разумные и объяснимые. Траектория развития народов мыслилась как переход от архаических и потому самобытных способов хозяйствования к универсальной советской модерности. Однако наступление индустриальной модерности неизбежно изменяло значение территорий: из мест проживания народов они превращались в ресурсы для экономики государства. В финале всех книг этнографический взгляд на территории уступает прагматическому, при котором акцент делается на ресурсный потенциал региона в большой экономике страны.
Источники
Александров 1898 — Александров Н. А. Крым (Таврический полуостров). [9]. / сост. по исслед. Ф. Каница и др. позднейшим источникам Н. А. Александровым. М.: А. Я. Панафидин, 1898. (Где на Руси какой народ живет и чем промышляет: чтение для народа).
Александров 1900 — Александров Н. А. Степи: башкиры. [13] / сост. по исслед. Ф. Каница и др. позднейшим источникам Н. А. Александровым. М.: А. Я. Панафидин, 1900. (Где на Руси какой народ живет и чем промышляет: чтение для народа).
Амыльский 1929 — Амыльский Н. [Леонов Н. И.] В стране светлых лесов и степей: Как живут и чем промышляют башкиры. М.: Работник просвещения, 1929. (Читальня советской школы. 3-й год издания; № 38).
Байсутов 1927 — Байсутов Н. И. [Леонов Н. И.] В песчаных степях: Как живут и чем промышляют туркмены. М.: Работник просвещения, 1927. (Читальня советской школы; № 18–19).
Байсутов 1927a — Байсутов Н. И. [Леонов Н. И.] Там, где растет хлопок: Как живут и чем промышляют узбеки. М.: Работник просвещения, 1927. (Читальня советской школы; № 24–25).
Байсутов 1928 — Байсутов Н. И. [Леонов Н. И.] У теплого моря: Как живут и чем промышляют крымские татары. М.: Работник просвещения, 1928. (Читальня советской школы. 2-й год издания; № 1–2).
Леонов 1927 — Леонов Н. И. По берегам северных морей: Как живут и чем промышляют поморы. М.: Работник просвещения, 1927. (Читальня советской школы; № 4–5).
Леонов 1927а — Леонов Н. И. В степных просторах: Как живут и чем промышляют киргизы (казаки). М.: Работник просвещения, 1927. (Читальня советской школы; № 7–8).
Пелка 1927 — Пелка В. [Леонов Н. И.] В лесах Заволжья: Как живут и чем промышляют люди в лесной полосе СССР. М.: Работник просвещения, 1927. (Читальня советской школы; № 36–37).
Пелка 1928 — Пелка В. [Леонов Н. И.] В горных аулах: Как живут и чем промышляют жители Дагестана. М.: Работник просвещения, 1928. (Читальня советской школы. 2-й год изд.; № 48).
Пелка 1928а — Пелка В. [Леонов Н. И.] В ущельях Кавказа. М.: Работник просвещения, 1928. (Читальня советской школы. 2-й год изд.; № 46).
Шер 1928 — Шер Н. С. Маленькая Кэть: как живут вогулы. М.: Работник просвещения, 1928. (Читальня советской школы. 2-й год издания; № 22–23).
Примечания
1 Одну из книг, входящую в серию, «Маленькая Кэть: как живут вогулы» (1928), написала детская писательница Надежда Сергеевна Шер (1890–1876). Тема народоведения увлекала ее в 1920-е гг., результатом чего стало несколько детских книг, использующих этнографические образы. В последующие годы Шер в своем творчестве специализировалась на биографиях русских писателей и русских художников.
2 Термин «этнографическая беллетристика» используется историками российской этнографии для обозначения народоведческой литературы, созданной вне академического канона и часто предназначенной для массового читателя. См., например: [Терюков 2011, 160].
Об авторах
Наталья Анатольевна Черняева
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: n.a.chernyaeva@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-8631-454X
Россия, Санкт-Петербург
Список литературы
- Горбачев 2018 — Горбачев О. В. Концепция советского пространства: от материальности к мифу // Советский проект. 1917–1930-е гг.: этапы и механизмы реализации: сборник статей / отв. ред О. В. Горбачев. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 151–164.
- Костецкий 2008 — Костецкий В. А. Средняя Азия — вторая родина Н. И. Леонова // Россияне в Узбекистане / авт.-сост. В. А. Костецкий. Ташкент: Нихол, 2008. С. 212–214.
- Лескинен 2012 — Лескинен М. В. Образы страны и народов Российской империи в учебниках для начальной школы второй половины XIX века: Формы репрезентации этничности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2012. № 2. С. 92–117.
- Неруш 2021 — Неруш В. О. Учебные планы для «северян»: об одном межведомственном конфликте в Ленинграде в 1925–1930 гг. // Гуманитарный акцент. 2021. № 1. С. 70–78.
- Орлова 2004 — Орлова Г. А. Овладеть пространством: физическая география в советской школе (1930-е–1960-е гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 4. С. 163–185.
- Сенькина 2012 — Сенькина А. А. Последний авангардный проект советской школы: журналы-учебники 1930–1932 гг. // Отечественная и зарубежная педагогика. 2012. № 4 (7). С. 60–91.
- Слезкин 2001 — Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этическую обособленность // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: антология / сост. М. Девид-Фокс. Самара: СГУ, 2001. С. 329–374.
- Терюков 2011 — Терюков А. И. История этнографического изучения народов коми. СПб.: Кунсткамера, 2011.
- Tокарев 1966 — Токарев С. А. История русской этнографии (Дооктябрьский период). М.: Наука, 1966.
- Хирш 2022 — Хирш Ф. Империя наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза / пер. с англ. Р. Ибатуллин. М.: Новое литературное обозрение, 2022.
- Черняева 2024 — Черняева Н. А. «Как живут и чем промышляют» северные народы: стратегии репрезентации коренных народов Севера и Сибири в изданиях для детей 1920–1930-х гг. // Сибирские исторические исследования. 2024. № 2. С. 15–45.
Дополнительные файлы