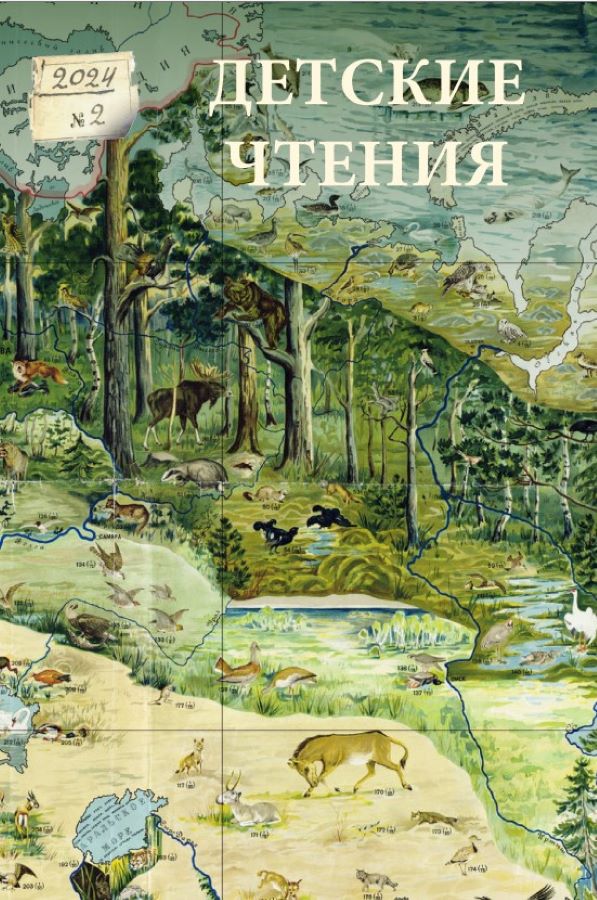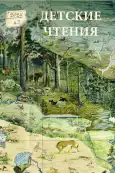A good place to live: Ordinary and not quite ordinary spaces in Nikolai Nosov’s Prose of the 1940s–1950s
- Authors: Savkina I.
- Issue: Vol 26, No 2 (2024)
- Pages: 184-209
- Section: RESEARCH
- URL: https://journal-vniispk.ru/2304-5817/article/view/280792
- DOI: https://doi.org/10.31860/2304-5817-2024-2-26-184-209
- ID: 280792
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines the short stories and novels of the Soviet children’s writer Nikolai Nosov (1908–1976), primarily written in the 1940s–1950s. The main focus of the research interest is the everyday spaces depicted in these texts, such as the school, house, yard, dacha, and pioneer camp. In the framework of the method of «cultural geography», these toposes are understood not only as concrete material objects but also as ideological and symbolic spaces. The analysis of key, iconic locations in Nosov’s prose of the 1940s–1950s leads to the conclusion that his books normalise the representation of the Soviet school and Soviet childhood. The topoi of the world in which Nosov’s characters live are portrayed as the normal, desirable, «correct» space of life here and now, without constant looking back at the revolutionary perestroika in the past or the desire to move to a utopian future. It can be argued that Nosov contributed to creating an illusory and ideologically laden image of the Soviet school (yard, pioneer camp) and the Soviet country as the best place for life — at least for children.
Full Text
О Н. Н. Носове и задачах данной статьи
Николай Николаевич Носов (1908–1976) — один из любимых писателей моего детства. Витю Малеева, Толю Клюквина, «затейника» Мишку и, конечно, Незнайку со всеми его пятнадцатью друзьями с улицы Колокольчиков я, как и большинство моих собратьев и «сосестер» по советскому детству, знала, можно сказать, в лицо. Любопытно, что такие же признания в Интернете можно услышать и от читателей, чье детство пришлось на постсоветские годы, и даже от современных детей.
Носов начал писать веселые рассказы для детей еще до войны, а в 1945, 1946, 1947 гг. один за другим вышли сборники его произведений для школьников1. За повесть «Витя Малеев в школе и дома» (1951) писатель получил в 1952 г. Сталинскую премию третьей степени. В 1954 г. Носов закончил работу над первой частью своей знаменитой трилогии про приключения Незнайки его друзей. (Вторая часть трилогии «Незнайка в солнечном городе» написана в 1958 г., третья — «Незнайка на Луне» в 1964–1965 гг.).
В сборнике критических статей и рецензий на тексты Носова, вышедшем в 1985 г. [Миримский 1985], авторы один за другим повторяют, что главными достоинствами его произведений являются знание детской психологии, простота, юмор и отсутствие угрюмой назидательности, учительского тона, особо подчеркивая, что все перечисленное было не слишком характерно для современной Носову детской литературы (особенно в первой половине 1950-х гг.). В центре внимания исследователей — анализ героев носовских текстов, их характеров и взаимоотношений, а также приемов, создающих юмористический эффект.
В данной статье мне хочется посмотреть на тексты Носова конца 1930-х — начала 1950-х гг. под другим углом зрения — через призму анализа пространства, изображенного в этих непритязательных, на первый взгляд, историях о советских школьниках и сказочных малышах и малышках.
Цель статьи состоит не только и не столько в том, чтобы найти и перечислить топосы, встречающиеся в рассказах и повестях, — это сделать несложно: местом развития событий чаще всего является улица (не так уж существенно, называется ли она улицей Колокольчиков или Третьим Каширским переулком), дом, двор, школа/класс, дача. Но более важно, на мой взгляд, понять, что эти изображенные локации при всей их узнаваемости являются «реально-воображаемыми» местами, несущими символическую нагрузку, идет ли речь о сказочном Цветочном городе или об обычной советской школе. Анализ пространства с использованием подходов культурной географии, на мой взгляд, поможет дать ответ на вопросы, где, как и для чего живут герои Носова и куда писатель хочет привести своих читателей — какой мир предлагается им как нормальный; как желаемое, «правильное» пространство жизни.
Пространство как объект научного анализа
За последние тридцать с лишним лет подходы к изучению пространства заметным образом изменились. Пространство перестало быть только географическим понятием, а стало интерпретироваться как культурно нагруженная категория, как носитель социальных и символических значений. В российской научной традиции к такому пониманию пространства уже ранее подходили Михаил Бахтин с его идеей хронотопа [Бахтин 1975] и Юрий Лотман, в чьих работах по культурной семиотике через анализ пространственных моделей обсуждалось конструирование/деконструирование непространственных иерархий [Лотман 1996].
В работах ученых начала XXI в. понимание пространства (и особенно изображенного пространства) как социального конструкта, в котором материальные параметры неотделимы от ментальных, стало «общим местом». Возникло научное направление «гуманитарной или культурной географии», в рамках которого ученые из разных дисциплин (философы, географы, урбанисты, культурологи) понимают пространство не только как конкретный материальный объект, но и как объект идеологический, символически нагруженный. Важным способом идеологического производства пространства является его репрезентация в искусстве: литературе, живописи, фотографии, кино и других видах медиа. Наше представление о реальных местах всегда имеет некий имажинальный компонент, опирающийся не только на наш собственный физический опыт, но и на «навязанные» нам культурные интерпретации. «Именно в этом смысле, — пишут Биргит Нойман и Ян Рупп, — мы должны понимать тезис Эдварда Соджи о реальных-и-воображаемых пространствах [Soja 1996, 11]. Эта концепция отсылает к динамичным, многоуровневым отношениям, которые существуют между физическими пространствами и вымышленной образностью культуры, то есть к совокупностям знаний норм и ценностей в том виде, в котором они проявляются в разных культурных средах» [Нойман, Рупп 2015, 34]2.
В исследованиях детской литературы подобный подход используется не очень активно. Однако нельзя не назвать сборник «Maps and Mapping in Children’s Literature. Landscapes, Seascapes and Cityscapes» («Карты и картографирование в детской литературе. Изображения/пейзажи земель, морей и стран»). Авторы вошедших в его состав статей пытаются исследовать феномены, возникающие на пересечении понятий детство, литература и география/карта/картографирование. Составители и редакторы сборника Нина Гога и Беттина Кюммерлинг-Майбауер замечают в предисловии, что новые методологические подходы «...можно перенести на исследование карт в детской литературе, касается ли это исторических изменений в изображении карт в детских книгах от эпохи Просвещения до наших дней, различий между разными типами карт, когнитивных способностей, необходимых ребенку-читателю для полного понимания смысла карт, многообразных функций карт в разных жанрах или тесной связи между картами, идеологией и властными отношениями» [Goga, Kümmerling-Meibauer 2017, 4]. Авторы статей сборника делают основной упор на исследование функций географических карт реальных, и — особенно — вымышленных, фантастических мест, в интересе к которым проявляется стремление ребенка познавать и создавать (с помощью фантазии) неизведанное, экзотическое. Однако в предисловии к сборнику составители пишут и о применимости к детской литературе подходов гуманитарной географии. Эта методология, как уже было отмечено, настаивает на том, что не только вымышленные, но и существующие в реальности пространства и места всегда в большой степени воображаемы — в том смысле, что их описание, их репрезентация как в художественной литературе, так и в свидетельствах обычных людей никогда не бывает «нейтральна»: это всегда некая сознательная или бессознательная идеологическая конструкция, возникающая в контексте важных, доминантных для автора дискурсов и символических значений. Большинство ученых анализирует с подобных позиций город и городское пространство: исследует то, как символические представления о городе влияют на реальное городское пространство и на его восприятие, и наоборот.
Но ведь то же самое мы можем сказать и о таком топосе, как школа. Что мы имеем в виду, когда употребляем, например, понятие «советская школа»? Насколько советская школа — это воображаемое пространство, вычитанное в книгах, увиденное в кино и пропетое в песнях, а насколько — реальное? В статье Евгения Добренко отмечается, что образ советской школы в литературе — программная конструкция, имеющая мало общего с реальной школой [Добренко, 2013]. Это безусловно так. Однако откуда мы берем сведения о «реальной школе» прошлых лет? Если мы пытаемся сравнивать литературный образ школы с реальной школой, опираясь на свидетельства очевидцев — воспоминания или дневники (в том числе собственные), то со всей очевидностью обнаруживаем, что описания школы, сделанные в школьные годы или позже, во-первых, чрезвычайно различны, а во-вторых, — что еще важнее — в высшей степени не свободны от влияния тех идеологических конструктов, которые «запрограммированы» в литературе3, и в тех случаях, когда авторы эготекстов их одобряют, и тогда, когда полемизируют с ними. Вера Лебедева-Каплан, одна из участниц обсуждения статьи «Школьный вальс» известного британского культуролога Катрионы Келли, отмечает, например, что критический пафос воспоминаний респондентов Келли о своем школьном опыте времен оттепели во многом определяется тем, что они соотносят его «с тем образом школы, который сформировался в исследуемый период литературой, театром и особенно кинематографией» [Лебедева-Каплан 2006, 38].
Таким образом, исходя из обозначенных выше представлений о пространстве и способах его репрезентации, мы можем с уверенностью предположить, что анализ пространственных образов в литературных текстах позволяет не только понять, где происходит действие, но и ответить на вопрос — какие идеи, концепции, представления о норме транслируются через изображение таких «говорящих» мест. В детской литературе, одна из целей которой — передать юному читателю представления о норме и аномалии, своем/чужом, прекрасном/чудовищном и т. п., изображенное пространство не может быть идеологически нейтральным «по определению».
Школьная повесть 1930–1950-х годов
Исследователь советской школьной повести времен «зрелого» сталинизма Евгений Добренко отмечает, что задачу создать детскую повесть, рассказывающую советским детям о современной «моральной, здоровой и веселой» школе озвучил в своем выступлении на первом совещании, посвященном детской литературе, состоявшемся в ЦК ВЛКСМ в 1936 г. С. Я. Маршак, предложивший и термин «школьная повесть» [Добренко 2013, 193–194].
В отличие от таких исследователей, как Светлана Бурдина и Ольга Шумилова, которые считают, что советские школьные повести 1930-х гг. рассказывали в основном про беспризорников и их социализацию, расцвет школьной повести пришелся на 1960–1980-е гг., а 1950-е гг. были своего рода лакуной в развитии жанра [Бурдина, Шумилова 2016], Е. Добренко убедительно показывает, что именно в 1940–1950-е гг. произошло и изобретение жанра советской школьной повести, и его шаблонизация в текстах М. Полежаевой, И. Карнауховой, А. Алексина, В. Осеевой, Ф. Вигдоровой, А. Мусатова, Н. Носова и др. Главной задачей книг о «буднях школы» по Добренко было приобщение ребенка «к коллективному духу: через это чтение ребенок оказывается в сети знаков и значений, из которой нет выхода. В них он легко обнаруживается, идентифицируется и в конечном счете контролируется и нормализируется» [Добренко 2013, 195]. Деформализируя дисциплинарный институт — школу, изображая учебу как радость и удовольствие, школьная повесть таким образом камуфлирует, «упаковывает» насилие, делая его невидимым, — к такому выводу приходит Добренко. «Занятая постоянным «утеплением» и обустройством повседневности, она настойчиво описывала несуществующий уют, в котором якобы живут взрослые и дети» [Добренко 2013, 202]. Главным инструментом воздействия послевоенной школьной повести на читателя, по мысли исследователя, была стилевая патетика, а неповторимую атмосферу жанра составляла смесь эпоса и быта [Добренко 2013, 203].
Мария Майофис в статье «Как надо читать «Витю Малеева в школе и дома»», рассматривая повесть Носова в идеологическом контексте своего времени, показывает, что автор, создавая текст, прямо выполнял политический и социальный заказ. Главной проблемой советской школы конца 1940-х — начала 1950-х гг. была катастрофическая неуспеваемость, так как очень многие школьники не справлялись со школьной программой. «Чтобы исправить эту ситуацию, в феврале 1949 года Министерство просвещения РСФСР и Отдел школ ЦК ВКП(б) сформулировали вполне четкий заказ советским детским писателям: создать произведения в жанре школьной повести, в которых были бы изображены случаи успешного преодоления этих проблем» [Майофис 2017]. Майофис показывает, как в своей повести Носов пытается следовать инструкциям Министерства просвещения, изображая способы борьбы за успеваемость и методы превращения двоечника в отличника с помощью самодисциплины и принципа коллективной ответственности.
Социальный, политический и жанровый контекст, в котором существуют тексты Носова, к анализу которых мы теперь собираемся обратиться, несомненно, очень важен. Но, выбрав для пристального рассмотрения лишь одного писателя и сосредоточившись только на одном аспекте его произведений, а именно на репрезентации пространства, мы будем стремиться продемонстрировать и то, что сближает Носова с авторами-современниками, и то, что выделяет избранного автора в ряду других и делает его тексты не только показательным для своего времени феноменом, но и любимыми книгами нескольких поколений детей.
В школе и дома
В повести Носова «Витя Малеев в школе и дома» (1951), как и в любом произведении, относящемся к жанру школьной повести, школа и класс — естественное и непременное место действия. В названии повести есть, казалось бы, некое противопоставление школы и дома, но в самом тексте эти два топоса отнюдь не контрастны. Уже на самой первой странице школа сравнивается с домом, где тебя ждут, где тебе всегда рады, куда хочется и нужно возвращаться:
Я был рад, что снова увижу свой пионерский отряд, всех ребят-пионеров из нашего класса и нашего вожатого Володю, который работал с нами в прошлом году. Мне казалось, будто я путешественник, который когда-то давно уехал в далекое путешествие, а теперь возвращается обратно домой (курсив мой — И. С.) и вот-вот скоро уже увидит родные берега и знакомые лица родных и друзей. <...> Еще издали я увидел над входом в школу большой красный плакат. Он был увит со всех сторон гирляндами из цветов, а на нем было написано большими белыми буквами: «Добро пожаловать!» Я вспомнил, что такой же плакат висел в этот день здесь и в прошлом году, и в позапрошлом, и в тот день, когда я совсем еще маленьким пришел первый раз в школу. <...> Все это вспомнилось мне, и какая-то радость встрепенулась у меня в груди, будто случилось что-то хорошее-хорошее! Ноги мои сами собой зашагали быстрей, и я еле удержался, чтоб не пуститься бегомНосов 2006, 4–54.
Школа — пространство понятное, родное и желанное. Где-то существуют другие города — такие, например, как далекая Москва, где навсегда «исчезает» переехавший туда Витин друг. Где-то есть Крым и море, о котором, как ни силится, не может ничего внятного рассказать одноклассник Глеб Скамейкин, повторяя только, что море большое и воды в нем много: «Вот как много воды, ребята! Одним словом, одна вода!» [7]. Но вся эта экзотика — для взрослых, таких как вожатый Володя, путешествовавший летом с товарищами на резиновой лодке. Освоение чужих пространств, о которых только начинают рассказывать на уроках нового для Вити предмета — географии, — это мечта и дело далекого будущего, весьма еще гипотетического: «А вдруг, когда я вырасту (курсив мой — И. С.) и сделаюсь знаменитым путешественником или летчиком (я уже давно решил стать знаменитым летчиком или путешественником), вдруг тогда кто-нибудь увидит эту старую газету и скажет: «Братцы, да ведь он в школе получал двойки!»» [45].
Но здесь и сейчас герои пребывают в своем, безопасном, комфортном, несмотря на небольшие конфликты вокруг стенгазеты и успеваемости, школьном пространстве. Школа светла, чиста, неизменна, в ней тебя ждут братья-одноклассники и «вторые родители»: мягкая понимающая учительница и строгий, но справедливый директор. Школа — это место творчества и отдыха. Она вмещает в себя и двор, пространство игры и развлечений. Футбольное поле, где ребята проводят все вечера, находится позади школы, фактически примыкая к ней, а баскетбольная площадка оборудована в школьном зале.
Подобное изображение школы весьма характерно для текстов того времени. Как пишет Инна Сергиенко: «Школа в предвоенной и послевоенной прозе для детей — это светлый и радостный мир, своего рода Дом, в силу своей государственной природы, может быть, даже более значимый, чем дом родительский. Школа описывается в теплых, мажорных тонах: лучи солнца, освещающие класс, ветки деревьев, стучащиеся в школьные окна (золотые — осенью, покрытые первой листвой — весною), трель звонка, шум перемены, капель за окном. Устойчивые эпитеты «светлый» и «просторный», характеризующие школьные помещения, становятся непременными атрибутами и своеобразными клише школьной прозы и создают вполне определенный образ» [Сергиенко 2005, 60].
Однако если сравнить описание школы в произведении Носова с повестями Марии Полежаевой «С тобой товарищи» (1949) или с трилогией Валентины Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи» (1947–1951), то заметна и существенная разница. У Осеевой и еще в большей степени у Полежаевой школа — это место светлое и чистое, но строгое; перешагнув школьный порог, попадаешь в мир дисциплины и иерархии. Это место испытания на «правильность», место, где постоянно происходят собрания и разбирательства, борьба за лидерство. У Носова же пространство школы прежде всего дружеское и безопасное.
Родительский дом изображен в повести Носова как пространство, можно сказать, менее уютное, чем школа. У Вити Малеева полная семья: отец, мать и сестренка, но все они дома трудятся. Мать и сестра шьют и штопают, а для отца дом — продолжение цеха: «Мой папа работает на сталелитейном заводе модельщиком. <...> Когда папа приходит с работы, он всегда сначала отдохнет немного, а потом садится за чертежи для своего прибора или читает книжки, чтоб узнать, как что нужно сделать, потому что это не такая простая вещь — самому придумывать шлифовальный прибор» [22].
Если школа — второй дом, то дом Вити Малеева — это своего рода вторая школа, точнее второе рабочее место для него и родителей: «Папа поужинал и засел за свои чертежи, а я засел делать уроки» [22].
Для друга Вити, Кости Шишкина, дом — гораздо менее привлекательное место, чем школа. «За лето нашу школу отремонтировали. Стены в классах заново побелили, и были они такие чистенькие, свежие, без единого пятнышка, просто любо посмотреть. Все было как новенькое. Приятно все-таки заниматься в таком классе! И светлей кажется, и привольней, и даже, как бы это сказать, на душе веселей» [25], — так описана школа.
Иначе описан деревянный старый домишко, где живут Шишкины: «Мы вошли в парадное, поднялись по скрипучей деревянной лестнице с щербатыми перилами, и Шишкин постучал в дверь, обитую черной клеенкой, из-под которой в некоторых местах виднелись клочья рыжего войлока» [30]. Отец Кости погиб на войне, мать и тетя почти все время на работе, и Шишкин дома одинок и предоставлен себе, проводит время в обществе белых мышей или подобранной им на улице собаки Лобзика. Нельзя сказать, что Костя или тем более Витя не любимы в семье, но все-таки лучше всего им живется в школе. Родители любят своих детей, но работа для них важнее: «Если бы я стал решать задачу сам, то мама увидела бы, что я до сих пор не сделал уроки, и стала бы упрекать меня, что я откладываю уроки на ночь, папа взялся бы объяснять мне задачу, а зачем мне отрывать его от работы! Пусть лучше чертит чертежи для своего шлифовального прибора или обдумывает, как лучше сделать какую-нибудь модель. Для него ведь все это очень важно» [35], — так размышляет Витя, с одной стороны, констатируя факт, а, с другой, находя в этом удобное оправдание собственной лени.
Когда Шишкин, боясь получить плохие оценки, перестает ходить в школу, он становится бродягой, который шатается по отдаленным, холодным, даже враждебным улицам (ему кажется, что все прохожие смотрят на него с подозрением) и заходит погреться в чужие незнакомые магазины. Вечером он возвращается к матери и тете, в свою квартиру, но без школы чувствует себя бездомным: «Все ребята как ребята: утром встанут — в школу идут, а я как бездомный щенок таскаюсь по всему городу, а в голове мысли разные» [146].
Школа изображается не только как место учебы, а именно как дом: светлый, теплый, где все стремятся поддержать друг друга. С этого родного порога ребенок уйдет только когда придет время повзрослеть. Но, как показано в повести, во взрослой жизни у героя повести (и ее читателя) будет другой «дом»: советская страна, государство, где у повзрослевшего человека больше возможностей и обязанностей, но воспроизводятся те же отношения, что в школе-доме: тебя окружают добрые и строгие учителя и верные друзья-помощники. Такой концепт государства-дома, который, конечно, перекликается со сталинским мифом о великой семье [см. Кларк 1992], возникает в главах повести, рассказывающих о праздновании годовщины Октябрьской революции, в которых день рождения государства описывается как семейный, домашний праздник, а Витя, выглянув из окна, видит мысленным взором всю страну, и описывается это воображаемое пространство практически теми же словами, которыми описана любимая школа:
Я проснулся рано-рано и сразу подбежал к окошку, чтобы взглянуть на улицу. Солнышко еще не взошло, но уже было совсем светло. Небо было чистое, голубое. На всех домах развевались красные флаги. На душе у меня стало радостно, будто снова наступила весна. Почему-то так светло, так замечательно на душе в этот праздник! Почему-то вспоминается все самое хорошее и приятное. Мечтаешь о чем-то чудесном, и хочется поскорей вырасти, стать сильным и смелым, совершать разные подвиги и геройства: пробираться сквозь глухую тайгу, карабкаться по неприступным скалам, мчаться на самолете по голубым небесам, опускаться под землю, добывать железо и уголь, строить каналы и орошать пустыни, сажать леса или работать на заводе и делать какие-нибудь новые замечательные машины [67–68].
Здесь географическое пространство (тайга, скалы, пустыни, леса) срастается с пространством социального действия: сквозь тайгу надо пробираться, на неприступные скалы восходить, пустыни орошать, леса сажать, а также строить каналы и работать на заводе. Страна — это дом, это место, где светло, чисто и весело (как и в школе) и где «все принадлежит народу. Значит, мне тоже принадлежит все, потому что я тоже народ» [69]. Страна принадлежит тебе, но и ты принадлежишь стране.
Повесть о Вите Малееве — веселая, неназидательная, герои ее обаятельны и не похожи на образцовых мальчиков, но, анализируя пространство, мы можем увидеть, насколько оно нагружено идеологическими смыслами и создает образ советской школы и советской страны как единственно возможного нормального, своего пространства, не менее родного и необходимого, чем родительский дом.
Не в школе и не дома: пространства приключения
Кроме Вити Малеева и Кости Шишкина в творчестве Носова есть и другие ключевые герои. Несколько популярных (по крайней мере в свое время) рассказов посвящены жизни и приключениям озорника Мишки и его друга, от лица которого ведется повествование. Это «Мишкина каша» (1938), «Бенгальские огни» (1938), «Автомобиль» (1939), «Тук-тук-тук», (1944), «Огородники» (1945), «Наш каток» (1946), «Телефон» (1946), «Дружок» (1947). Действие большинства из них происходит не в школе и даже не дома, хотя тот и другой топос появляются в нескольких рассказах. Самые важные и интересные приключения случаются в деревне, на даче, в пионерском лагере, в поле и в лесу.
Замечательно нам с Мишкой жилось на даче! Вот где было раздолье! Делай что хочешь, иди куда хочешь. Можешь в лес за грибами ходить или за ягодами или купаться в реке, а не хочешь купаться — так лови рыбу, и никто тебе слова не скажет. Когда у мамы кончился отпуск и нужно было собираться обратно в город, мы даже загрустили с Мишкой. Тётя Наташа заметила, что мы оба ходим как в воду опущенные, и стала уговаривать маму, чтоб мы с Мишкой остались ещё пожить. Мама согласилась и договорилась с тётей Наташей, чтоб она нас кормила и всякое такое, а сама уехалаНосов 2018, 135,
— так начинается рассказ «Дружок».
Там же, на дачном приволье, происходит действие рассказа «Мишкина каша». В ту же деревню Горелкино, где жили летом у тети Наташи, друзья отправляются 31 декабря за елкой в «Бенгальских огнях». Деревня или точнее «загород» в этих рассказах, в отличие от школы и дома Вити Малеева, — пространство природное, незамкнутое, свободное, «раздольное», в прямом и переносном смысле «безграничное». В этих загородных пространствах взрослых практически нет, точнее они появляются лишь спорадически, чтобы уехать, как мама, или помочь и уйти, как тетя Наташа. Загородное приволье — это пространство приключения. Да и поезд, в котором начинаются приключения, едет не в экзотические «дальние страны», а в места вполне обычные и достижимые.
Здесь мы можем указать на существенное отличие названных рассказов Носова от тех произведений, которые Добренко в своей статье определяет термином «каникулярная повесть», считая ее поджанром повести школьной. Во всех этих книгах школьники так или иначе оказываются в сельской местности (едут на каникулы к бабушкам, тетям и дядям и т. д.), где они помогают взрослым и открывают «большой мир забот тружеников земли», приобщаясь к «настоящему труду». Е. Добренко называет повести С. Георгиевской «Бабушкино море» (1949), И. Дика «Огненный ручей» (1950), Н. Дубова «Огни на реке» (1952), в которых показано, как приобщение к реальной трудовой жизни изменяет наивные представления городских подростков [Добренко 2013, 211]. В перечисленных исследователем «каникулярных повестях», к которым можно присоединить еще и текст Анатолия Алексина «Тридцать один день» (1952), важно то, что в них школьники едут куда-то далеко: поездка на поезде или пароходе описывается как большое приключение, как путешествие в новое, неизведанное. С другой стороны, почти во всех названных выше текстах самостоятельность детей очень относительна: в пространствах каникулярных приключений дети подконтрольны — там всегда есть надзирающие взрослые: бабушки, родственники, вожатые, которые ограничивают и направляют самостоятельную энергию в нужное русло. У Носова же, как уже отмечалось, «каникулярные» пространства совсем не маркируется как экзотические, но зато тот факт, что существовать там приходится самостоятельно и практически бесконтрольно, делает их местом эксперимента и испытания. В этом смысле можно найти нечто общее в изображении «загорода» у Носова и функции дачного топоса в повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» (1940), написанной примерно в то же в то же время, что и некоторые из носовских рассказов. Дачный поселок или деревня, где взрослые снимают дом на лето, для детей превращается в пространство воображаемое, пространство игры в жизнь без взрослых. Но стоит отметить, что у Носова, в отличие от Гайдара, в описании этого пространства детской свободы и самостоятельности отсутствуют милитаристские оттенки.
Если посмотреть на события, описанные в вышеназванных рассказах Носова современным взглядом, то можно вполне обоснованно предположить, что происходящее с героями реально опасно и даже страшновато: младшие школьники остаются без надзора, рыбачат и купаются в реке, топят печь и самостоятельно варят еду, одни ездят на поездах, ночуют в пустом лагере без взрослых, ходят по ночам на огород или, как в наиболее «экстремальном» с этой точки зрения рассказе «Бенгальские огни», с разрешения родителей и лесничего, взяв топор, отправляются в зимний лес рубить новогоднюю елку и в какой-то момент понимают, что заблудились.
Может, мы не в ту сторону идём — говорит Мишка. Пошли мы в другую сторону. Шли, шли — всё лес да лес! Тут и темнеть начало. Мы давай сворачивать то в одну сторону, то в другую. Заплутались совсем.
— Вот видишь, — говорю, — что ты наделал!
—Что же я наделал? Я ведь не виноват, что так скоро наступил вечер.
— А сколько ты ёлку выбирал? А дома сколько возился? Вот придётся из-за тебя в лесу ночевать!
— Что ты! — испугался Мишка. — Ведь ребята сегодня придут. Надо искать дорогу.
Скоро стемнело совсем. На небе засверкала луна. Чёрные стволы деревьев стояли, как великаны, вокруг. За каждым деревом нам чудились волки. Мы остановились и боялись идти вперёд [46].
Далее ситуация только усугубляется, так как Мишка падает, подворачивает ногу, и другу-рассказчику приходится тащить его, посадив на срубленную елку. Но счастливо выбравшись из леса, друзья на поезде, полном сочувствующими им пассажирами, добираются до дома и успевают весело встретить Новый год в компании приятелей (при этом родители уходят встречать Новый год к соседям, опять оставляя детей одних).
Как мы видим, лес в этом рассказе изображается как довольно пугающее и неприветливое место, но ощущение ужаса не нагнетается — напротив, пространство, в котором происходят события, изображено не как смертельно опасный сказочный лес триллера, а скорее как пространство игры, приключения, испытания, в котором надо проявить находчивость и солидарность. Если ты оказался в незнакомом и пугающем месте, ищи дорогу, иди по ней вперед, не бросая друга, и ты непременно придешь к свету, станции, где тебя ждет поезд, который привезет к уютному дому, — к такому выводу должны прийти читатели.
Но если лес все же изображается как немного пугающее пространство, из которого надо выбираться, то дача, деревня, пионерский лагерь — это места, соединяющие противоположные свойства: они одновременно свободные, отчасти чужие, взывающее к освоению, но одновременно и свои, «присвоенные», безопасные и надежные. Это можно видеть и в повести «Дневник Коли Синицына» (1950), которая из всех «летних» текстов Носова более всего соотносится с жанром «каникулярной повести» — в ней автор дневника Коля вместе с пионерами своего звена по предложению звеньевого решают летом не гулять и отдыхать, а заниматься общеполезным трудом — разведением пчел. Но все же и в этой повести каникулярное пространство детства индивидуализировано, а приобщение к общеполезному и коллективному труду изображается как увлекательное дело, а не обучение тому, как становиться правильно работающей деталью государственной машины. И как всегда у Носова, даже этот текст (исключая заключительный эпизод с чтением письма сельских школьников) лишен патетики.
Таким образом, анализируя пространство повестей Носова, где действие происходит «загородом», можно вслед за Добренко говорить о той тенденции «утепления» (в том числе и с помощью юмора) изображения действительности, которая помогает «упаковывать» и нормализовывать, делать невидимыми те принципы насилия и принуждения, которые пронизывают советское общество. Однако, с другой стороны, можно увидеть в этих повестях Носова и попытку создать такое реально-воображаемое пространство, которое стало бы моделью нормального, человеческого, нетравматического детства, где опасных, полностью враждебных и абсолютно чужих пространств нет и быть не может.
Последнее мы видим и в рассказе о Толе Клюквине, приключения которого происходят не «загородом», а в городе. Начало повествования не предвещает никаких сюрпризов. Толя находится в пространстве, хорошо организованном, абсолютно освоенном и безопасном — об этом свидетельствует очень точная и конкретная топография. «Ученик четвертого класса школы № 36 Толя Клюквин вышел из дома № 10 на Демьяновской улице и, свернув в Третий Каширский переулок, зашагал к своему приятелю Славе Огонькову, который жил на Ломоносовской улице в доме № 14» [Носов 2022, 5]6.
Перешедшая дорогу кошка заставляет Толю свернуть с протоптанного маршрута, а упав с велосипеда и ударившись головой об стенку мусорного ящика, Толя обнаруживает себя в незнакомом дворе:
Здесь было гораздо красивее, чем там, откуда явился Толя. Посреди двора возвышалась огромная круглая клумба с цветущими астрами, георгинами и яркими, как огоньки, настурциями. Недалеко от клумбы была куча песка, обнесенная с четырех сторон голубым деревянным заборчиком. Какие-то красивые тихие дети сидели вокруг кучи и лепили из песка пирожки. Они были в ярких, цветастых платьицах и костюмчиках. Издали их тоже можно было принять за цветы. По обеим сторонам песочной кучи были разбиты газоны с аккуратно подстриженной зеленой травкой. Вдоль газонов стояли удобные лавочки, на которых сидели мамы детей. Они мирно беседовали между собой, читали книжки и следили, чтоб детишки хорошо вели себя и не запорошили друг другу песочком глаза. Позади лавочек была волейбольная площадка с протянутой поперек нее веревочной сеткой. Несколько мальчиков и девочек постарше играли в волейбол.
Двор был большой, широкий, окруженный со всех четырех сторон стенами домов с балконами. На многих балконах пестрели цветы, высаженные в длинных деревянных ящиках. Толя невольно остановился и залюбовался открывшейся перед ним картиной. Все это было удивительно: и цветы, и газоны с травой, и дети, и большой кожаный мяч, плавно взлетавший над волейбольной сеткой [13–14].
В этом на первый взгляд непритязательном и очень реалистическом рассказе исподволь появляются сказочные элементы: серая кошка, сбивающая с пути, мусорный ящик, из которого, как из чудесного шкафа в «Хрониках Нарнии» К. С. Льюиса, попадаешь в какой-то другой мир, кажется, только похожий на обычный городской двор. В этом реально-сказочном пространстве с Толей начинают происходить приключения: злая старуха с коричневой бородавкой и черной сумкой, «разъяренная фурия» [27], как называет ее прохожий, грозится оторвать мальчику голову и тащит в «преисподнюю» домоуправления («в комнате дым стоял столбом» [16]). Потом Толя еще раз оказывается в ситуации между жизнью и смертью, чуть не попав под машину, но тут появляется женщина в белом (врач скорой помощи) и увозит в спасительный «рай» больницы, где доктор «весь белый: в чистом белом халате, в белом колпаке на голове, с белыми седыми бровями» [30], а медсестру зовут Серафима Андреевна. Отвечая на вопросы последней, Толя, сам не понимая почему, называется Славой Огоньковым — в этом приключенческом полусказочном пространстве он выбирает себе другое имя, как бы становясь другим.
Но сказочный сюжет только очень осторожно, тонко просвечивает сквозь реальную историю. Заколдовывая обычные пространства жизни советского школьника, почти незаметно «отстраняя» их, Носов в то же время постоянно их и расколдовывает, показывая, что полусказочный мир, в который заносит Толю Клюквина, — это в то же время безопасный и понятный наш, привычный мир, где всему найдется рациональное объяснение и где в конце концов возобладает долг, который «велит мне идти домой обедать, потому что мама уж давно ждет меня и, наверное, волнуется» [43].
Если в «Приключениях Толи Клюквина» реальность побеждает сказку, то в знаменитой трилогии о Незнайке и его друзьях читателю сразу сообщают, что действие происходит «в одном сказочном городе». Пространство приволья, где можно жить без взрослого контроля, здесь полностью легитимизировано. Из полусказочного двора, обсаженного цветами, куда попадает Толя Клюквин, исчезают мирно беседующие между собой мамы детей, а сами дети превращаются в коротышек, живущих в мире, где нет времени, по крайней мере нет времени взросления — дети всегда остаются детьми, хотя и осваивают взрослые профессии. Как пишет культуролог Марина Загидуллина: «Это страна вечных детей, которые никогда не вырастут из своего (примерно) восьми-девятилетнего возраста. Жизнь в этой стране налажена раз и навсегда. Проблемы, возникающие перед героями, разрешаются с помощью освоения пространства, но не времени. Категория времени в стране носовских героев вообще отсутствует: колокольчики на улице Колокольчиков никогда не вянут, огурцы на берегах Огурцовой реки не знают зимы» [Загидуллина 2008, 206].
Время в «Приключениях Незнайки» вытеснено пространством — чтоб хоть как-то измениться и хотя бы ментально повзрослеть, надо улететь на воздушном шаре «в далекие края». Впрочем, не так уж и далеки эти края, если Знайка перед началом путешествия обещает через неделю вернуться обратно. В чужом Зеленом городе, куда малыши попадают после катастрофы с воздушным шаром и где живут одни малышки, то есть в «другом», не своем месте Незнайка, как и Толя Клюквин, пытается быть другим, выдавая себя за Знайку. Марина Загидуллина, анализируя трилогию о Незнайке, находит спрятанный в ее первой части сюжет «Ревизора», проницательно считая, что ситуация самозванства тесно связана с дискурсом путешествия: «Универсальный сюжет романа-путешествия может быть вкратце описан так. Герой, покинувший «ойкумену» привычного существования, где ему были назначены готовые культурные статусы, выражавшие степень его реализации в разных сферах, попадает в «чужое» пространство, лишенное знания об этих статусах. Таким образом, путешественник неожиданно для себя самого оказывается демиургом своей собственной судьбы, характера, положения» [Загидуллина 2008, 207]. Но, как и в рассказе о Толе, все кончается разоблачением и счастливым возвращением в свой мир, в уютный Цветочный город в последней главе, которая так и названа «Возвращение»: «много дней Знайка и его товарищи пробирались по полям и лесам и наконец вернулись в родные края. Они остановились на холме, а впереди был виден Цветочный город во всей своей красе» [Носов 2019, 220]. Путешествие из Цветочного города в Зеленый и обратно нужно для того, чтобы, пройдя испытания и искушения, вернуться в пространство, где ты свой и можешь быть самим собой, пытаясь одновременно (как Незнайка) становиться лучше.
Марина Загидуллина в указанной статье обращает внимание еще и на то, что и Цветочный, и Зеленый город, и мальчиковый город Змеевка в первой части приключений Незнайки изображены как своего рода одноуровневые периферийные пространства — они отличаются в деталях, но лишены какой-то иерархии. Передвижение из одного в другой — это движение «по горизонтали» (даже если летишь на воздушном шаре!). Во второй части «Незнайка в Солнечном городе», как замечает Загидуллина, отношения между Цветочным и Солнечным городом напоминают отношения «провинция – столица» [см. Загидуллина 2008, 215–217]. Но одновременно или даже еще в больше степени Солнечный город может быть понят как воплощенная техническая утопия, город желаемого (и достижимого!) будущего, в то время как в третьей части — «Незнайка на Луне» — в определенном смысле изображено путешествие в пространство дистопии. В первой же повести трилогии о Незнайке, изображая сказочную страну малышей и малышек, Носов рисует нормальное, удобное пространство детской жизни — это, если можно так сказать, своего рода бонтопия — хорошее и вполне себе представимое место для детской жизни, недаром экзотика Цветочного города вполне себе относительная: малыши и малышки живут не в далекой и невообразимой сказочной стране; их, кажется, можно обнаружить на цветочной клумбе или в деревенском огороде у бабушки, стоит только заглянуть под самый большой лопух.
Повести и рассказы Носова, о которых шла речь в этой статье, написаны в пору догматического соцреализма и, как и другие школьные повести того времени, не могут не наследовать соцреалистической традиции изображения нового советского человека, его «выделки» в процессе школьного воспитания. Но, как уже отмечалось Евгением Добренко, послевоенная школьная повесть, стремясь закамуфлировать дисциплинирующее насилие, заменяет перековку перевоспитанием, бесконфликтной перековкой, перековкой без насилия [Добренко 2013, 228]. Анализ пространства наглядно показывает существенное отличие произведений Носова от аналогичных текстов о школе и жизни школьников в 1920–1930-х гг., для которых был характерен именно пафос переделки, строительства новых мест, новых социальных практик и нового человека.
В знаменитых школьных повестях 1920-х гг. — таких, например, как «Республика ШКИД» Григория Белых и Алексея Пантелеева (1926) или «Педагогическая поэма» Семена Макаренко (1928, издана в 1935 г.) – бывшие беспризорники обретают новый дом на развалинах старого. Первые воспитанники школы имени Достоевского вселяются в облупившееся здание бывшего коммерческого училища: «Ветер и дождь попеременно лизали каменные стены опустевшего училища, выкрашенные в чахоточный серовато-желтый цвет. Холод проникал в здание и вместе с сыростью и плесенью расползался по притихшим классам, оседая на партах каплями застывшей воды. Так и стоял посеревший дом со слезящимися окнами» [Белых, Пантелеев 1927, 5].
В этом старом здании возникает новая школа — школа-общежитие, где воспитанники и спят, и едят, и учатся, и творят вместе и в одном и том же месте. Комфорт этих пространств новой коллективности весьма относителен:
Клубов у шкидцев было два — верхняя и нижняя уборные. Но в верхней было лучше. Она была обширная, достаточно светлая и более или менее чистая. <...> В уборных всегда было оживленно и как-то по-семейному уютно. Клубился дым на отсвете угольной лампочки. Велись возбужденные разговоры, и было подозрительно тепло. На запах шкидцы не обращали внимания [Белых Пантелеев, 1927, 80].
«Семейный уют» уборных ШКИДы или казарменный порядок колонии Макаренко не очень похожи ни на дом, ни на обычную школу — это коллективное убежище для подростков, уже прошедших школу войны и школу жизни и устремляющихся в будущее. Лозунг «Время, вперед!» не оставлял возможности уютно угнездиться в пространстве. Советская правозащитница Раиса Орлова, вспоминая о своей юности в 1930-е гг., писала в мемуарах:
Я была непоколебимо уверена: здесь, в этих старых стенах, лишь подготовка к жизни. А сама жизнь начнется в новом, сверкающем доме; там я буду по утрам делать зарядку, там будет идеальный порядок, там начнутся героические свершения. Большинство моих сверстников — в палатках ли, в землянках, в коммуналках или в хороших по тем понятиям отдельных квартирах — все равно жили начерно, временно, наспех. Скорее, скорее к великой цели, а там все начнется по-настоящему [Орлова 1993, 36–38].
Заключение
В рассказах и повестях Носова, написанных в 1940–1950-е гг., мало подобного пафоса революционной перестройки и устремленности к героическим свершениям. Его персонажи, конечно, иногда мечтают о будущем, но живут в настоящем: их места обитания — не времянки общежитий. Места, где живут и действуют герои Носова, — это нормальные, не травматические пространства. Коллективность не экстремальна, не требуется спать в одной комнате и ходить строем, чтоб чувствовать себя в школе как в коллективе друзей, в большой семье. Реальность дружелюбна, она дает место и самостоятельности, и приключению, но одновременно предлагает для жизни свое, защищенное пространство. Не надо бежать в дальние страны, чтоб попробовать стать другим или собой лучшим, — этот опыт можно пережить, очутившись в соседнем дворе. Советская школа, советская улица, советский город — места, где жить можно хорошо, весело, творчески и дружно.
Здесь, мне кажется, важно вспомнить, что тексты, о которых идет речь, обращены были к читателям — детям и подросткам, которые родились до войны и пережили ее. Можно с уверенностью сказать, что обстоятельства их раннего детства были далеко не безоблачными, и чтение написанных с мягким юмором текстов, где не идеальные, но симпатичные, благополучные ребята живут в нормальных и защищенных пространствах, имело, вероятно, своего рода терапевтический эффект.
Анализ ключевых, знаковых мест прозы Носова 1940–1950-х гг. приводит к выводу, что в его книгах происходит процесс нормализации представления о советской школе и советском детстве. Детство — это не подготовка к жизни и подвигу, а интересное время учебы, дружбы, забавных приключений и творчества, которое тоже вполне «одомашнено»: герои Носова дрессируют собаку, выводят цыплят в самодельном инкубаторе, играют в шахматы, разводят пчел, выращивают огурцы, играют в самодеятельном театре. Даже если в текстах появляется волшебное, то и оно в общем вполне себе обыкновенно.
В этом смысле более поздние, оттепельные и послеоттепельные повести и рассказы о школе, с одной стороны, продолжают традицию изображения мест советского детства (школа, двор, пионерский лагерь) как уютных, своих, с другой стороны, уходят от этой носовской «нормальности» к более сложным вариантам изображения школы. С одной стороны, школа изображается как пространство драматических конфликтов [см. Бурдина, Шумилова 2016, 130–131], с другой, — несколько романтизируется. Последняя тенденция, пожалуй, более заметна не в жанре школьной повести, а в жанре «школьной песни». В популярных песнях 1940–1950-х гг., таких как «Школьный вальс» (1950 г., автор слов М. Матусовский) или «Школьные годы» (1956 г., автор слов Е. Долматовский) школа изображается как место взросления — куда приходят ребятишками, а становятся, пионерами, комсомольцами, а затем моряками и летчиками, патриотами Родины (недаром ключевыми в песнях являются слова Родина, Красная площадь, красный галстук, комсомол, и даже в развеселой «Школьной Польке» (1947 г., автор слов Л. Ошанин) появляются огни Кремля). В песнях же 1960–1970-х гг. — совсем иные метафоры, описывающие школу. В песенных текстах Константина Ибряева школа сравнивается с «кораблем, бегущим вдаль», школьная парта — со звездолетом на старте, в тихом шелесте страниц учебников слышится гул далеких новостроек. В песне «Камчатка» (1965, авторы слов С. Гребенников и Н. Добронравов) все мальчишки с последней школьной парты-«камчатки» сразу же отправляются в дальнее плаванье. Эти песни были очень популярны и несомненно влияли на изображение школы в прозаических жанрах. Позже, в конце 1970-х–1980-е гг., как отмечает Инна Сергиенко, происходит (по крайней мере в литературе) возвращение к дореволюционному концепту школы-тюрьмы: «в описании начинает преобладать серый цвет («серое здание», «серые классы», «серые дни»), дополнением ему служат коричневый и черный — цвета школьной формы, за окном, как правило, льет дождь и качаются голые ветки» [Сергиенко 2005, 62].
Являются ли реально-воображаемые пространства советского детства в текстах Н. Носова 1940-х–1950-х гг. идеологически нагруженными? Несомненно. Советская школа, двор, улица, да и вся советская страна, мягко говоря, далеко не всегда были такими уютными, родными и хорошо приспособленными для замечательной жизни местами. Изображая эти пространства как правильные и прекрасные, Носов безусловно внес свой вклад в создание иллюзорного и идеологически маркированного образа советской школы (двора, пионерлагеря) и советской страны как лучшего места для жизни — по крайней мере детской. Однако именно умение писателя показать, что такие обычные и «общие» места советского детства, как, например, школа, пионерлагерь или двор могут быть «присвоены» детьми, могут стать пространством детства не коллективно-советского, но индивидуального, увлекательного и дружелюбного, как нам кажется, выделяет тексты Носова среди послевоенных школьных и каникулярных повестей и объясняет, почему они были (и в определенной степени остаются) популярными и любимыми.
Источники
Белых, Пантелеев 1927 — Белых Г., Пантелеев Л. Республика ШКИД. М.: Госиздат, 1927.
Носов 2006 — Носов Н. Витя Малеев в школе и дома. М.: Эксмо, 2006.
Носов 2018 — Носов Н. Веселая семейка: повесть и рассказы. М.: Эксмо, 2018.
Носов 2019 — Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей. М.: Эксмо, 2019.
Носов 2022 — Носов Н. Приключения Толи Клюквина: рассказы. М.: Эксмо, 2022.
Примечания
1 Хотя часть рассказов написана в конце 1930-х — начале 1940-х гг., известность и популярность им принесла публикация в послевоенных сборниках. Интересно отметить, что примет времени, позволивших бы отличить тексты 1930-х гг. от написанных в военное время и позже, в произведениях найти невозможно.
2 Краткий обзор новых представлений о пространстве в гуманитарных науках см.: [Розенхольм, Савкина, 2015].
3 Это демонстрирует, например, анализ автором данной статьи собственного дневника школьных лет [Савкина, 2009] или чтение дневников подростков оттепели, где многие записи посвящены описанию школьных будней, часто напоминающих сюжеты школьных повестей и киноповестей см.: [Савкина, Николаева, 2023].
4 Далее повесть цитируется по этому источнику с указанием страницы цитаты в квадратных скобках.
5 Далее тексты рассказов цитируются по этому источнику с указанием страницы в квадратных скобках.
6 Далее текст цитируются по этому источнику с указанием страницы цитаты в квадратных скобках.
About the authors
Irina Savkina
Author for correspondence.
Email: f2irsa@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1860-0963
Independent researcher
FinlandReferences
- Bakhtin 1975 — Bakhtin, M. (1975). Formy vremeni i hronotopa v romane: ocherki po istoricheskoj pojetike [Forms of Time and of the Chronotope in the Novel: Notes toward a Historical Poetics]. In Bakhtin M., Voprosy pojetiki i jestetiki. Issledovanija raznyh let [Questions of Literature and Aesthetics. Studies of different years] (pp. 234–407). Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
- Burdina, Shumilova 2016 — Burdina, S. V., Shumilova, O. A. (2016). Jevoljucija zhanra shkol’noj povesti v russkoj literature XX veka [Evolution of the genre of school stories in Russian literature of the 20th century]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaja i zarubezhnaja filologija, 2(34), 128–134. doi: 10.17072/2037-6681-2016-2-128-134.
- Clark 1992 — Clark, K. (1992). Stalinskij mif o «velikoj sem’e» [The Stalinist Myth of the «Great Family»]. Voprosy literatury, 1, 72–96.
- Dobrenko 2013 — Dobrenko, E. A. (2013). «...Ves’ real’nyj detskij mir» (shkol’naja povest’ i «nashe schastlivoe detstvo») [«...The Whole Real Children’s World» (School Narrative and «Our Happy Childhood»]. In M. R. Balina, V. Ju. V’jugin (Eds.), «Ubit’ Charskuju...»: Paradoksy sovetskoj literatury dlja detej 1920-e–1930-e gg. [«To Kill Charskaya...»: Paradoxes of Soviet Literature for Children 1920s–1930s] (pp. 189–230). Saint Petersburg: Aletejja.
- Goga, Kümmerling-Meibauer 2017 — Goga, N., Kümmerling-Meibauer, B. (2017). Introduction. In N. Goga & B. Kümmerling-Meibauer (Eds.), Maps and Mapping in Children’s Literature: Landscapes, Seascapes and Cityscapes (pp. 1–14). Amsterdam: John Benjamin.
- Lebedeva-Kaplan 2006 — Lebedeva-Kaplan, V. (2006). Zametki o stat’e Katriony Kelli «Shkol’nyj val’s»: povsednevnaja zhizn’ sovetskoj shkoly v poslestalinskoe vremja [Notes on Catriona Kelly’s article ’School Waltz’: Everyday Life in a Soviet School in the Post-Stalin Era]. Antropologicheskij forum, 4, 34–39.
- Lotman 1996 — Lotman, Ju. (1996). Vnutri mysljashhih mirov. Chelovek — tekst — semiosfera — istorija [Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture]. Moscow: Jazyki russkoj kul’tury.
- Majofis 2017 — Majofis M. Kak chitat’ «Vitju Maleeva v shkole i doma» [How to read ‘Vitya Maleev at school and at home’]. Arzamas (online edition), 2017.19.06. Retrieved from: https://arzamas.academy/mag/436-nosov?ysclid=m0c81znv8z873571087.
- Mirimskij 1985 — Mirimskij, S. (Ed.). (1985). Zhizn’ i tvorchestvo Nikolaya Nosova [Life and works of Nikolaya Nosov]. Moscow: Detskaja literatura.
- Neumann, Rupp 2015 — Neumann, B. & Rupp, J. (2015). Formirovanie kul’turnyh topografij i dinamika serial’nosti: Delo Sherloka Holmsa [The Cases of Sherlock Holmes and the Formation of Cultural Topographies]. In A. Rosenholm & I. Savkina (Eds.), Topografii populjarnoj kul’tury [Topographies of popular culture] (pp. 33–63). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Orlova 1993 — Orlova, R. (1993). Vospominanija o neproshedshem vremeni [Memoirs]. Moscow: Ex libris.
- Rozenkhol’m, Savkina 2015 — Rozenkhol’m, A. & Savkina, I. (2015). Kartografiruja populjarnoe [Mapping the popular]. In A. Rosenholm & I. Savkina (Eds.), Topografii populjarnoj kul’tury [Topographies of popular culture] (pp. 5–29). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Savkina 2009 — Savkina, I. (2009). Dnevnik sovetskoj devushki (1968–1970): privatnoe i ideologicheskoe [Diary of a Soviet girl (1968–1970): Private and ideological]. Cahiers du monde russe, 50/1, janvier-mars, 153–167. doi: 10.4000/monderusse.9158.
- Savkina, Nikolaeva 2023 — Savkina, I. & Nikolaeva, S. (Eds.). (2023) «Hochetsja zhit’ vo vsju silu...»: dnevniki podrostkov ottepeli [«I want to live to the fullest...»: diaries of teenagers of the thaw]. Saint Petersburg: Evropeyskiy universitet v Sankt-Peterburge.
- Sergienko 2005 — Sergienko, I. A. (2005). Shkol’nyj mir na stranicah shkol’noj povesti 1920–1980-h godov [School world on the pages of the school story of 1920–1980s]. In M. L. Lur’e (Ed.), Literaturnye javlenija i kul’turnye konteksty: materialy kollokviuma molodyh uchenyh-gumanitariev Sankt-Peterburga i Daugavpilsa [Literary phenomena and cultural contexts: materials of the colloquium of young scientists-humanitarians of St. Petersburg and Daugavpils] (pp. 59–67). Saint Petersburg: SPbGUKI.
- Soja 1996 — Soja, E. (1996). Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined Places. Oxford: Blackwell.
- Zagidullina 2008 — Zagidullina, M. (2008). Vremja kolokol’chikov, ili «Revizor» v «Neznajke» [A time of little bells, or The Government Inspektor in Dunno’s Adventures]. In I. Kukulin, M, Lipoveckij, M. Majofis (Eds.), Veselye chelovechki: kul’turnye geroi sovetskogo detstva [Merry little Folks: cultural heroes of Soviet childhood] (pp. 204–223). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
Supplementary files