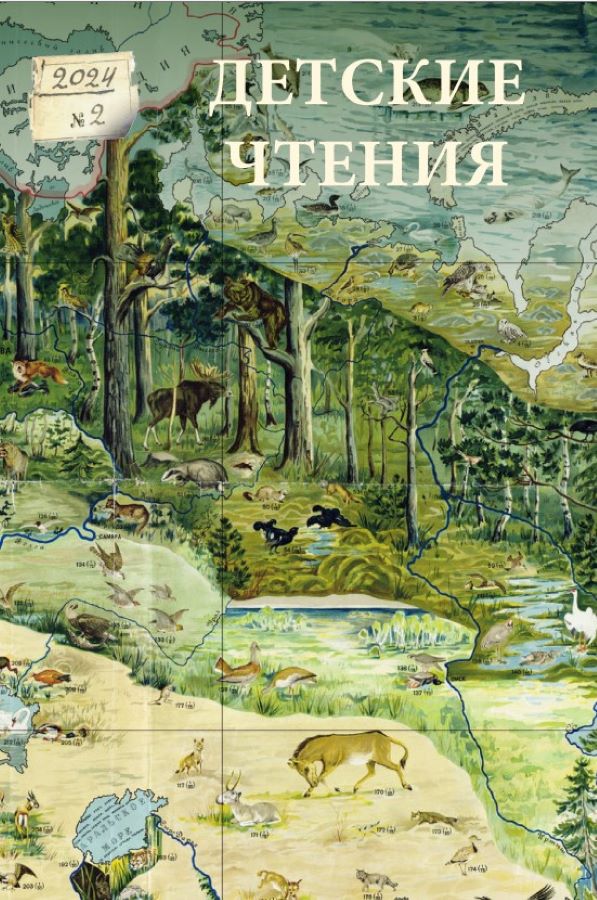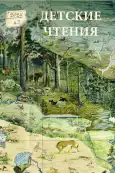«Vesti iz Lesa» — Soviet radio project and life programme
- Authors: Kostukhina M.1
-
Affiliations:
- The Herzen State Pedagogical University of Russia
- Issue: Vol 26, No 2 (2024)
- Pages: 263-287
- Section: RESEARCH
- URL: https://journal-vniispk.ru/2304-5817/article/view/280807
- DOI: https://doi.org/10.31860/2304-5817-2024-2-26-263-287
- ID: 280807
Cite item
Full Text
Abstract
The Leningrad radio programme «Vesti iz Lesa» (News from the Forest), broadcast on All-Union Radio from 1956 to 1970, was a successful Soviet radio project for children. Despite its narrow target audience (young children) and limited content focused on forest themes, the programme attracted a wide range of listeners of different ages («from pioneers to pensioners», according to Nikolai Sladkov). This is evidenced by the hundreds of letters t received by the editorial office «Leningrad, radio «Vesti iz Lesa»» every month. The research material for this article includes a corpus of letters stored in the archive of the writer and «nature writer» Nikolay Sladkov (the compiler of the scripts), as well as microphone cards from «Vesti iz Lesa» in the archive of the Gosteleradio St. Petersburg – 5 channel. The subject of the study is the reception of the nature science programme by different age groups of radio listeners. Analysis of the editorial mail reveals that for many thousands of listeners, the programme «Vesti iz Lesa» legitimized the human right to perceive nature without regard to economic benefits, cultural standards, or ideological and patriotic dogma. The editorial board’s position diverged from the ideological mainstream that dominated Soviet radio in the late 1950s-1960s, but resonated with the radio listeners of the time. This perception of nature, transcending ideological and cultural barriers, contributed to the creation of an «emotional community» around the programme founded by Vitaliy Bianki and his associates.
Full Text
Программа ленинградского радио «Вести из леса» успешно просуществовала на Всесоюзном радио 15 лет — с 1956 г. по 1970 г.1 Несмотря на означенную узкую целевую аудиторию (младший возраст) и ограниченность содержания лесной тематикой, она имела широкий круг радиослушателей — «от пионеров до пенсионеров», по словам Николая Сладкова. Об этом свидетельствуют письма, сотнями приходившие каждый месяц по адресу «Ленинград, радио, «Вести из леса»» (подборка писем хранится в личном архиве писателя Н. Сладкова). Анализ программы и ее рецепции слушателями позволяет определить реальную аудиторию природоведческой передачи и ее место в истории советского радиовещания.
Инициатором создания «Вестей из леса» был Виталий Бианки, имевший большой опыт работы на радио: помимо отдельных выступлений (в формате «Ленинградские писатели детям»), он вел на Всесоюзном радио «Лесную радиогазету», а на ленинградском — передачу «Лесные были и небылицы» (обе для дошкольников и младших школьников). Продолжением двух программ стала передача «Вести из леса», которая впервые вышла в эфир 10 октября 1956 г. (продолжительность вещания 29 мин.), а затем выпускалась регулярно один раз в месяц2.
На протяжении своего существования программа сохраняла основной состав участников. Первый выпуск 10 октября 1956 г. открывал Бианки, выступивший в роли ведущего:
Привет вам из лесу, дорогие друзья! Говорит редактор передачи — Виталий Бианки. Мы уже не раз встречались с вами в эфире во всесоюзной Лесной радиогазете, в ленинградских передачах «Лесные были и небылицы» под моей редакцией и с участием писательницы доктора биологических наук Нины Михайловны Павловой, писателей — Николая Сладкова, Эдуарда Шима, Кронида Гарновского, Святослава Сахарнова и других. Участвовали в этих передачах и веселые юннаты: боевой рассказчик Кит Великанов, Федя, Елочка и прочие. Теперь мы будем передавать раз в месяц «Вести из лесу». Будем знакомить вас с сезонными новостями в лесу, на горах и в степи и даже на морях [Тексты передач 1956, 3].
Помимо названных, авторами текстов были Алексей Ливеровский и Лев Стекольников — только вначале, Святослав Сахарнов — периодически. Несмотря на различия в профессиональной деятельности (от инженера до топографа), все создатели передачи были натуралистами-практиками. Равноправными участниками проекта стали Лия Флит и Ирина Русакова, сотрудницы ленинградской редакции передач для детей. Озвучивали программу артисты Дома радио, в том числе заслуженные и известные (Мария Петрова, Николай Трофимов и др.)3.
Редакция «Вестей из леса» была не только профессиональным, но и эмоциональным сообществом, участников которого связывали семейно-дружеские отношения. При жизни Бианки коллективное обсуждение материалов проходило в домашней обстановке его семьи. Сохранились воспоминания о творческой атмосфере этих встреч, отличных от стиля общения в писательских союзах:
Виталий Валентинович был душой передачи; он не только погонял этот тяжелый воз, он сам тащил его наравне с другими, а часто являлся основной рабочей силой. По каждому выпуску собирались по несколько раз. Этот порядок учредил Бианки. Сначала учреждался план номера. Виталий Валентинович радовался каждой придумке — чужой еще больше, чем своей. В другой раз обсуждали, кто что написал. При этом царила полная демократия. Критиковали даже его. И он никогда не обижался. Если замечания оппонентов были доказательны, он сразу соглашался. Но и другим спуску не давал [Флит, Русакова 1967, 139–140].
После Бианки составлением радио-сценариев руководил Сладков, аттестовавший себя «общественным составителем» программы. В начале 1970-х гг. передача перешла на телевидение и стала выходить под названием «Солнцеворот» (с участием кукольных персонажей), где успешно просуществовала еще несколько лет.
По популярности «Вести из леса» превосходили познавательные передачи для детей, подготовленные на московском радио (среди них «Круглый год», «О чем рассказывают месяцы»). Одна из московских редакторов, выпускавших природоведческие программы для детей, признавалась в том, что «не все передачи выдерживают испытание временем», и это приводит к их закрытию [Меньшикова 1966, 66]. Слушатели противопоставляли ленинградские программы для детей московским передачам. «Сколько дребедени часто слышишь в детских московских передачах, бесталанные, сюсюкающие рассказы <...> Неужели за счет этого хлама нельзя лишний раз повторить такие высоко-качественные передачи?» (автор письма — педагог, 1958 г.) [Письма 1952–1960, 17]. О широкой популярности «Вестей из леса» свидетельствует одноименный сборник, вышедший в 1961 г. Он открывался посвящением памяти Бианки:
Вести из леса... Кто из вас не слышал этой «Лесной газеты» по радио! В течение ряда лет передавался под редакцией Виталия Бианки радиокалендарь родной природы. Вы слушали интересные рассказы и забавные разговоры птиц и зверей, лесные сказки, сообщения о ребячьих делах, книгу жалоб и предложений, загадки и отгадки. Вот из лучших рассказов, сказок, очерков, заметок, ребячьих писем и составлена эта книга, которую авторы посвящают памяти организатора и участника «Вестей из леса» — Виталия Валентиновича Бианки (курсив в оригинале — М. К.) [Вести из леса 1961, 2].
Успех «Вестей из леса» не являлся заслугой только ее авторского коллектива: программы, подготовленные детской редакцией ленинградского радио, отличались высокой культурой и профессионализмом. Радиожурналист Лев Мархасев, начинавший работу на ленинградском радио в 1950-е гг., свидетельствует:
Детская редакция той поры заслуженно славилась на всю страну своими передачами и радиоспектаклями. Сюда любили приходить лучшие детские писатели, и не только ленинградские, но и московские: Виталий Бианки, Алексей Ливеровский, Виктор Голявкин, Радий Погодин, Эдуард Шим... С редакцией с удовольствием сотрудничали режиссеры Михаил Чежегов, Рафаил Суслович, Наум Лифшиц. Здесь работали опытные редакторы Ирина Русакова, Лия Флит, Евгения Кисельер. А музыкальным редактором была Светлана Тихая [Мархасев 2004, 37].
Несмотря на то, что тематика «Вестей из леса» была ограничена птичками-зверюшками, а целевая аудитория малышами, программа ленинградцев не уступала таким радиопроектам, как «Клуб знаменитых капитанов» (с 1945 г.), имевшим широкую культурную тематику и не ограниченную детским возрастом аудиторию. Поколебать первенство «Вестей из леса» смогла только передача Майлена Константиновского «КОАПП» (Комитет охраны авторских прав природы), выходившая с 1964 г. по 1973 г. и ставшая одним из первых мультимедийных советских проектов (радиопередача, книги, мультфильмы, комиксы).
Художественный формат «Вестей из леса» был определен «Лесной газетой» (первое книжное издание — 1928 г.) Бианки, в которой информация природоведческого характера подавалась в жанрах газетной публицистики (новости, сообщения, телеграммы, объявления, очерки). Такой способ подачи материала позволял представить мир природы как динамичный процесс изменения флоры и фауны, происходящий в соответствии с фенологическим календарем. Неслучайно первым лескором Бианки назвал Дмитрия Кайгородова, организатора сбора фенологических сведений и пропагандиста календарей природы. В «Лесной газете» были использованы принципы фенологического календаря и общественной газеты, но не только. Книжный проект создавался Бианки под влиянием радиогазет, звучавших в советском эфире в 1920–1930-е гг.4. Среди первых программ для детей и школьников были: «Пионерская правда на радио» (с 1925 г.), радиогазета «Ленинские искры» (с 1931 г. в Ленинграде), «Пионерская зорька» (с 1934 г. в Москве). Значение радиогазет в информационном пространстве раннего советского общества было очень велико. Звучащим словом увлекались как пропагандисты новой культуры, так и те, кто от культуры был далек (рабкоры). Владимир Маяковский заявлял: «Я не голосую против книги. Но я требую 15 минут на радио» [Маяковский 1941, 290], а Виктор Шкловский призывал отказаться от письменного слова в пользу слова звучащего. О том, что звучащее слово привлекало и Виталия Бианки, свидетельствует разнообразная звуковая палитра «Лесной газеты», которую писатель расширял в процессе подготовки переизданий. Бианки использовал формат и стилистику радиосообщений («Лесной оркестр», «Голоса в поле», «Радиоперекличка»), а также разнообразные приемы звуковой игры при описании птиц, зверей и насекомых.
«Лесная газета» реализовалась в полноценный радиоформат в начале 1950-х гг., когда на всесоюзном радио стали выходить «Лесная радиогазета», а на ленинградском «Лесные были и небылицы» (с 1955 г.). Первоначальный коллектив авторов состоял из трех человек: Бианки, Гарновский и Павлова. В 1957 г. к ними присоединился Николай Сладков, демобилизовавшийся из армии, где он служил военным топографом. «Лесная радиогазета» специализировалась на стилизации новостных жанров («Лесные происшествия» «Новости из колхоза», «Птичья почта», «Городские новости», «Новости из леса», «Почтовая хроника» «Телеграммы»), а в «Былях и небылицах» тон задавали рассказы и сказки из мира природы. Первая передача «Лесных былей и небылиц» (13.03.1955) открывалась обращением Бианки:
Привет вам, уважаемые ребята! Дошло до меня, что вы любите послушать лесные были и небылицы — рассказы и сказки из жизни разных жихарок: зверей, птиц, насекомышей, деревьев, цветов... Я очень рад этому, потому что и сам с малых лет интересуюсь их житьем-бытьем, таким не похожим на нашу человеческую жизнь и так уморительно на нее похожую [Тексты передач 1955, 3].
«Вести из леса» соединяли радиогазету и радиосказку в одной программе. Такое соединение получилось органичным, поскольку в роли корреспондентов радиогазеты выступали говорящие животные, они же были персонажами радиосказок (например, корреспондент Припрыжкин — заяц). Рубрики программы, позаимствованные из обеих предыдущих передач, были постоянными (описание месяца, рассказы и сказки, «Лесной спорт», «Дела ребячьи», «Книга жалоб и предложений», «Бюро добрых услуг», «Подслушанные разговоры», ответы на загадки и загадывание новых).
Работа на радио, забиравшая много сил и времени, привлекала Бианки активной обратной связью (оставим за скобками артистизм писателя, раскрывшийся на радио, но не определявший его интерес к делу). В каждой программе звучали вопросы и задания для радиослушателей, ответы на которые обсуждались в следующем выпуске. Потребность в живом обсуждении объяснялась опытом кружковой работы, которую Бианки много лет вел со школьниками (материалы бывших кружковцев печатались в «Лесной газете» и использовались в радиопередаче). Известно, что он очень внимательно относился к письмам слушателей и требовал от своей команды не пропускать ни одного письма (количество писем, приходивших в редакцию ежемесячно, исчислялось сотнями, а общее число тысячами в год). По словам Сладкова, «письма на передачу шли потоком — от ребят и от взрослых. Читать их было одно удовольствие. Это помогало нам что-то уточнять в передаче и просто приносило много веселых минут» [О радиопередаче, 2].
Однако больше всего Бианки ценил радио за то, что оно позволяло использовать микрофон как рупор, посредством которого природоведческая тематика, маргинальная для периода 1950-х гг. (если не была связана с подъемом сельского хозяйства), начинала звучать как общественно значимая. В этот период основную сетку советского радиовещания заполняли политические программы, в промежутках между которыми транслировались передачи культурно-просветительского содержания. Автор культурной истории советского радио Стивен Ловелл, сравнивая американские и советские радиопередачи, указывает на культуртрегерский характер советских радиопередач, в то время как американское радио было больше нацелено на развлекательную функцию [Lovell 2015]. Встав между выпусками «Последних новостей», «Пионерской зорьки» и трансляцией оперы из Большого театра, «Вести из леса» с их природоведческой тематикой приобретали статус, за который был смысл бороться. По словам одной из редакторов, Бианки «всегда оставался бойцом. Воевал за своих жихарок, а еще больше — за души ребячьи, чтобы с малолетства понимали они и любили свою землю» [Флит, Русакова 1967, 139].
Бойцовскую позицию занимали и другие создатели программы. В конце 1950-х гг. от них уже не требовались панегирики великому Сталину, лучшему садоводу Мичурину и создателю агробиологии Лысенко (как это было в «Лесной радиогазете», выходившей в эфир в период 1947–1953 гг.), но сохранялась необходимость трансляции пионерских, колхозных и мичуринских «новостей». Вместо них в программе звучали истории из жизни животных и растений, причем не по принципу московской «Угадай-ки», а в природных взаимосвязях и закономерностях. Эти взаимосвязи раскрывались на материале флоры и фауны отечественных лесов, мир которых в передаче представляли сказочные персонажи (Бианки на народный манер шутливо называл их «жихарками»). Предметность образов и конкретность ситуаций из жизни леса служили заменой общим рассуждениям о «любви к родной природе» и «великом лесном богатстве», набившим оскомину в официальных текстах (в окружении Бианки был наложен негласный мораторий на использование пафосных слов о природе, да и само слово «природа» Бианки считал затасканным).
Выбор в качестве целевой аудитории дошкольников и младших школьников позволял избежать упреков в безыдейности, из-за которых закрывали программы для подростков (на несколько лет был выключен из эфира «Клуб знаменитых капитанов»), но нахождение в малышовой нише накладывало ограничения, лишавшие программу основной идеи: вдумчивое отношение к природе не имеет возрастных ограничений (опыт жизни каждого из создателей программы доказывал это). Однако уже первые выпуски «Вестей из леса» и отклики на них показали, что радиотрансляцию слушали не только дети и их дедушки-бабушки, помогавшие писать письма, но и взрослые, находившие в передаче ценное для самих себя. Это были люди разного возраста и разных профессий (библиотекари, учителя, инженеры, военные), проживавшие как в крупных городах, так и в провинции. В конверты присылаемых на радио писем они вкладывали свои фотографии, рисунки, эскизы (иногда артефакты в виде перьев птиц или гербария), подтверждавшие личную заинтересованность в лесной тематике. Детская передача о природе стала для многих слушателей программой жизни, не повторявшей постулаты общественно-политических программ.
В целях расширения аудитории «Вестей из леса» ее авторы отказались от чтения объемных сказочных текстов, занимавших в предыдущих программах Бианки много микрофонного времени. Им на смену пришли короткие сценические диалоги с остроумными развязками (раздел «Подслушанные разговоры»). Эти диалоги стали визитной карточкой таких писателей, как Николай Сладков и Эдуард Шим, а из радиопередач перекочевали в литературные сборники и хрестоматии по чтению. Отказ от нарративности способствовал превращению сказки в басню или аполог, с характерными для них афористичностью и моралью. В качестве персонажей выступали те самые «жихарки», жизнь которых, по словам Бианки, была «так не похожа на нашу человеческую жизнь и так уморительно на нее похожую» [Тексты передач 1955, 3]. Комично выглядели в исполнении животных сценки из разделов «Бюро добрых услуг», «Книга жалоб и предложений» и др., воспроизводившие формы советского быта (Сладков сравнивал радио-сказки с анекдотами, подчеркивая их краткость и комичность). Авторы «Вестей из леса» поначалу использовали в сценариях образы детей, но те, в отличие от жихарок, выглядели шаблонно и вызвали справедливую критику слушателей:
В этих передачах, весьма однообразных, вечно фигурирует «рыжий», «вихрастый» мальчишка с крупными веснушками на лице (можно подумать, что в нашей стране все ребята рыжие), который совершает чудеса ума и полон всяких благородных чувств. Может есть чудаки, которые верят всей этой чепухе, но я слишком хорошо знаю, каковы в действительности наши дошкольники, школьники и пионеры [Письма 1960–1963, 73].
От «рыжего и вихрастого мальчишки» редакторы передачи в итоге отказались, оставив действующими лицами только птичек-зверюшек и прочую живность. Сопоставление животных с людьми не вело к искажению природоведческих фактов, так как все авторы были опытными натуралистами, зато позволяло дать моральную оценку жизненным конфликтам и ситуациям. В интервью «Расскажите о передаче «Вести из леса»» Сладков подчеркивал моралистическое значение радиопередачи:
Наши слушатели не очень-то одобряли пояснительные и разъяснительные рассказы, им подавай действия и поступки, борьбу и победу. Но что примечательно — не любыми средствами! Победитель должен быть честен и благороден. Подлец, побеждающий лестью, обманом и трусливой хитростью симпатий не вызывал. Даже если это был зверь или птица [О радиопередаче, 1].
Морализирование, к которому был склонен и поздний Бианки, и ранний Сладков, предназначалось не только ребенку, но и взрослому, знавшему по жизненному опыту, что такое завышенное самомнение, приписывание чужих заслуг, властолюбие и бравирование правом сильного (совсем не детские грехи). Так, в сказке Шима «Мышь и сорока» речь идет о приписывании себе необоснованных заслуг:
— Р-расступись, народ! Р-разбегись! Это я, Лесная Мышь, по лесу иду!
— Чегой-то ты грозная такая?
— А я у Медведя в берлоге живу! [Шим 1969, 58].
Об этом же сказка Сладкова «Воробей и сапсан», впервые прозвучавшая в эфире летом 1964 г.:
— Я не простой Воробей, я в старом орлином гнезде вырос. А это вам не чик чирик!
— Не в гнезде, Воробей, сила. Я вот в старом вороньем гнезде вырос, а все равно я сокол, а не ворона, как и ты, Воробей — не орел [Тексты 1959, 30].
Сказка Сладкова «Друг или враг» об отношениях в мире животных заканчивалась эпилогом: «Лесные жители верят только делам. Плохие дела — значит враг. Хорошие дела — друг. А чему же им еще верить? Не словам же...», в котором подчеркивалось значение поступка, а не лживого слова.
Важной частью этической программы было гуманное отношение к природе, несводимое к природоохранной или экологической деятельности (этим «Вести из леса» принципиально отличались от пионерских проектов типа «Зеленый патруль» и экологических программ типа «КОАПП»). Не пресловутая польза, а деятельное и разумное участие должны определять этику поведения человека в лесу. Неприятие утилитарного отношения к природе артикулировалось во многих письмах радиослушателей:
Надо заинтересовать ребят в городе и деревне родной природой и не только разводить кроликов и выращивать кукурузу, а нужно наблюдать за жизнью дикой природы и видеть ее красоту и не думать, что можно перевернуть все по человеческому хотению [Письма 1964, 18].
Особый протест вызывали публичные разговоры про «вредных» птиц, которых якобы надо уничтожать, спасая зерно (в дружественном Китае шла кампания по массовому отстрелу воробьев, объявленных главными вредителями сельского хозяйства).
Отстаивая принципы этического отношения к природе, авторы передачи не тешили себя иллюзиями по поводу успеха перевоспитания условно плохого человека в условно хорошего. Свою задачу они видели в том, чтобы убедить «хороших людей в их правоте», поддержать их «в избранной ими позиции» (Н. Сладков) [Подготовительные материалы 1975, 3]. Принцип бианковского кружка, объединявшего единомышленников — друзей природы, создатели программы перенесли в формат всесоюзного радиовещания, и такое приглашение к участию вызывало отклик у взрослых радиослушателей.
Этическое отношение к природе дополнялось ее эстетическим восприятием, значение которого подчеркивалось во всех выпусках передачи5. Известно, что Бианки был противником научно-художественной литературы, настаивая на принципиальном разделении ее на научную или художественную, выбирая последнюю. Художественная составляющая в «Вестях из леса» задавалась высокой культурой слова, но не за счет использования авторитетных классических текстов (от стихов о природе и прозаических пейзажных зарисовок авторы программы отказались), а только путем собственного литературного творчества. По воспоминаниям членов редакции, работа над художественным словом была приоритетной при подготовке всех радио-выпусков. Тон каждой программе задавали открывавшие передачу живописные миниатюры наступившего месяца (автором лирических текстов был Ливеровский):
Раннее лето. Пролетьем называют эту пору, и она самая чудесная в годовом круге. Никогда так нежно не пахнет земля, никогда не бывает столько света и радости. Потому что все еще молодо в лесу, и клейкая непобитая листва, и шелковая мурава, и нарядные цветы [Тексты 1970, 93].
Красота поэтических картин корректировалась погодными реалиями каждого конкретного сезона (многие из «природников» вели фенологические календари и к смене погодных явлений относились с большим вниманием). В непривычно теплом январе 1962 г. по радио прозвучал следующий текст:
Пришел первенец года — январь и утвердил зиму. Правда, у нас в Ленинграде он ведет себя не очень по-зимнему. Прадеды наши называли январь «просинец», потому что светлеют дни в этом месяце, и потому что морозом, лютой стужей веет от небесной просини в низких облаках. А у нас такая нынче погода, про какую говорили: «Это не зима, а лето в зимнем платье». Недаром под Ленинградом видели грачей. Лето не лето, а на осень очень похоже — шуршит грязь под колесами, с крыш капает [Тексты 1962, 2].
Популяризация высокой культуры, звучавшая по советскому радио, базировалась на принципах патернализма: сверху спускалась готовая система ценностей, предназначенная для широких народных масс. Патернализм сближал культурное просветительство с политической пропагандой, которая, как и прослушивание оперы или декламация стихов, требовала от советского человека постоянной внутренней мобилизации. Своеобразие «Вестей из леса» было в том, что культура приходила к слушателям не из концертных залов, театральных студий и библиотек, а из реальных лесов. Лес как источник культуры сближал поклонника Блока Бианки, эстета Ливеровского и топографа Сладкова, многие годы тянувшего армейскую лямку. Последнему было нелегко среди таких эстетов, но именно природа, представленная демократичным лесом, давала возможность преодолеть культурный разрыв между ними6. Тот же путь поверх культурных барьеров открывался для многотысячных радиослушателей «Вестей из леса», находивших в передаче и познавательный материал, и высокую поэзию; как признавался один из них: «Очень интересны передачи о птицах. В них, кроме познавательного материала, масса поэзии. И то и другое одинаково необходимо» [Письма 1952–1960, 34]. Соединяя природу и культуру, слушатели программы ставили знак равенства между любовью к лесу и владением культурными практиками7.
Торжеством природы и культуры стала трансляция голосов птиц, записанных на магнитофонную ленту Сладковым, Ливеровским и профессором Мальчевским в мае 1958 г. Писатели-натуралисты отправились в лес вместе с сотрудником радио, имевшим аппаратуру, и провели ночь на глухарином току, чтобы под утро записать голоса птиц (зарянка, зяблик, певчий дрозд). По словам Сладкова, «лес был полон весенних звуков, а мы надежд»8. Надежды оправдались с лихвой: редакция была буквально завалена восторженными письмами от слушателей разных возрастов и социальных групп. В пении птиц они услышали голоса культуры, связанной с деревенским детством, провинциальным бытом и досугом в лесу. О своих ощущениях после передачи слушатели пытались рассказать языком «низовой лирики», перемежая эмоции с историями из своей жизни (в стихах или в прозе):
Спасибо дорогая редакция Ленинграда, что Ваша художественная передача всколыхнула всю мою юность. Я как будто все это пережила как в детстве, когда бегала в лесок жаловаться на судьбу свою. И лесок меня успокаивал. А птицы — их полет я часто наблюдала, даже им завидовала, потому что они улетают. А как утки гоготали в радио.
Все, все очень красиво, художественно. А я о таком художестве узнала первый раз в жизни, а жизнь моя очень длинная — кончается 84-й год [Письма 1960–1963, 40].
Для взрослых радиослушателей птичье пение, переданное по радио, обладало таким же культурным статусом, как и концерт в филармонии. Поэтому птичьи голоса они описывали в категориях музыкальной культуры: «хор птиц», «лесной концерт», «оркестр в лесу», «выступление артистов леса» (про зарубежные эксперименты с включением пения птиц в инструментальное исполнение советские слушатели не знали). Сравнение пения птиц с профессиональным искусством было одновременно их противопоставлением, и всегда не в пользу искусства. «Ваши лесные записи дороже мне любой музыки» [Письма 1952–1960, 54], — написал школьный учитель рисования. Ему вторил техник-инженер: «Музыку я очень люблю, но превзойти пение соловья не может ни один композитор, певец или певица мира» [Письма 1964, 2]. Авторы передачи, принадлежавшие к культурной среде Ленинграда, о таком противопоставлении не помышляли, ставя своей целью научить отличать синичку от красношейки, а глухаря от тетерева. Но письма слушателей указывали на потребность не в практиках наблюдения за птицами (или не только в них), а в признании права воспринимать природу без оглядки на хозяйственную пользу, культурный стандарт и идейно-патриотическую догму. Ленинградская радиопередача, транслировавшаяся на всю страну, сделала это право легитимным. Не последнюю роль играл город Ленинград, являвшийся в представлении слушателей воплощением настоящей культуры: «Шлю сердечную благодарность дорогой редакции и в свою очередь скажу, что еще больше люблю Ленинград. Этот город какой-то особенный, и его, с его Невой нельзя не любить» [Письма 1960–1963, 40], — писала слушательница из Краснодара.
Не подчинялись единой догме и ассоциации, возникавшие при прослушивании пернатых обитателей леса. Образы птиц, богатые метафорическими смыслами, были широко востребованы в советской культуре периода «оттепели», но в эфире «Вестей из леса» звучали не поэтические метафоры, а голоса реальных птиц из реальных лесов. Кому-то они напоминали песню «Летят перелетные птицы, а я не хочу улетать» в исполнении Бернеса, а в ком-то рождали мечту о преодолении территориальных и государственных границ (сам Бианки никогда не бывал за границей). Вдохновленные эмоциональным стилем и образным языком программы слушатели сами брались за поэтическое перо. Один из примеров — стихотворение, написанное ленинградской школьницей после передачи о перелетных птицах. Патриотическая тема переплетается в нем с подростковой неудовлетворенностью миром:
Спозаранку скворушки запели —
Угомону нет.
Звонко листья с липы полетели
Золотом монет.
Охрой вспыхнули, дрожа от стужи,
Чащи темных рощ.
Кто-то плачет, кто-то громко тужит...
Скворушки иль дождь?
И скорбят с надрывом, сердце раня,
Черных певчих хор.
Частый дождь по крыше барабанит.
Стонет грозный бор.
Вот-вот шумно ринут в небо стаи,
Курс — меридиан...
И на юге в синеве растают...
Поползет туман...
И поет вся стая в строгих платьях.
В песне — жизнь! Вся в ней.
Это птицы болью сердца платят Родине своей... <...> [Письма 1960–1963, 11].
Противоположные по смыслу коннотации в равной степени утверждали право человека на свободный выбор жизненного пути, давали ощущение раскрепощенности и полета: «Не знаю почему, но когда я вижу гордо парящих в небе птиц, меня охватывает волнение и восторг» (из письма рабочего) [Письма 1960–1963, 4]. Подобное волнение испытывали и авторы передачи, знавшие птиц не по школьным хрестоматиям и не по декламациям стихов на радио, а по глухариным токам, ночевкам в засидках и восходам солнца, встреченным в лесу. Не отягощенные грузом культуры, слушатели воспринимали знатоков лесных птиц как близких по духу людей. Так складывалось разновозрастное эмоциональное сообщество, отличавшее радио-аудиторию «Вестей из леса» от участников прочих программ. Подобного взаимодействия не возникало при прослушивании пения птиц с пластинок, выпущенных фирмой «Мелодия» в 1960-е гг. (может быть, поэтому интерес к таким записям быстро пропал).
Авторы программы прощали своим слушателям орнитологические ошибки, ценя в их письмах проявление искренности при описании своих чувств. Примером может служить письмо солдата Ходченкова, слушавшего «Вести из леса» в госпитале:
Уважаемая редакция и Виктор Бианки! Здравствуйте. Пишет вам письмо воин Советской Армии рядовой Ходченков Евгений. Вы удивитесь почему взрослый человек пишет в детскую редакцию. Но не удивляйтесь. Я сейчас нахожусь на лечении в Белоцерковском военном госпитале и так как я не могу подниматься с койки, я слушаю с 6 и 12 часов радио, слушаю и ваши передачи [Письма 1956–1960, 11]9.
Возле больничного окна, по его описанию, росла липа, на которую прилетали птицы. Когда по радио стали передавать пение дрозда, птичка за окном начала подпевать, и все остальные птицы подхватили это пение. По замечанию Ливеровского, что «на липе собирались у него птицы, это липа видать», но рукой Сладкова было написано: «Ну и пусть липа! Публикуйте!» [Письма 1956–1960, 11].
Рис. 1. Запись голосов птиц на магнитофон (иллюстрация из детского издания). Сладков Н. За птичьими голосами / худ. Е. Бианки. Л.: Детгиз, 1962
Пением птиц заслушивался не только находящийся на излечении рядовой, но и сотрудники ленинградского радио, в том числе руководившие им. Они вечно жаловались на свою оторванность от природы, к которой якобы рвались, но на самом деле воспринимали ее как вторичное от культуры явление, которому были глубоко чужды. Одна из редакторов Детгиза призналась Сладкову: «Мы позавидовали Вам — Вы видите многое, чего, наверно, многим из нас и увидать не придется. Мы почти лишены общения с природой. А именно она дает человеку силы и физические, и творческие» [Письма 1958, 6]. Но были и те, кто услышал в записях птиц живую культуру, не искаженную пропагандой и не отягощенную культурным просветительством: «Василий Иванович Васильев должен был контролировать политическое вещание (главную заботу председателей), но оно его, в сущности, не занимало. Свое сердце он отдал детским программам. Надо было видеть, с каким просветленным лицом он слушал «Вести из леса», где пели птицы и странно перекликались звери...» [Мархасев 2004, 37]. Услышал запись птичьих голосов и Бианки (это произошло в последние дни его жизни), передав свои чувства словами «словно в лесу побывал», а побывать в лесу «это всегда счастье» [О радиопередаче, 5]. Доверительно на этом фоне звучали слова одного из радиослушателей: «Мой сердечный, искренний привет Виталию Бианки, за его произведения — хорош он, побольше бы таких людей, рай был бы на земле» [Письма 1952–1960, 10].
Рис. 2. Графическое приложение к инструкции, как записывать голоса птиц в живой природе. Охота за голосами: книга об охоте с магнитофоном. Л.: Дет. лит., 1982
Письма слушателей раскрывали не только лирическую сторону души советского человека, но и трафаретность его языка и стандартность мышления. Этим свойством были отмечены как письма школьников, так и учителей, инженеров, пенсионеров и генералов в отставке (они тоже писали на радио). Оставляя без публичных комментариев письма взрослых, редакторы «Вестей из леса» не давали спуска юным слушателям (то, что Бианки называл «борьбой за души ребячьи») [Флит, Русакова 1967, 139]:
Люба Богданова из Ленинграда прислала «обиженное» письмо. «Передайте, пожалуйста, мое письмо. Я очень вас прошу, — обращается к нам Люба. — А то я на каждую детскую передачу отвечаю, а меня никогда не похвалят. Вы извините меня, что я так написала, но мне тоже хочется услышать по радио свое имя». Что ж, посмотрим, как Люба отгадала загадки [Микрофонные передачи 1966, 94].
Загадки Люба отгадала неверно, после чего следует комментарий: «Итак, дружок, первую твою просьбу мы выполнили — прочитали твое письмо. А вот похвалим мы тебя в следующий раз, когда ты правильно ответишь на все загадки» [Микрофонные передачи 1966, 94]. Жаждавшей всенародной похвалы Любе противопоставлялись те, кто дорожил истиной и отстаивал ее вопреки насмешкам. Так, в одной из передач рассказывалось о Наде из Башкирии, которая сказала в классе, что иногда утки на деревьях несутся, и все ребята засмеялись. Слушатели заступились за Надю, рассказав про утку, которая делает гнездо в дупле дерева, выводит там птенцов, которые потом выпрыгивают на землю10.
Помимо уроков морали создатели передачи давали уроки культурного письма, свободного от газетных (читай: идеологических) штампов, мешавших выразить свои впечатления от общения с природой:
Однажды мы передали рассказы Вовы Минькова, которые он прислал. И редакцию тотчас захлестнул поток рукописей от слушателей — маленьких и больших, от пионеров и пенсионеров. Всем хотелось рассказать о своих встречах с природой, о своих наблюдениях. Это радовало — столько у природы защитников! И огорчало: оказалось, что в представлении многих рассказы о природе — это просто описание случаев. Увидел, записал — и готово! Но случай может быть только толчком для рассказа, простое его изложение — еще не рассказ. Между делом мы разъясняли и это [О радиопередаче, 1].
Члены редакции были единодушны в том, что освобождение от языкового диктата начинается не с упражнений по стилистике и не с уроков по культуре речи, а с умения нестандартно видеть окружающий мир. Поэтому они советовали радиослушателям чаще бывать на природе, выезжая в ближайшие леса и обращая внимание на то, что кажется привычным для глаза. По словам Сладкова, «большинство так еще мало знали природу, что все, что они видели в ней, было для них обыкновенным: раз это есть, то так и должно быть! И тем и другим надо было доказать (показать!), что нет в природе обыкновенного, что все в ней — необыкновенно. Обычный цветок, созданный из комочка земли, капли воды и капельки солнца, — разве это обыкновенно? Все живое есть чудо. Да и неживое...» [О радиопередаче, 1].
Увидеть знакомый мир с необычной стороны помогали вопросы и загадки, игравшие в передаче не только познавательную, но и мировоззренческую роль (меняли оптику восприятия). В задаваемых вопросах (некоторые из них разворачивались в сюжетные истории) сталкивались трафаретные представления о природных явлениях и настоящее знание о них. Например, вопрос: «Думаете — все птицы летят на юг — за горы, за моря, в теплые края?» служил поводом для рассказа о том, что осенью птицы улетают в разных направлениях (красный воробей на восток, золотистая ржанка-кулик летит с Кольского полуострова на запад, а гаги-утки с Белого моря в Ледовитый океан, где вода не замерзает). Принцип оксюморона (от зимы птицы улетают на север) позволял стряхнуть с природного факта налет обыденности.
Пропагандируя лесную природу как доступную для познавательных и эстетических наблюдений среду, авторы «Вестей из леса» грешили против истины: нахождение в лесу требует времени и навыков (русская пословица «лес — бес» напоминала о чужеродности лесной среды), не говоря уже о практиках наблюдения над животным миром (любоваться полетом птиц под песню Бернеса и вести многочасовые наблюдения за их гнездованием — это не одно и то же)11. Остроумная игра со словом и смыслом, которой так увлекались создатели программы, не всегда сочеталась с «приземленностью» фактов. Те же слушатели, которые затаив дыхание ловили голос дрозда, писали письма о недостоверности излагаемых в программе наблюдений. Люди, культивирующие землю, не умеют культивировать себя (Терри Иглтон), зато хорошо знают землю. Примером может служить письмо дошкольницы, написанное ее бабушкой:
Я Валя Алешина Калужской облости тарусского района деревни Лопатино мне 6 годов слушала передачу по радио с города Ленинграда рассказ охотников. Я им не поверила, потому что я прожила уже 6 годов на свети была в Москве в зоопарки видила всяких зверей и вижу ястреба в своей деревне каждый день почти, и знаю охотника дядю Андрея Зимакова мой сосед. Он тоже врать умеет хороше. Но такого я не слышала. Чтобы утки убивали лисиц, чтобы охотник убил одним выстрелом 5 куропаток, чтобы одним выстрелом убить ястреба и курицу это я не поверю (орфография и пунктуация письма сохранены — М. К.) [Письма 1956–1960, 1].
Малолетняя внучка и ее полуграмотная бабушка не смогли оценить по достоинству замысел редакции, но признавались, что передача им все равно нравится. Авторы «Вестей из леса» не настаивали на истинности подобных историй, стремясь передать живую атмосферу охотничьего рассказа, в котором переплетаются вымысел и реальность. В одном из выпусков «Вестей из леса» (1956 г.) Бианки высказал свое отношение к рассказам охотников: «А на самом деле в их рассказах такая часто скрывается правда удивительная и редкая, какой никто из домашних людей еще никогда и не видел. Ну и пусть — сказки. В них постоянно тоже что-нибудь да правда» [Тексты передач 1956, 15].
Рис. 3. Фотографии одной из постоянных слушательниц «Вестей из леса» // ЦГАЛИ СПб Ф. 538 Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 250
Рис. 4. Письмо дошкольницы, отправленное ее бабушкой на радио // ЦГАЛИ СПб Ф. 538 Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 296
Иначе относились к «Вестям из леса» ученые-натуралисты, критически оценивавшие творчество авторов программы (отношения с научным сообществом у «природников» складывались непросто). Во время совместной экспедиции Сладков предложил профессору Кустановичу взять в руки ядовитую змею, убеждая, что она не укусит, если прижать ей хвост.
— Дело не в хвосте, а в том, что сказки рассказываете. Это ваша очередная выдумка, как все в ваших книгах.
— В рассказах для детей и должна быть сказка. Красота и тайна — вот что больше всего затрагивает душу ребенка.
— Ваше вранье и сюсюканье отобьет желание читать книги у любого толкового натуралиста [Лухтанов 2009, 113–114].
Слушатели «Вестей из леса» знали, что прав Кустанович, а не Сладков, и что ядовитую змею в руки лучше не брать. Но знаменитый московский профессор был от них далеко, а Николай Сладков с записями птичьих голосов и понятными уроками жизненной морали — близко. Достаточно было раз в месяц включить радио и послушать «Вести из леса», чтобы почувствовать себя не только любителем природы, но и по-настоящему культурным человеком.
Источники
Вести из леса 1961 — Вести из леса: сб. / В. Бианки, А. Ливеровский, Н. Павлова, Н. Сладков, Э. Шим. Л.: Детгиз, 1961.
Записки 1975 — Записки читателей // ЦГАЛИ СПб. Ф. 538. Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 249.
Лухтанов 2009 — Лухтанов А. Г. Путешествие за птицами. Алматы: Глобус, 2009.
Мархасев 2004 — Мархасев Л. С. Белки в колесе: записки из Дома радио. СПб.: Лики России, 2004.
Маяковский 1941 — Маяковский В. В. Расширение словесной базы // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 12 т. Т. 10. Стихи, 1929–1930. Статьи. Стенограммы выступлений 1926–1930 / ред. и примеч. В. Катаняна. М.: Гос. изд-во «Худож. лит.», 1941. С. 286–289.
Меньшикова 1966 — Меньшикова А. Радио — детям. Из опыта вещания для детей и юношества Всесоюзного радио. М.: Комитет по радиовещанию и телевидению, 1966.
Микрофонные передачи 1966 — Микрофонные передачи для младших школьников «Вести из леса». 1966 // ЦГАЛИ СПб. Ф. 293. Государственная телерадиокомпания Петербург — 5 канал. Оп. 6. Д. 392.
О радиопередаче — О радиопередаче для детей «Вести из леса». Рукописи Н. И. Сладкова // ЦГАЛИ СПб. Ф. 538. Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 26.
Письма 1952–1960 — Письма Н. И. Сладкову. Слушателей радиопередачи «Вести из леса». Т. 1. // ЦГАЛИ СПб. Ф. 538. Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 250.
Письма 1956–1960 — Письма читателей к В. В. Бианки // ЦГАЛИ СПб. Ф. 538. Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 296.
Письма 1958 — Письма Н. И. Сладкову учреждений и организаций. 1953–1988 // ЦГАЛИ СПб. Ф. 538. Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 257.
Письма 1960–1963 — Письма Н. И. Сладкову слушателей радиопередачи «Вести из леса». Т. 2. // ЦГАЛИ СПб. Ф. 538. Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 251.
Письма 1964 — Письма Н. И. Сладкову. 1959–1975 // ЦГАЛИ СПб. Ф. 538. Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 247.
Письма 1976–1992 — Письма читателей Н. И. Сладкову. 1976–1992 // ЦГАЛИ СПб Ф. 538. Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 248.
Письма 1985 — Письма Н. И. Сладкову Петровой Марии Григорьевны, актрисы, диктора Ленинградского Радио. 1985–1988 // ЦГАЛИ СПб. Ф. 538. Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 207.
Подготовительные материалы 1975 — Подготовительные материалы для телевизионного интервью Н. И. Сладкова журналистке Л. Ракутской (Москва). 1975. Рукописи Н. И. Сладкова // ЦГАЛИ СПб. Ф. 538. Сладков Н. И. Оп. 1. Д. 64.
Тексты передач 1955 — Тексты передач для школьников под редакцией писателя Виталия Бианки «Лесные были и небылицы». 1955 // ЦГАЛИ СПб. Ф. 293. Государственная телерадиокомпания Петербург — 5 канал. Оп. 2. Д. 5348.
Тексты передач 1956 — Тексты передач для младших школьников «Вести из леса». Ответственный редактор В. Бианки. 1956 // ЦГАЛИ СПб. Ф. 293. Государственная телерадиокомпания Петербург — 5 канал. Оп. 4. Д. 251.
Тексты 1958 — Тексты радиожурнала «Звездочка» // ЦГАЛИ СПб. Ф. 293. Государственная телерадиокомпания Петербург — 5 канал. Оп. 5. Д. 171.
Тексты 1959 — Тексты передач для школьников за июнь 1959 года // ЦГАЛИ СПб. Ф. 293. Государственная телерадиокомпания Петербург — 5 канал. Оп. 5. Д. 348.
Тексты 1962 — Тексты передач для младших школьников «Вести из леса». 1962 // ЦГАЛИ СПб. Ф. 293. Государственная телерадиокомпания Петербург — 5 канал. Оп. 5. Д. 969.
Тексты 1970 — Тексты микрофонных передач «Вести из леса». 1970 // ЦГАЛИ СПб. Ф. 293. Государственная телерадиокомпания Петербург — 5 канал. Оп. 7. Д. 131.
Шим 1969 — Шим Э. Ю. Кто копыто потерял?: Рассказы и сказки. М.: Детская литература, 1969.
Примечания
1 Советское радио для детей ждет своих исследователей. Материалов, посвященных детским программам, практически нет, а существующие работы по культурной истории советского радио ограничиваются скупым перечислением детских передач. Наиболее полные исследования по истории советского радиовещания опубликованы Т. М. Горяевой. Детские радиопрограммы выборочно упоминаются в подготовленном ею издании: [Горяева 2007]. Истории одной из передач для подростков посвящено исследование И. В. Дубровицкого [Дубровицкий 2003], а о молодежных программах вспоминают ее создатели Н. Киселева и М. Кусургашев в книге «Дважды двадцать, или 40 счастливых лет. Радиостанция «Юность»» [Киселева, Кусургашев 2002].
2 Передача под названием «Лесная радиогазета» продолжала выходить на московском радио, но уже без участия команды Бианки.
3 Заслуженная артистка РФ Мария Петрова, ставшая голосом детского радио Ленинграда, вспоминала работу в «Вестях из леса» как период «изумительной творческой жизни». В письме к Сладкову она написала о том, что продолжает в концертах и бенефисах читать отдельные тексты из «Вестей из леса» (письмо написано в 1985 году) [Письма 1985, 1].
4 О значении радиогазет в системе советских средств массовой информации см. [Тихонова 2020].
5 Эстетический посыл «Вестей из леса» очевиден при сравнении с другими передачами для детей этого периода. Так, в детской программе «Звездочка» (1958 г.) была выразительно прочитана история про девочку Таню, посадившую у себя в саду королевскую лилию (семена этого редкого цветка подарил ей мальчик). Когда семя проросло, оказалось, что «на клумбе среди анютиных глазок, маргариток и настурций вылезла неповоротливая толстая брюква». Однако Таня не долго расстраивалась. Когда брюква созрела, бабушка приготовила из нее очень вкусный гарнир к котлетам. Значит, Таня не зря трудилась. А на следующий год героиня рассказа посадила в своем саду полезную для здоровья морковку [Тексты 1958, 6]. Действительно, какая польза может быть в цветочном саду от королевской лилии?!
6 По признанию Сладкова, «передача приносила радости и огорчения. Но мне все шло на пользу; после армии, в которой я пробыл 16 лет, я попал в совершенно иную среду, с которой надо было сживаться. Поэтому и отрицательный результат был все же результат» [О радиопередаче, 2].
7 Взрослые радиослушатели «Вестей из леса» аттестовали себя как любителей природы и искусства: «Я человек любящий природу, искусство и музыку. С большим вниманием слежу за передачами по радио. И вот сидя в комнате вдруг мысленно переносишься с участниками (1 лесного репортажа) в лес да в самую чащу. Слышишь пение птиц, слышишь плеск воды, слышишь треск сучьев, и всю прелесть лесной жизни» (пунктуация автора — М. К.) [Письма 1952–1960, 20].
8 О том, как шла первая запись пения птиц, см. в книге Н. Сладкова «За птичьими голосами» (1968). Технике записи голосов леса посвящено издание «Охота за голосами. Книга об охоте с магнитофоном» (1982), авторами которого были Сладков и Мальчевский.
9 Далее автор письма продолжает. «И вот эти птицы устроили настоящий концерт, а когда я попросил сестру поставить радио на подоконник то птицы еще больше осмелели и начали залетать на карниз, сели на ближние ветки. А когда раздались трели певчего дрозда то одна какая-то птичка подлетела на самый край ветки и начала так громко выводить свою песню что я невольно рассмеялся. А когда передача закончилась птицы еще долго сидели на ветках. Вот и все что я хотел вам написать. На этом кончаю. До свидания с приветом Е. Ходченков» (пунктуация письма сохранена — М. К.) [Письма 1956–1960, 11].
10 В одном из выпусков передачи (август 1970 г.) обсуждались ответы на загадку про лося «Из глади озера рога растут — большие, широкие». «Особенно насмешила нас Надежда Александровна Дерескова (она учится в 5 классе, но называет себя, как видите, очень уважительно — по имени-отчеству)», которая нарисовала бегемота. «Ребята, объясните Наде, где живут бегемоты» [Тексты 1970, 143]. Иронию вызвал не нелепый ответ девочки, а то, как официально пятиклассница представила себя в письме.
11 Не лишена иронии записка, адресованная Сладкову во время одной из его встреч с читателями (1975 г.). «Николай Иванович, скажите, пожалуйста, кем Вы работаете, что так много Вам удается бывать в лесу?» [Записки 1975, 2]. О том же самом, но с простодушным доверием написал учитель русского языка. «Ведешь урок, увидишь воробья в окно — сразу мысль переходит на другое; услышишь трескучую сороку — опять же хочется бежать в лес, в поле, тесной становится классная комната». Мечтая вырваться из учительских будней, автор письма поинтересовался профессией Сладкова. «Я хочу получить профессию, подобную Вашей» [Письма 1976–1992, 59].
About the authors
Marina Kostukhina
The Herzen State Pedagogical University of Russia
Author for correspondence.
Email: eakost@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8016-7676
Russian Federation, Saint Petersburg
References
- Dubrovitskiy 2003 — Dubrovitskiy, I. V. (2003). «Rovesniki» — peredacha dlya starsheklassnikov: iz istorii otechestvennogo radioveshchaniya [«Rovesniki» — a program for high school students: from the history of domestic radio broadcasting]. Moscow: Fakul’tet zhurnalistiki MGU.
- Flit, Rusakova 1967 — Flit, L., Rusakova, I. (1967). Vesti iz lesa [News from the Forest]. In Zhizn’ i tvorchestvo Vitaliya Bianki [Life and Work of Vitaly Bianki] (pp. 137–144). Leningrad: Detskaya literatura.
- Goryaeva 2007 — Goryaeva, T. M. (Ed.). (2007). «Velikaya kniga dnya...»: radio v SSSR: dokumenty i materialy [«The Great Book of the Day...»: Radio in the USSR: Documents and Materials]. Moscow: ROSSPEN.
- Kiseleva Kusurgashev 2002 — Kiseleva, N., Kusurgashev, M. (2002). Dvazhdy dvadtsat’, ili 40 schastlivykh let: Radiostantsiya «Yunost’» [Twice Twenty, or 40 Happy Years: Radio Station «Yunost’»]. Moscow: Radiostantsiya «Yunost’».
- Lovell 2015 — Lovell, S. (2015). Russia in the microphone age: A History of Soviet Radio, 1919–1970. New York: Oxford University Press.
- Tikhonova 2020 — Tikhonova, O. V. (2020). Radiogazety v Sovetskoy Rossii (1920–1930-e gg.) [Radio Newspapers in Soviet Russia (1920-1930s)]. Moscow: Fakul’tet zhurnalistiki MGU im. M. V. Lomonosova.
Supplementary files