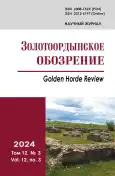Serving tarkhans of the Western Cis-Urals in the 16th–17th centuries
- Авторлар: Iskhakov R.R.1
-
Мекемелер:
- Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
- Шығарылым: Том 12, № 3 (2024)
- Беттер: 654-667
- Бөлім: Articles
- ##submission.datePublished##: 08.10.2024
- URL: https://journal-vniispk.ru/2308-152X/article/view/267077
- DOI: https://doi.org/10.22378/2313-6197.2024-12-3.654-667
- EDN: https://elibrary.ru/NHBLYE
- ID: 267077
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
Research objectives: To analyze the evolution of the status of the institution of serving tarkhans of the Western Cis-Urals during the period of this territory’s entry into the Moscow state (second half of the 16th–17th centuries).
Research materials: The empirical basis of the study is unpublished documents of the 17th century from the “Ufa Prikaznaya Izba” collection of the Russian State Archive of Ancient Acts, act materials from the Kazan Khanate period introduced into scientific circulation, as well as the works of scientists who touched upon the problem of the functioning of the institution of serving tarkhans in the Turkic-Tatar states and the Moscow principality in their works.
Results and scientific novelty: The data revealing the legal status of the serving tarkhans in the eastern uluses of the Kazan Khanate were studied and summarized, and the evolution of the position of representatives of this stratum of service people of the Moscow state on the territory of the Ufa district in the 17th century was shown. Based on the studied materials, it was concluded that the tarkhans were an integral part of the Tatar service class who had significant patrimonial estates in the border regions of the Kazan Khanate. After the Urals became part of the Muscovite kingdom, the Russian administration maintained the previous rights of the tarkhans, including in the area of land ownership. Significant changes in the status of the tarkhans were noted in the second half of the 17th century, when a group of "new" tarkhans began to form from among the yasak population (Bashkirs) who did not have tax immunity, which contributed to the rapprochement of the tarkhans with representatives of the Bashkir class.
Негізгі сөздер
Толық мәтін
В составе служилых людей Уфимского уезда в XVII в. фиксируются две социальные страты тюрко-татарского происхождения – служилые татары и тарханы. Несмотря на то, что обе эти группы были представителями одного сословия и являлись наследниками золотордынской военно-политической системы, их правовое положение, а также формы землевладения имели существенные отличия. Если служилые татары, владели землей на правах поместного жалования, то владения тархан были включены в состав вотчин ясачных волостей, но при этом они не облагались натуральным налогом.
Чтобы оценить особенности правового статуса тархан в пределах Уфимского уезда необходимо обратиться к более ранним материалам, проливающим свет на формирование института тарханства в тюрко-татарских государствах средневековья. В кочевых тюркских и монгольских сообществах «тарханами» назывались лица, отличившиеся в бою и жалованных правителями за свою доблесть правом налогового и судебного иммунитета. Тарханами могли стать рядовые общинники, которые в дальнейшем пополняли собой слой феодальной аристократии. В зависимости от степени военных и иных заслуг привилегии тарханов могли сильно различаться [15, c. 89, 126–127].
В период формирования Монгольской империи происходит расширение применения тарханного иммунитета. Тарханными правами по усмотрению хана могли наделяться как отдельные лица, так группы людей, а также конфессиональные институты. В частности золотоордынскими правителями выдавались тарханные ярлыки православным монастырям, а также иерархам церкви.
Схожие права у тарханов были в Казанском ханстве. Сохранившиеся тарханные ярлыки ханов Ибрагима (1467–1479 гг.) и Сахиб-Гирея (1523) свидетельствуют о наличии в составе феодального класса ханства привилегированной группы наделенной налоговым и судебным иммунитетом, а также освобождавшейся от натуральных повинностей. Тарханный статус мог быть наследственным или приобретённым (пожалованным ханом), при этом особые права небыли безусловными. При продаже или передачи земель, эти владения переставали считаться тарханными, то есть освобожденными от ясака. В тарханных ярлыках выданных казанскими ханами отсутствуют территориальная локализация – особые права распространялись на все земли в пределах государства, которые принадлежали тарханам и вплоть до то того времени пока они ими владели[1]. Таким образом, в Казанском ханстве не было особой формы тарханного землевладения.
После «казанского взятия» тарханы практически перестают фиксироваться как отдельная социальная категория в пределах Казанского уезда. В писцовых и переписных книгах данное обозначение практически не встречается. Р.Н. Степанов, специально занимавшийся этим вопросом, нашел лишь отдельные упоминания казанских служилых тархан в перечневых росписях Разрядного приказа за 1637–1654 г. [15, c. 36]. Все это может говорить о том, что в центральных районах бывшего Казанского ханства представителей данной социальной группы было не так много и они были тесно инкорпорированы с состав татарского военно-служилого сословия. Несколько иная ситуация имела место на окраинах казанского государства – на Горной стороне и в Приуралье.
В XVI – начале XVII в. в Волжско-Сурском междуречье отмечаются тарханы, занимавшие привилегированное положение в местном обществе и освобождавшиеся от ясака [20, c. 137–138]. В Западном Приуралье в период его вхождения в состав Московского государства также фиксируются прослойка служилых тархан, владевших вотчинами и поместьями, не облагавшимися натуральными налогами. Оба дошедших до нашего времени тарханных ярлыка казанских ханов хранились у татар-вотчинников (ясачных татар, владельцев оброчных вотчин) данного региона.
С чем же было связано такое положение? Почему именно на окраинах Казанского ханства были сконцентрированы представители данной группы служилого сословия? Это можно объяснить теми функциями, которые они выполняли в приграничных районах государства. Известна практика, когда тарханные грамоты выдавались татарскими ханами за поселение в стратегически важных, но малозаселенных регионах. В 1459 г. крымским ханом Хаджи-Гиреем был выдан тарханный ярлык, согласно которому налоговый иммунитет предоставлялся всем тем, кто хотел поселиться в районе Нижнего Кырк-Ере [26, c. 307]. Можно предположить, что данным мотивом руководствовались и казанские ханы, предоставляя тарханный иммунитет лицам, заселявшим восточные пределы государства, получая вотчины в неспокойном регионе приуральской лесостепи. Тарханы, получая более широкие права и привилегии в тоже время должны были нести дополнительные обязанности перед государством, такие как защита приграничных районов, контроль торговых путей и проч.
Татарские тарханы фигурируют как участники военных действий по защите восточных улусов Казанского ханства. Как повествует летописец в военном сражении московских и казанских войск в 1468 г. на р. Белой русскими был взят в плен «князева сын тарханский» Тулазей [23, c. 77]. По всей видимости, служилые тарханы в Казанском ханстве выполняли и некоторые важные административные функции, связанные с контролем местного ясачного населения, а также сбора с них натурального налога. По мнению И.Д. Кузнецова чувашскими волостями руководили тарханы и сотники, а в деревнях выбирались старосты и десятники [14, c. 61].
В качестве аналогии можно привести положение арских князей в Вятском крае. Поселившись в бассейне р.Чепцы и основав здесь погост Карино (Нократ) в XV в. арские князья образовали здесь обособленное владение (княжество). В результате похода 64-тысячного войска Ивана III в августе 1489 г. Вятская земля вошла в состав Московского государства [11, c. 76]. Арские князья также были вынуждены признать свое московское подданство, сохранив в пределах своих владений широкие права, коими они обладали в предшествующее время. Московские власти, нуждавшиеся в военной поддержке арских князей и их помощи в подчинении местного нерусского населения, признали их особый правовой статус. В жалованных грамотах московских государей было подтверждено право арских князей собирать ясак (шкурками белок) с подвластного населения (удмуртов, татар и бесермен), часть которого передавалось в государеву казну, а также вести среди них судопроизводство. Сами арские князья могли быть судимы лишь хлыновским наместником в присутствии других татарских феодалов. Арские князья имели право «призывать» и привозить в свои владения ясачных людей из пределов Казанского ханства[2]. Земли татарских владетелей, в том числе их промысловые угодья (вотчины) на р.Чепце считались «отчиной» государя[3].
Можно предположить, что схожими правами и обязанностями обладали татарские феодалы, жалованные тарханными ярлыками в восточных улусах казанского государства. Здесь они получали в вотчинное владение земли в районах, где требовалось усиление военного присутствия и административного контроля. В 1784 г. у жителей Гайнинской поземельной волости (совр. Бардымский район Пермской области) был записан рассказ, согласно которому их предки были тарханами, переселившимися сюда «из города области Булгарской, называемой на их языке Шагер Булгар, который переименован уже и назван Казанью» [3, c. 7]. С чем же было связан переезд служилых людей в такой отдаленный от митрополии край? Дело в том, что данная область играла заметную роль в организации пушной торговли с Сибирью, здесь находились крупные промысловые владения тюркского и угорского населения, приносившие существенный доход [13, c. 13–15]. Другой пример. Башкирцы[4] Минской поземельной волости сохраняли память о служилом статусе их предков, утверждая царским чиновникам, что они происходят «от княжества и тарханства татарского и в разных местах бывшей Казанской… были пожалованы землями и другими угодьями»[5]. Их земли находились в важном в военно-стратегическом отношении районе Бельско-Уфимского междуречья. Именно здесь находилась крупный военно-административный центр Ногайской Орды (Чертово городище) и была возведена уфимская крепость [22]. Отметим также, что минцы в длительном московско-кучумовском противостоянии, были главной опорой татарских царевичей в центральном Приуралье, считая себя «туменцами» шибанидов[6, c. 42].
По мнению А.Н. Усманова тарханы Приуралья в отличие от представителей общинной верхушки ясачных башкирцев (биев) активно выступали против признания московского подданства. Этот факт, исследователь объясняет тем, что в период казанского и ногайского господства тарханы были сборщиками ясака, получали от татарских правителей значительные земельные пожалования, поэтому небыли заинтересованы в кардинальной смене властной вертикали [24, c. 104]. Соглашаясь с мнением данного автора, отметим, что наряду с материальными факторами не мене важное значение имели идеологические и политические предпочтения представителей этой социальной группы. Являясь представителями татарского военно-служилого сословия они продолжали признавать верховную власть своих сюзеренов из рода Чингизидов. Другое важное уточнение. На сегодняшний день не выявлены примеры функционирования института тарханства в Ногайской Орде и Сибирском ханстве, что может говорить о том, что тарханы в Приуралье получили свои права от правителей правого крыла Улуса Джучи и казанских ханов. Другим тюрко-татарским государством, ханы которого практиковали пожалование тарханных прав было Крымское ханство. Таким образом, институт тарханства получил распространение на территориях бывшей Золотой Орды с преимущественно оседлым населением [16, c. 77–81].
Итак, для усиления своей власти в Приуралье казанские правители жаловали служилым тарханам вотчинные земли. Татарские феодальные кланы, получая вотчины в Закамье и Приуралье, также сохраняли свои военно-ленные владения (суюргалы) в Предкамье. Если поместные земли в центральных районах Казанского ханства использовались для хлебопашества, то вотчины в малозаселенных районах лесостепного пограничья как промысловые угодья – для добычи ценного меха и дикого меда. В частности, такая форма землевладения сохранялась в начале XVII в. у татар проживавших в Заказанье. Так, служилый татарин д. Менгер Алатской дороги Казанского уезда (совр. Атнинский р-н РТ) Алмячка (Альмухаммад) Янбахтин «с товарыщи» на основании купчей составленной в 935 г. по лунной хиджре (не ранее 16 сентября 1528 г.) владел землей в Восточном Закамье «з деревнями и с медом и с плужною с полянною землею и с сенными покосы с лугами и с рыбными ловлями с озеры и в лесах з зверьми и со всеми угодьи». Границы его угодий доходили на севере до Камы, на востоке совпадали с руслом реки Сусары до ее устья, на юге спускались до вершины реки Кугурчи и доходили до большой дороги, на западе шли по реке Зай до ее устья [18, c. 235].
В 1613 г. служилому татарину д. Кугарчин (современный Рыбно-Слободской р-н РТ) Ногайской дороги Казанского уезда Булату Монашеву были жалованы «бобровые гоны» на огромном участке по р. Кинель с устья до вершины (совр. Оренбургская и Самарская обл.). В 1618 г. его брат Килей Монашев получил «тарханную грамоту» на «бобровые ловли, что за Камою рекою по Кинель речке». В этом же году «служилые тотаровя» Ишей Хозяшев и Килей Монашев получили поместную землю по Зюрейской дороге Казанского уезда, «что бывало исстари городище Чаллинское». Известно, что к 1690-х гг. у служившего «по Казани» сына Сулеймана Монашева Юсупа поместье находилось в д. Челны Зюрейской дороги. Оброчная вотчина же его располагалась «за Камою рекою по Кинеле реке по обе стороны до вершины, да по Кинельчике реке по обе ж стороны до вершины да по двум рекам Саврушам да по третьей речке Аманаке, что промеж ими течет да по Зичайке речке». В 1690/1691 г. на эти же земли по р.Кинель была дана грамота служилому татарину Ишейке Тохтарову, чей дед являлся двоюродным братом Килея Монашева [8, c. 31]. Представители рода Монашевых контролировали также вотчинные угодья на р. Ик. Вотчинные права Монашевых были подтверждены оберегательными и тарханными грамотами московских царей, они признавались по праву «старины» и местным ясачным населением.
По грамоте 1628 г. служилому татарину Москову Хозяшеву перешла во владение «старинная вотчина», «бортные ухожья», которые располагались по всей территории Закамья. Ранее эти угодья были жалованы его отцу – Хозяшу Сюндюкову. Между реками Большой и Малый Черемшан находилась вотчина – «бортный ухожей с текучим зверем», принадлежавшая «исстари» татарским князьям Яушевым [19, c. 63]. Роду Яушевых на правах поместья и вотчины принадлежали также промысловые угодья на р.Иж.
Не вызывает сомнения, что часть вотчин закрепленных за служилыми татарами в период вхождения Волго-Уралья в состав Московского государства принадлежали их предкам еще со времен Казанского ханства. Об этом свидетельствуют часто встречающиеся в источниках формулировки о прежнем статусе земель – принадлежавшие «исстари», «отцам и дедам» просителей и проч., а также сохранившиеся акты ханского периода и многочисленные документы спорных дел. Пожалование этих вотчин можно рассматривать как форму правовой легитимизации московскими государями, наследственных прав на земли, закрепленных еще при казанских ханах. Воеводскими канцеляриями признавалась юридическая сила актов выданных правителями Казанского ханства, при спорах за землю, предъявление таких документов было весомым аргументом для закрепления прав собственности на оброчные вотчины. Таким образом, наблюдавшаяся в начальный период московского господства ситуация при которой служилые татары жившие в Заказанье владели вотчинами в Приуралье была наследием ханского периода. Именно такая диверсифицированная система землепользования позволяла татарским феодалам содержать крупные конные отряды являвшиеся основой военной мощи казанцев.
После «казанского взятия» и кардинального изменения военно-политической ситуации в Волго-Уральском регионе часть военно-служилого сословия, принимавшего участие в сопротивлении, лишилось своего прежнего статуса. Служилые тарханы не были исключением. В ходе судебного процесса в 1680 г. ясачные татары д. Мушуга Казанской дороги обосновали свои права на вотчинные земли на р.Ик, предоставив тарханный ярлык хана Сахиб-Гирея. В ходе разбирательства дела мушугинцами были доказано, что они владеют этими вотчинами «по крепостям 929-го (тарханный ярлык хана Сахиб-Гирея 1523 г. – Р.И.) и 785-го (дата соответствует периоду с 1 сентября 1576 г. по 31 августа 1577 г. – Р.И.)[6]». Ясачные татары утверждали, что их вотчина была «написана в Казани в прежних ясашных книгах по сию Казанского взятия в первых летах, а у него же Акешки Доскеева с товарыщи на ту вотчину до Казанского взятия, как в Казани был татарский царь и тогда вотчину дал владеть деду его Доскену Белякову и дал жалованную грамоту и та де грамота татарская у него Акешки» [12, c.15]. Указом от 20 мая 1680 г. данной вотчинной «было велено владеть им Акешку с товарыщи по прежнему… на Уфе, в ясашных книгах та вотчина написана за ними и в сыску обыскные люди сказали, что та вотчина их Акешкова с товарыщи, а не башкирская, а уфинским башкирцом Каракузку Аканаеву с товарыщи в той вотчине отказать, для того, что они на ту вотчину крепостей никаких не положили»[7].
По мнению известного археографа М.И. Ахметзянова предки мушугинцев, держателей ярлыка Сахиб-Гирея были жителями Заказанья, переселившиеся после 1552 г. в бассейн р. Ик. В качестве доказательства своей гипотезы им приводится запись на надгробии Аюба б. Мухаммеда, умершего в 1472 г. и захороненного возле д. Большие Нырсы Тюлячинского района РТ [4, c. 53]. В пользу мнения М.И. Ахметзянова говорит и купчая от 15 марта 1627 г. согласно которой вотчинной по р.Ик владел житель д. Нысы Иткиня Янчюрин[8], а также факт географической близости этой деревни к месту обнаружения ярлыка в начале ХХ в.[9]– д. Мамалаево Тюлячинского района РТ. Здесь уместно привести и мнение ясачных людей Иректинской волости, споривших с ясачными татарами о данной вотчине. Они утверждали, что родовые земли мушугинцев располагались «по Зюрейской дороге деревни Малые Суни ... да деревня Балтачева а Тойма тож ... да деревни Ныс»[10].
Ясачными татарами (бобылями) считались жители д.Тынламас Казанской дороги, владевшие тарханным ярлыком хана Ибрагима. В 1685 г. с челобитной к уфимскому воеводе И.П. Кондыреву обратился житель этой деревни Кутлуметко Кутлугушев. Он ходатайствовал о записи его на Уфе в служилый тарханский список. Свою просьбу он обосновывал тем, что «в прошлых годех давных служили дед и отец мои, в служилых тарханех и есть о том у меня казанских босурманских царей грамота татарским писмом писана»[11]. К. Кулушевым была предъявлен ярлык казанского хана Ибрагима, переведенный в уфимской приказной избе абызом Артыком Иманаевым. Слова просителя, который утверждал, что фигурировавшие в грамоте лица, были его прямыми предками, были подтверждены «служилым мурзой» Асаном Кулунчаковым. Представленный ярлык и доводы К. Кутлугушева были признаны достаточным основанием для удовлетворения его просьбы. 19 января 1685 г. думный дворянин и воевода И.П. Кондырев «слушав сеи выписки велел Кутлумбетка Кутлугушева (Кулушева) написать в список в служилые татара и о том дать оберегалную память»[12]. В мае 1702 г. К. Кулушев добился у уфимского воеводы Е.П. Зыбиным записи в тарханы. Вместе с ним в тарханы были переведены его родственники, служилые татары деревень Базы и Янгаз Нарат Казанской дороги Уразайка и Алийка Ишметева, Абдрахман Каминкин. Им была выдана оберегательная память, в которой предписывалось «с служилыми татара на караулы и во всякие посылки их Кутлуметка с товарищи не спрашивать» [7, c. 44].
23 февраля 1690 г. указной грамотой из Приказа Казанского дворца уфимскому воеводе И.А. Толстову было предписано написать в тарханскую службу по Уфе татарина Казанского уезда Ураза Байбарина, «а ясак его велел наложить на иных уездных людей» [7, c. 45]. Данное решение аргументировалось тем, что «исстари де родственники ево служат нам, Великим Государем, по Уфе в тарханех, и дано сродникам ево бусурманское татарское писмо» [7, c. 45].
К числу ясачных татар были причислены потомки татарских тархан из рода Хусаина и Хасана Асылгузиных получивших тарханные ярлыки от казанских ханов Мухаммед-Амина (1516 г.) и Сафа-Гирея (1526 г.)[13] проживавших в д. Менгер Казанского уезда. К 1678 г. часть представителей этого рода поселились в д. Адаево Арской дороги (совр. Кукморский р-н РТ), а затем в д. Верхние Чупты Казанской дороги Уфимского уезда. Из этой ветви происходил основатель Надыровской волости Уфимского уезда Надыр Уразметов, которому благодаря хранившимся у него ханским ярлыкам удалось выйти из тяглового состояния [2, c. 71–73].
Тарханные права жаловались казанскими ханами и выходцам из других татарских юртов. Несмотря на распад Золотой Орды среди представителей тюркской военной аристократии сохранялись тесные вертикальные связи, связанные с общей клановой структурой и единым военно-политическим наследием. Внутри постзолотоордынских государств продолжала существовать татарская служилая корпорация, которая, несмотря на распад империи признавала верховную власть дома Чингизидов. Военная аристократия в случае осложнения отношений с правящей элитой имела возможность переехать в другой татарский юрт и безболезненно интегрироваться в состав местного служилого сословия. Это весьма образно описано в татарском дастане «Чура-батыр», в основе которого лежит история реальной исторической личности – казанского карачибека, представителя клана аргын Чуры Нарыкова [11].
По родословной жителей д. Старое Уртаево (совр. Дюртилинский р-н РБ) «Тарагай би, сын Буркат бия, прадеда рода Шамшады (Шамшадинской волости Казанской дороги), [и] зачинателя аула, прибыл из Крыма. Он шел по долине Агидели и поселился в устье реки Жалчы в местечке Акъяташ. Спустя некоторое время, когда русские заняли Казань, он стал платить ясак русскому царю» [25, c. 52]. Появление в Западном Приуралье татарских феодалов из Крыма может быть связано с закреплением в начале XVI в. на казанском троне представителей династии крымских ханов Гиреев. Переход под державную руку казанских правителей профессиональных воинов из степных просторов бывшей Золотой Орды усиливается в период междоусобиц. С длительным военным противостоянием в Ногайской Орде и Сибирском ханстве первой половины XVI в. по всей видимости, связано появление в Западном Приуралье «ицких волостей» (улусов в верховьях р.Ик.), которые фиксируются в документах XVII в. В состав этого объединения входили группы, переселившиеся сюда из Восточного Приуралья, Зауралья и Сибири (табынцы, сынрянцы, иректинцы), признавшие подданство казанских ханов и несших службу на восточных границах государства.
Таким образом, тарханы Западного Приуралья являлись частью военно-служилого сословия Казанского ханства. Они пользовались широкой автономией в пределах своих владений, имели налоговый и судебный иммунитет, за что несли военную службу и выполняли некоторые административные обязанности. С образованием Уфимского уезда тарханы были интегрированы в состав московского служилого сословия, сохранив ряд своих привилегий. В отличие от служилых татар тарханы Уфимского уезда не получали за свою службу поместного и денежного жалования. Воинскую повинность они несли «с вотчин», то есть военная экипировка, боевые лошади и провиант должны была приобретаться за счет средств получаемых с их промысловых угодий, не облагавшихся ясаком.
Главной привилегией тарханов, которая была признана московской администрацией, был налоговый иммунитет. Их вотчины не облагались ясаком, за что они должны были нести службу. При этом, как и в предыдущий период безъясачный статус вотчин сохранялся только на время владения ими тарханом. В частности в 1599/1600 г. бобровые гоны по реке Ик и его притокам, ранее числившимися «тарханными вотчинами» стали ясачными владениями. Это произошло вследствие решения первого уфимского воеводы Михаила Александровича Нагова, по инициативе которого была составлена отступная запись, по которой тархан Катик Кулчурин отказывался от данной вотчины и она перешла во владение ясачного татарина д. Кугурчин Ногайские дороги Казанского уезда Уразлычки Скинчеева (в других документах он фигурирует как Уразгильдейко Кичеев)[14].
В результате унификации форм вотчинного землевладения поместья и вотчины тарханов Западного Приуралья были включены в состав поземельных волостей. Общая форма землевладения и административно-территориального объединения способствовала сближению служилых тархан с ясачными людьми (башкирцами). Следы этого процесса можно обнаружить в документах начала XVII в. В 1606/1607 г. служилый татарин (тархан) Авдуак Санбаев была пожалован земельным поместьем: пашнями, сенными покосами и лесами за Камою, на реках Буюн, Еловая, Узяр, вошедшие впоследствии в состав вотчинных владений Уранской волости Осинской дороги (совр. Янаульский и Калтансинские р-ны РБ)[15]. Фигура служилого человека Аудуак-бея фигурирует в шеджере, обнаруженного в Янаульском районе РБ, в которой он указан в качестве одного из родоначальников уранцев [1, c. 220]. В 1615/1616 г. за помощь в поимки лидера антимосковского восстания народов Волго-Уралья, служилого татарина Арской дороги Казанского уезда Еналейки (Джан-Али) Емаметева, и сдачи его в Казань, служилым людям «на житье» на р. Танып и Нюлюзе была пожалована «Скилянское (Ички Иланское) поместье» и урочища, вошедшее в состав Иланской волости Казанской дороги[16].
Несмотря на то, что тарханное звание было наследственным, после вхождения Приуралья в состав Московского царства для получения официального статуса требовалась запись в тарханные списки, то есть подача челобитной и проведение «сыска», подтверждавшее благородное происхождение просителя. Но и это не гарантировало признание тарханных прав. В связи с ограниченным штатом служилых людей Уфимского уезда запись осуществлялась при наличии «убылых» мест. Поэтому некоторые тарханы для передачи своего звания наследнику заблаговременно подавали челобитные, в которых ссылаясь на старость и «немочь» просили поверстать на свое место сына или иного родственника[17]. В результате многие младшие дети из тарханских родов не получая искомого звания, были вынуждены записываться в ясак, то есть становиться башкирцами. Этим лицам в дальнейшем было довольно сложно снова войти в сословие служилых людей, так как условием получения тарханного звания было отсутствие у лица обязательств по выплате ясака. Тем не менее, такие прецеденты существовали и фиксируются в документах. Так, башкирец Кипчакской волости Кусикей Кучуков, после смерти своего отца служившего в тарханах 19 мая 1622 г. добился пожалования ему тарханной памяти. Получить тарханный статус ему удалось вследствие переписывания своего ясака на родного брата Карамыша[18].
Данная ситуация кардинально меняется во второй половине XVII в. В результате многолетнего военного противостояния кучумовичей и Москвы в Приуралье, а также так называемых «башкирских восстаний» 1660–1680-х гг., прослойка служилых тархан Западного Приуралья значительно сократилась. Являясь профессиональными воинами, тарханы принимали активное участие в военных действиях на стороне обоих противостоящих лагерей, а также защищали пределы Уфимского уезда от вторжения калмыков. В результате многие представители «старой» военной аристократии погибли на полях многочисленных сражений, оказывались в качестве аманатов в русских крепостях или выезжали за пределы Уфимского уезда.
Для восполнения штата тархан русская администрация пошла путем верстания в служилое сословие ясачных башкирцев и бобылей. Главным фактором при пожаловании в тарханы было участие ясачных людей в подавлении антимосковских выступлений. Такая мотивировка при пожаловании в тарханы отмечается в резолюции уфимского воеводы П.Т. Кондырева в отношении ясачного башкирца Казанской дороги Рыски Турачева от 8 июня 1668 г.: «в измене де он Рыско не был, служил великому государю в посылках с ызменники билса и на бою ранен и лошадь под ним убита, да сына де ево на бою изменники ранили и подказни великого государя и под воевод подводы давал и провожал»[19]. 9 июля 1668 г. был пожалован в тарханы ясачный башкирец Киргизкой волости Казанской дороги из трухменцев Явгилда Мурзагилдеев, так как «подводы под бояр и воевод и под ратных людей до Уфы давал и на боех взял в языцех башкирцов да калмыков четырех человек да изменника брата своего поимав отдал в Мензелинской и в Мензелинску ево пытали»[20].
Итак, со времени начала экспансии калмыков (конец 1620–1640-е гг.), а также «первой башкирской шатости» (крупнейшего антимосковского выступления народов Приуралья и Южного Урала 1662–1664 гг.) уфимскими властями начинается создаваться группа «новых» тарханов, которые не имели тесных связей со «старой» военной аристократией и были полностью лояльна московским государям. В данном случае уфимские воеводы пошли по проторенному пути, который ранее активно использовался в Среднем Поволжье. По данным В.Д. Димитриева, на Горной стороне в первой половине XVII в. в тарханы верстались «черемиса» и «ясачная чуваша» (в обоих случаях речь идет о чувашах), которые имели перед правительством заслуги в подавлении антимосковских выступлений [9, c. 43].
Численность тарханов поверстанных из числа ясачных людей довольно сильно разнилась по отдельным дорогам Уфимского уезда. Если на территории Ногайской и Сибирской дорог, граничивших с неспокойными степными районами Нижнего Поволжья и Южного Урала, отмечается быстрое увеличение представителей данной социальной группы, то по Осинской и Казанской дорогам их количество оставалось относительно небольшим. Причины этого явления вполне объяснимы и связаны с постоянной военной угрозой, исходившей из юго-восточной окраины. Для защиты от номадов требовались отряды легкой кавалерии, которые могли нести «станичную» службу и отражать военные набеги. Поэтому для приграничных районов увеличение численности служилых групп населения за счет ясачных людей было весьма актуальным. Данная тенденция сохранилась и в начале XVIII в. В 1730-х гг. в тарханы было записано по Ногайской дороге 80 ясачных башкирцев, 7 «калмыцкой природы башкир», по Сибирской дороге 41 башкирцев, в том числе 16 тезиков, выходцев из Средней Азии [7].
Тарханы должны были нести пограничную службу и находиться «во всяких посылках» (то есть исполнять административные и военно-дипломатические поручения уфимского руководства), с них снимались обременительные натуральные повинности. Но в отличие от тарханов «по отчеству» на поверстнанных на службу ясачных людей не была распространена их наиболее важная привилегия – налоговый иммунитет. В обоих вышеприведенных случаях при пожаловании в тарханы ясачных башкирцев Р. Турачева и Я. Мурзагилдеева, в выданных им оберегательных памятях особо оговаривалось «а ясак им платить по прежнему»[21]. Такая же формулировка отмечается при записи в тарханы башкирцев Казанской дороги Чюры Беккулова и Балтача Рысаева[22]. Аналогичная ситуация имела место при записи в тарханы ясачных башкирцев по другим дорогам Уфимского уезда [7, c. 37][23]. Здесь уфимские столоначальники руководствовались фискальными интересами государства – сохранением прежнего размера сбора оклада с ясачных вотчин[24]. Данная политика увеличение численности служилых людей за счет ясачного населения с сохранением сбора с них натурального налога, способствовала размыванию социальных границ между башкирцами и тарханами. Окончательно этот процесс завершился во второй половине XVIII в., когда башкирцы были переведены из тяглого состояния в служилое сословие.
Подводя итог, отметим, что институт служилых тарханов Уфимского уезда являлся реликтом сословной стратификации Казанского ханства. Тарханы Западного Приуралья были тесно интегрированы в татарское служилое сословие и обладали рядом привилегий, главной из которых был налоговый иммунитет. Тарханы могли иметь земельные владения на правах поместий и вотчин, при этом отсутствовало особая форма тарханного землевладения. Несмотря на декларируемый московским руководством курс по признанию прежних прав татарского служилого сословия положение тарханов после вхождения Приуралья в состав Русского государства постепенно меняется. Их вотчинные владения интегрируются в состав поземельных волостей, усиливается процесс инкорпорации в их состав ясачных людей продолжавших нести тягло, что способствовало размыванию сословных границ между тарханами и башкирцами.
1 В сохранившемся ярлыке хана Сахиб-Гирея присутствует географическая привязка к р. Ик. Но как показал текстологический анализ, проведенный И.А. Мустакимовым, слово «Ик» (اق) было вписано над строкой и графически отличается от основного текста ярлыка (написано другими чернилами и другим почерком). Это может говорить о том, что данное слово было дописано в текст позднее, возможно для обоснования прав ясачных татар на вотчинные владения в данном регионе [17, c. 36].
2 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.1173. Оп.1. Д.861. Л.11–24.
3 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи. Т.1. СПб., 1836. С. 240.
4 В состав «башкирцев» Уфимского уезда входили разные по происхождению группы ясачного населения, обложенные особым окладным ясаком платившимся «на Уфу».
5 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф.364. Картон 7. Д.3. Л.3.
6 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.769. Л.2.
7 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.769. Л.2–3.
8 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.302. Л.2–3.
9 Ярлык был обнаружен и введен в научный оборот татарским историком и археографом С.Г. Вахидовым.
10РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 766. Л. 2 об; Д. 769. Л. 7.
11 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.196. Л.5.
12 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.196. Л.5.
13 Эти грамоты сохранились в русском переводе среди других делопроизводственных документов, связанных с пожалованием Надыра Уразметова в тарханы [2, c. 71].
14 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.93. Л.3).
15 А.Б. Азнабаев неверно датировал время пожалования А. Санбаеву земельных владений, определив его периодом правления Ивана IV [5, c. 56].
16 ОР РГБ. Ф.364. Картон 6. Д.1. Л.18.
17 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.298. Л.12.
18 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.298. Л.6, 8.
19 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.575. Л.2.
20 РГАДА. Ф.1773. Оп.1. Д.577. Л.3.
21 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.575. Л.3.
22 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.575. Л.2–3.
23 РГАДА. Ф.1173. Оп.1. Д.277, 609.
24 В особых случаях, при значимых заслугах перед государством (за «полонное терпение», участие в дипломатических миссиях, воинскую отвагу) бывшие ясачные люди при переходе в тарханы, наделялись налоговым иммунитетом. Но такие случаи были скорее исключением из общего правила.
Авторлар туралы
Radik Iskhakov
Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: ishakovist@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7303-408X
Dr. Sci. (History), Head of the Department of History of the Volga and Cis-Urals Regions
Ресей, 7, Baturin Str., Kazan 420111Әдебиет тізімі
- Aznabaev B.A. Bashkir society in the 17th – first third of the 17th century: monograph. Ufa: Bashkir State University Publ., 2016. 370 p. (In Russian)
- Amirkhanov R.Kh., Gabdullin I.R. Oil industrialist Nadyr Urazmetov and the oil of Tatarstan. Kazan: Rukhiyat, 2000, 348 p. (In Russian)
- Asfandiyarov A.Z. Bashkir Tarkhans. Ufa: Kitap, 2006. 360 p. (In Russian)
- Akhmetzyanov M.I. Tatar shedzhere (Research of Tatar shedzhere in source studies and linguistic aspects based on lists of the 19th–20th centuries). Kazan, 1991. 120 p. (In Russian)
- Bashkir society of the late 16th–17th centuries. according to the documents of the Ufa Prikaznaya hut: collection of documents. Compilers: Aznabaev B.A., Bulyakov I.I. Ufa: Institute of History, Language and Literature of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 2016. 204 p. (In Russian)
- Validi-Togan A. History of the Bashkirs. Trans. from Turkish A.M. Yuldashbaev. Ufa: Kitap, 2010, 352 p. (In Russian)
- Velyamin-Zernov V.V. Sources for studying the Tarkhanate granted to the Bashkirs by Russian sovereigns. St. Petersburg, 1864. 48 p. (In Russian)
- Gabdullin I.R. On the issue of the ethnic class structure of the Turkic population of the Ufa district and province in the 17th–19th centuries. The Big Lie of Historians of Bashkortostan (On the Formation of the Estate of “Bashkir Patrimonial Owners” in the NorthWestern Urals). Kazan: YaZ, 2010, pp. 11–34. (In Russian)
- Dimitriev V.D. Document on Land Ownership Chuvash Tarkhans in the first half of the 17th century. Questions of the Chuvashia history during the period of feudalism and capitalism, Iss. 1. Cheboksary, 1979, pp. 36–48. (In Russian)
- Iskhakov D.M. Chura Narykov – Chura batyr “grand prince”, “volost”, “voyevoda” (historical basis for the definitions of the “Kazan History”). New Past. 2022, no. 1, pp.43–56. (In Russian)
- Iskhakov D.M.Arsky Princes and Nukrat Tatars. Kazan: Fan, 2000. 224 p. (In Russian)
- Karimov T.T. Tatar land volosts. Vol. 1. Bulyarskaya volost. Scientific. ed. R.R. Salikhov. Kazan: Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences, 2023. 280 p. (In Russian)
- Kuzeev R.G., Garipov T.M. Ethnonym Tarkhan among the Bashkirs, Chuvash, Hungarians and Bulgars. Onomastika Povolzh’ya = Onomastics of the Volga Region. No. 4, Saransk, 1974, pp. 13–15. (In Russian)
- Kuznetsov I.D. Essays on the history of the Chuvash peasantry. Part 1. Cheboksary, 1957. 343 p. (In Russian)
- Makarov G.E. Nomads of Asia. Economic structure and public organizations. Moscow, 1976. 316 p. (In Russian)
- Mirgaleev I.M. Political history of the Golden Horde during the reign of Tokhtamysh Khan. Kazan: Alma-Lit, 2003. 164 p. (In Russian)
- Mustakimov I.A. Once again about the Kazan label of Sahib-Girey. Medieval Turkic-Tatar states. Collection of articles. Iss. 5. Issues of source study and historiography of the history of medieval Turkic-Tatar states. Kazan, 2013, pp. 31–47. (In Russian)
- Mustafina D.A. Service Tatars through the prism of a land dispute with a monastery. From the history and culture of the peoples of the Middle Volga region. 2016, pp. 232–265. (In Russian)
- Nasyrov R.G. Rural settlement in Western Zakamye (second half of the 16th – beginning of the 18th centuries). Kazan, 2007. 240 p. (In Russian)
- Nesterov V.A. Chuvashia as part of the Russian state in the second half of the 16th and early 17th centuries. Materials on the history of the Chuvash ASSR. Iss. 1. Cheboksary, 1958, pp. 126–146. (In Russian)
- Stepanov R.N. On the issue of tarkhans and some forms of feudal land ownership. Collection of scientific works. The second scientific conference of young scientists of the Kazan city, March 27–28, 1965. Kazan, 1966, pp. 96–124. (In Russian)
- Trepovlov V.V. Nogai in Bashkiria 15th–17th centuries. Princely families of Nogai descent. Ufa, 1997. 72 p. (In Russian)
- Usmanov A.N. Voluntary accession of Bashkiria to the Russian state. Ufa, 1982. 336 p. (In Russian)
- Usmanov A.N. Annexation of Bashkiria to the Moscow State. Ufa, 1949. 136 p. (In Russian)
- Khusainov G.B. Archaeographic expedition of the Bashkir branch of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan in 1973. South Ural Archaeographic Collection. Iss. 2. Ufa, 1976, pp. 48–56. (In Russian)
- Shapshal S.M. On the issue of tarkhan labels. To Academician Alexander Gordelevsky on his 75th birthday. Moscow, 1958, pp. 304–316. (In Russian)
Қосымша файлдар