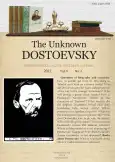Dostoevsky and hesychasm: “Crime and Punishment”
- Authors: Kasatkina T.A.1
-
Affiliations:
- A. M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 9, No 4 (2022)
- Pages: 171-185
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2409-5788/article/view/277282
- DOI: https://doi.org/10.15393/j10.art.2022.6541
- EDN: https://elibrary.ru/JCVNSC
- ID: 277282
Cite item
Full Text
Abstract
Not much has been said about Dostoevsky and hesychasm, and mainly with the greatest evidence and persuasiveness in the case when direct references to the figures of hesychasm appeared directly in the text of Dostoevsky's novel (“The Brothers Karamazov”). However, hesychasm can be considered as an optimal explanatory structure already for the novel “Crime and Punishment”. In this novel hesychasm is most obviously present, not from the point of view of superficial references or an external plot developing in the “apparent flow of life” (as Dostoevsky designated what happens on the surface of being), but from the point of view of the deepest plot, in which what happens in the novel is connected with “ends and beginnings” (so Dostoevsky called the origins and the results of events that are beyond the obvious, beyond time). The original title of the novel, “The Drunkards”, which later became “Crime and Punishment”, as well as the characteristics of the characters found in “Crime and Punishment” (to be “drunk without wine”, to be mistaken for a drunk in a sober state, to hide behind the illusion of intoxication their pre- and post-criminal state), strictly associate drunkenness with sin and a crime. The direct opposition to this state is sobriety, which the participants of the Hesychast tradition strive to achieve, and the collection of texts of this tradition, “Philokalia”, is called in the translation by Paisii Velichkovsky: “Words and Beginnings of Sacred Sobriety”. The separation of heart and mind, which characterizes the two main criminal characters of the novel, is the main characteristic of the pre-natural state of a person according to hesychasm. Hesychasm also makes it possible to explain why the heroine, who occupies the highest position in the spiritual structure of the novel, is characterized by the words “She will see God”.
Full Text
О Достоевском и исихазме говорили немногие, очень разные во всех смыслах исследователи, главным образом применительно к роману «Братья Карамазовы», что достаточно очевидно, поскольку в нем прямо называется инициатор перевода «Добротолюбия» на славянский язык и начальник (это слово употребляю здесь в соответствии с его внутренней формой и исходным значением) возрождения традиции умного делания в России XIX в. прп. Паисий Величковский. Инициированное его учениками возрождение старчества, которое по сути и есть возрождение исихастской традиции в России, становится одним из двигателей внешнего сюжета романа. Также, хотя значительно менее конкретно, речь об исихазме у Достоевского шла применительно к роману «Идиот»1. Рита Клейман обосновывала причастность прп. Паисия Величковского к творческой истории «Бесов» и «Подростка», кроме очевидных «Братьев Карамазовых» [Клейман: 172–173]. Но, насколько мне известно, никто не ставил этой темы в отношении «Преступления и наказания» и даже вскользь не предполагал ее наличия там. Однако именно в этом романе она присутствует наиболее очевидно не с точки зрения поверхностных отсылок или внешнего сюжета, развивающегося в «насущном видимо-текущем» (как очевидное присутствие старчества в «Братьях Карамазовых»), а с точки зрения сюжета, связывающего происходящее в романе с «концами и началами»2. Соответственно, в «Преступлении и наказании» эта тема порождает самую глубинную его проблематику. Полагаю, что все странности и парадоксы романа, с которыми исследователи часто не представляют, что делать, складываются в стройную и внятную систему, если мы смотрим на роман в перспективе исихазма.
Первое название романа, выросшего затем в «Преступление и наказание» или вошедшего в него как основа, придавшего, как пишет Борис Тихомиров, рассказу о преступлении «дыхание большой эпической формы» (и, увы, неизбежно поминаемый во всех исследованиях, касающихся этого замысла, «социальный фон») [Тихомиров: 21], было «Пьяненькие».
Предлагая свой текст А. А. Краевскому, Достоевский писал:
«NB. Роман мой называется "Пьяненькие" и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и проч. и проч.» (письмо А. А. Краевскому от 8 июня 1865 г., Петербург) (Д30; т. 282: 127).
Собственно, это почти все, что нам известно о замысле Достоевского. На основании этого письма большинство исследователей было склонно рассматривать замысел Достоевского в социологическом и даже в социально-этнографическом ключе, что очень напоминает иногда случающийся (даже и до сих пор) подход исследователей к «Запискам из Мертвого дома». Н. Н. Вильмонт отчасти идеологизировал пьянство и, более того, предположил, что оно в романе «Пьяненькие» и потом в «Преступлении и наказании» может рассматриваться как форма социального протеста [Вильмонт: 91]. Однако как и в случае «Записок из Мертвого дома», такой подход не оправдан. Борис Тихомиров, хотя тоже изначально отмечает «социальный фон» как главное в романе, далее сдвигает акценты: «Скорее всего, замысел "Пьяненьких" был не только нраво- и бытописательным, но и предполагал выходы к метафизической проблематике» [Тихомиров: 23].
Я бы продолжила эту линию, предложила бы сдвинуть акценты еще больше, сказав, что Достоевский, как всегда, не выходил к, а исходил от проблематики духовной и находил ее воплощение в фигурах и событиях повседневной жизни. То есть, когда он собирался писать о пьяненьких, он имел в виду нечто гораздо более масштабное и укорененное в человеческой природе, чем бытовое пьянство и его страшные последствия. Видимо, нужно чаще проговаривать, на мой взгляд, очевидное: Достоевский нраво- и бытописательных и даже социальных романов не писал, а писал что-то совершенно другое, и логично предположить, что в данном случае он описывает Краевскому внешнюю, событийную сторону предполагаемого произведения, а вовсе не его идею.
Напомню слова Достоевского о зарождении художественного произведения в письме Майкову, поэту, на понимание которого он мог рассчитывать (в отличие от Краевского):
«…поэма, по-моему, является как самородный драгоценный камень, алмаз, в душе поэта, совсем готовый, во всей своей сущности, и вот это первое дело поэта как создателя и творца, первая часть его творения. Если хотите, так даже не он и творец, а жизнь, могучая сущность жизни, Бог живой и сущий, совокупляющий свою силу в многоразличии создания местами, и чаще всего в великом сердце и в сильном поэте, так что если не сам поэт творец (а с этим надо согласиться, особенно Вам как знатоку и самому поэту, потому что ведь уж слишком цельно, окончательно и готово является вдруг из души поэта создание), — если не сам он творец, то, по крайней мере, душа-то его есть тот самый рудник, который зарождает алмазы и без которого их нигде не найти. Затем уж следует второе дело поэта, уже не так глубокое и тáинственное, а только как художника: это, получив алмаз, обделать и оправить его. (Тут поэт почти только что ювелир.)»3 (Д30; т. 291: 39).
Из слов этих ясно видно, что, согласно Достоевскому, художественное произведение не «растет из сора» повседневности, не складывается из жизненных деталей, наблюдений и литературных заимствований: оно является как целостная идея самого высокого плана, которую затем автор проявляет сквозь элементы повседневной жизни, для чего он эти элементы «поправляет» — выражение, употребленное Достоевским в «Мужике Марее» (Д30; т. 22: 47) для описания работы автора с воспоминанием, — граня тем самым, как ювелир, тело идеи таким образом, чтобы алмаз проявился, засиял максимально для него возможным светом.
Чтобы понять замысел «Пьяненьких», посмотрим, как он отразился в «Преступлении и наказании». Прежде всего необходимо указать на то обстоятельство, что пьянство в «Преступлении и наказании» странным образом понимается гораздо шире собственно пьянства как такового. Можно сказать, что в романе есть два вида пьяных: пьяные от вина и непьющие, но при этом принимаемые за пьяных. Ко второмй группе относятся два главных героя романа, Свидригайлов и Раскольников — два героя, замысливших преступление. Это я давно отметила в своих работах (см., напр.: [Касаткина, 2015: 151–153]) и не раз наглядно показывала: в их случае пьянство буквально становится пьянством греха — и в характерное для пьяного человека состояние непьющие герои погружаются в момент и после совершения или несовершения своего преступления. То, что после несовершения преступления происходит то же самое, что и после совершения, явственно свидетельствует о том, что речь идет не о преступлении как о переступании границы, нарушении пространства другого человека, а именно о состоянии самого преступника, о его нарушении себя, то есть о грехе. Раскольников в своей теории о состоянии преступника в процессе и после совершения преступления так описывает это погружение:
«…преступник, и почти всякий, в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых, напротив того, детским феноменальным легкомыслием, и именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность. По убеждению его, выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления; продолжаются в том же виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму…» (Д30; т. 6: 58).
Раскольников называет это состояние болезнью, но совершенно очевидно, что перед нами точнейшее описание состояния опьянения.
Если относительно Раскольникова и Свидригайлова такое состояние легко прослеживается сквозь весь роман, то Разумихин «напивается без вина» (и именно он употребит это выражение: «Зачем мне теперь напиваться. Ты меня и без вина напоил. Пьян ведь я, Родька! Без вина пьян теперь…» (Д30; т. 6: 341)) — всего один раз, и этот раз очень характерен, потому что, хотя «опьянеет» он очень, на наш взгляд, привлекательно — от любви и надежды, однако именно в этой ситуации сей почти идеальный герой Достоевского оказывается очевидно причастен греху как промаху, в его случае — промаху видения, отказу от прямого восприятия действительности, искажению ее в нравящуюся ему сторону, в «свою пользу»: он соглашается признать виновным Миколку, чтобы не признавать виновным Раскольникова, только что сделавшего его счастливым. Достоевский удивительно точно фиксирует это искажение взгляда, тоже свойственное пьяному, когда человек, зная в глубине себя правду, тем не менее принимает и выдает желаемое за действительное:
«Он торопился; но, уже выходя и уж почти затворив за собою дверь, вдруг отворил ее снова и сказал, глядя куда-то в сторону:
— Кстати! Помнишь это убийство, ну, вот Порфирий-то: старуху-то? Ну, так знай, что убийца этот отыскался, сознался сам и доказательства все представил» (Д30; т. 6: 340).
Заметим, кстати, что эти промахи мимо истины совершенно не свойственны главному пьяному от вина герою романа Мармеладову. Он, пьяный от вина, разрушающего жизнь его и его семьи, тем не менее научается острее видеть правду и бесстрашнее ее высказывать. В его речи появляется даже выражение: «И видел я» — и это прямая библейская цитата, появляющаяся в Библии несколько раз именно для того, чтобы обозначить начала видений пророками будущего, надвременного бытия или самого предвечного Бога4. Таким образом, как это ни странно покажется на первый взгляд, именно опьянение грехом представлено в романе как пьянство по преимуществу. Вино соединяет с Богом (оно — та материя, что претворяется в Его кровь и принимается как причастие) — разделяет с Богом и туманит прямое восприятие бытия грех. Однако Достоевский как всегда многомерно строит свое художественное высказывание: пьянство (как пристрастие и зависимость) — тоже грех и тоже убийство и себя, и ближнего.
Отдельная линия движения концепта «пьяный, пьянство» в романе представляет сходство пьяного без вина состояния с состоянием опьянения еще и как вариант внешнего прикрытия от разоблачения опьяненных грехом героев, как их мимикрию (я имею в виду ситуации, подобные пробуждению Раскольникова после преступления: «Если бы кто зашел, что бы он подумал? Что я пьян, но...» (Д30; т. 6: 71)).
Систематизируя то, что мы видим в романе, можно сказать так: вино (и как раз поэтому это та материальная субстанция, которая претворяется в кровь Господню) снимает границы, соединяет человека с Богом (а значит, и со всем), позволяет даже без соответствующего действия причаститься восторгу, охватывающему человека в порыве самоотдачи, раскрытия всему; пьянство оставляет человека включенным в общее грешащее тело человечества (в романе это выражено краткой сценой-притчей: Раскольников, спускаясь в распивочную, видит двух пьяных, которые «друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу» (Д30; т. 6: 10)); в то время как «пьянство без вина» не только отрывает от Бога, но и исключает грешника из этого общего тела.
Вспомним, что первое значение греческого слова, которое мы переводим как грех, — промах, это значение отразилось и в русском огрех. Грех в своем существе и есть непопадание человеком в настоящего себя, и этот промах мимо себя вполне ясно проявляется в поведении и даже походке пьяного, чье тело при любом движении оказывается не в том положении и совершает не то действие, в каком оказалось бы и которое совершило бы тело трезвого. Достоевский хорошо помнит об этом значении, и не даром в эпилоге романа Раскольников думает, что не находит в своем поступке ничего, кроме простого промаху (слово «промаху» Достоевский выделяет в тексте) (Д30; т. 6: 417).
Достоевский, понимая грех таким образом, как промах и как пьянство без вина, прямо держится терминов православной аскетики. В писаниях св. отцов, собранных в «Добротолюбии», перевод которого был инициирован и в значительной степени осуществлен преп. Паисием Величковским, путь восхождения человека от его нынешнего, грешного, состояния к очищенному от греха состоянию воссоединения с Богом называется трезвением: «Глаголется бо трезвение праведно, путь в Царствие ведущий, и в сущее внутрь нас, и в будущее»5. Трезвение, согласно «Добротолюбию», есть художество духовное, которое позволяет «узреть Бога», а именно этой способностью маркирована Лизавета, представляющая собой точку духовного верха в романе. Если в контексте Нагорной проповеди (то есть если мы считаем это евангельской цитатой и истолковываем через такое соотнесение) сказанное про нее Соней «Бога узрит» читается как отсылка к одному из блаженств (выделенному из ряда остальных произвольно по непонятной причине), то в контексте «Добротолюбия» именно стремление узреть Бога есть очевидная и единственная точка духовного устремления трезвеющих, и остальные евангельские блаженства в такой перспективе видятся ее аспектами, способами ее описания в полноте6.
Николай Михайлович Новиков (хранитель и собиратель для современного читателя исихастских практик) о трезвении пишет так:
«Трезвение — одно из центральных понятий православной аскетики. Метод или достигаемое посредством него состояние контроля над деятельностью ума и сердца. Метод трезвения активно практиковался уже первыми пустынными отцами. Прпп. Антоний Великий и Арсений Великий, как и другие отцы, постоянно акцентируют внимание на этом предмете. Прп. Макарий Великий отмечает, что "духовная брань и молитва немыслимы без трезвения", что "только душа, подвизающаяся посредством великого трезвения, может сподобиться победы в духовной брани". Учение об этой исихастской практике, прочно утвердившееся в традиции раннего монашества, встречаем у аввы Евагрия, в аскетическом богословии свтт. Василия Великого, Иоанна Златоуста и далее в отеческих писаниях вплоть до нашего времени. Примечательно, что это понятие входит в заглавие основного труда прп. Никодима Святогорца, которое буквально переводится как "Добротолюбие святых трезвенников", а в переводе прп. Паисия Молдавского [Величковского] это звучит как "Добротолюбие, или словеса и главизны священного трезвения"» [Новиков: 41].
Таким образом, Достоевский мог рассчитывать на нужную ему ассоциацию даже у людей, не читавших «Добротолюбие» дальше заглавия.
В свете исихастского учения также становится более чем понятна неоднократно отмеченная исследователями7 доминанта образа Раскольникова — раскол между сердцем (устремленным к самоотдаче) и умом, стремящимся переложить бремя жертвы на другого (это стремление — по сути, принести другого в жертву себе, использовать его в целях возвеличения своего «я» — и называется в аскетике «нижеестественным» состоянием, можно сказать, состоянием опьянения)8, поскольку главное следствие падения человека — разделение ума и сердца, начало их автономного функционирования, становящегося источником всех искажений реальности, всех самообманов, которые есть ничто иное как «пьяная» расфокусировка восприятия.
Соответственно, главная цель трезвения — воссоединение ума с сердцем, удержание и укоренение ума в сердце, ибо именно и только путем сведения ума в сердце достигается очищение сердца и просветление ума: они начинают вновь работать как единый орган, фокусируются, что ведет к обретению человеком своего естественного состояния, открывающего путь к преображению и обожению человека.
Интересно, что Достоевский прямо показывает моменты соединения ума и сердца Раскольникова до совершения преступления и наступающее в этот момент осознание ужаса и грязи их раздельного бытия. Вот один из них, сразу после «пробы», где мы видим сошедшимися все ключевые концепты исихастской темы романа:
«Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это всё более и более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул:
"О Боже! как это всё отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! — прибавил он решительно. — И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц..."
Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице» (Д30; т. 6: 10).
Поясню аскетические термины человеческих состояний, опираясь на язык Достоевского. Нижеестественное состояние — это субъект в состоянии «я» (препятствующего, как скажет Достоевский в записи «Маша лежит на столе…», возлюбить ближнего своего как самого себя); это субъект, объективирующий все, кроме себя самого, приносящий таким образом в жертву себе весь мир. Естественное состояние — состояние субъекта, увидевшего в других полноправных субъектов (то есть увидевшего в них «тоже себя»9, поскольку ощущение другого субъектом нам доступно только посредством эмпатии), прекратившего объективацию и, как следствие, устремившегося к самоотдаче. Вышеестественное состояние — окончательное устранение искажений восприятия реальности, вызванных объективирующим взглядом; видение не иллюзорных границ и поверхностей всех вещей, но их внутренних пространств; переход из мира, где каждый утесняет и вытесняет каждого, в мир, где каждый становится новым пространством для каждого, новой возможностью самоосуществления.
Конкретные пассажи «Добротолюбия», как ключи, проясняют образно-символическую структуру романа. Например: «Сластолюбивое сердце темницею и узами бывает душе во время исхода: трудолюбивое же дверь есть отверста»10 — полностью, на сочетании языков «Добротолюбия» и Достоевского, объясняет посмертие в виде «бани с пауками» для Свидригайлова: оказывается, он заперт в своем собственном сердце, где пауки — классический в языке Достоевского символ сладострастия.
Становится прозрачно ясно, почему в «Преступлении и наказании» два главных героя. Это два варианта разделения сердца и ума: у Раскольникова поражен и уловлен ум, а у Свидригайлова — сердце. Становится понятно и то, почему Свидригайлов — умнейший герой Достоевского, а Раскольников — добрейший. Ум Свидригайлова совершенно свободен, как и сердце Раскольникова, мгновенно бросающееся все отдать первому встречному. Кстати, Свидригайлов тоже отдает — и очень умно, просчитывая все так, чтобы деньги возрастали для тех, кому отданы (отданные деньги Раскольникова, действие которых мы можем проследить, растрачиваются с катастрофическими последствиями). Но Свидригайлова ведет в желаниях его сладострастное, непросветленное умом сердце, а Раскольникова — его бессердечный ум. И поэтому самоотверженный порыв Раскольникова каждый раз прекращается и обесценивается начавшим действовать умом. Заметим, что Раскольников называет свое преступление глупостью — частым в его устах словом применительно к его умным действиям и осуществлению его теории (при этом он говорит, что пошел на преступление не как дурак, а как умник, то есть ведомый умом). А Свидригайлов употребляет слово «глупо», кажется, только один раз — когда речь идет о сердце, о бескорыстном действии сердца:
«…эти десять тысяч рублей у меня свободны, то есть совершенно, совершенно мне не надобны. Не примет Авдотья Романовна, так я, пожалуй, еще глупее их употреблю» (Д30; т. 6: 223).
Заметим также, что плененный ум Раскольникова заставляет его совершить преступление (глупое, непродуманное, неподготовленное, потому что как только путем подготовки оно прояснилось бы в образе, сердце заблокировало бы действие ума), но свободное сердце позволяет ему спастись. Свободный ум Свидригайлова дает ему возможность идеально подготовить преступление, задуманное сердцем, и он же не дает его осуществить, просветив сердце на мгновение. Но ум не может сам по себе спасти и вывести к жизни, и пленение сердца губит героя.
Продолжать можно долго, но мне кажется, что фундаментальная аллюзия романа на христианский путь обожения уже очевидна. В свете сказанного становится ясен духовный, а не социальный смысл первоначального названия романа — «Пьяненькие», равно как и обоснованность и великий смысл эпилога, завершающегося слишком неоправданно сильными в любой другой перспективе словами:
«Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью» (Д30; т. 6: 422).
Переход же из доестественного состояния в естественное и затем вышеестественное, когда стираются границы, начертанные на бытии нашим алчным к нему отношением, иными словами просто не может быть описан.
Я бы здесь и закончила этот первый подступ к теме «Исихазм в "Преступлении и наказании"», если бы не вековечный вопрос, который, конечно, и сейчас первым был бы задан некоторыми читателями: а откуда Достоевский знал об исихазме в 1860-х гг.?11
«Добротолюбие» впервые на славянском языке издается в 1793 г. В 1822 г. оно было переиздано попечением митрополита Филарета (Дроздова), затем переиздавалось в 1832, 1840, 1851, 1857, 1880 и 1902 гг. Всего переизданий «Добротолюбия» насчитывается шесть (см.: [Говорун])12.
Напомню строки из письма Достоевского к брату Михаилу от 30 января — 22 февраля 1854 г., сразу по выходе из каторги:
«Если можешь, пришли мне журналы на этот год, хоть "Отечеств<енных> записок". Но вот что необходимо: мне надо (крайне нужно) историков древних (во французск<ом> переводе) и новых [в примечании под строкой: Vico, Гизо, Тьери, Тьера, Ранке, и т. д. и т. д.], экономистов и отцов Церкви. Выбирай дешевейшие и компактные издания. Пришли немедленно» (Д30; т. 281: 171–172).
И в том же письме еще раз: «Не забудь же меня книгами, любезный друг. Главное: историков, экономистов, "Отечеств<енные> записки", отцов Церкви и историю Церкви» (Д30; т. 281: 173).
И вновь в письме от 27 марта:
«А теперь попрошу у тебя книг. Пришли мне, брат. Журналов не надо; а пришли мне европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних (Геродота, Фукидита, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и т. д. Они все переведены по-французски). Наконец, Коран и немецкий лексикон. Конечно, не всё вдруг, а что только можешь. Пришли мне тоже физику Писарева и какую-нибудь физиологию (хоть на французском, если на русском дорого). Издания выбирай дешевейшие и компактные. Не всё вдруг, помаленьку. Я и за малое поклонюсь тебе. Пойми, как нужна мне эта духовная пища!» (Д30; т. 281: 179).
Самым полным и доступным собранием св. отцов на тот момент и было «Добротолюбие». Независимо от того, смог ли послать Михаил Михайлович брату в ответ на его просьбу эту книгу в 1854 г., у Достоевского, учитывая его настойчивое желание, было много времени и возможностей ознакомиться с ней до осени 1865 г.
1 О «Братьях Карамазовых» см.: [Григорьев], [Хоружий, 2008, 2009]. Об «Идиоте» см.: [Башкиров], [Иванов]. И тот, и другой роман упоминаются в следующих исследованиях: [Котельников], [Богданова].
2 Я использую здесь язык описания, созданный самим Достоевским. Определяя отличие взгляда («глаза») художника от взгляда, которым человек наиболее часто глядит на действительность, Достоевский говорит: «Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то понаглядке, а концы и начала — это всё еще пока для человека фантастическое» («Дневник Писателя». 1876. Октябрь. Гл. 1. III. Два самоубийства»: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1981. Т. 23. С. 145. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения Д30 и указанием тома (полутома — нижним индексом) и страницы в круглых скобках). «Насущное видимо-текущее» — точное обозначение, принятое Достоевским для исключительно внешнего плана реальности, для описания факта, как его воспринимает позитивист. «Концы и начала» — так он обозначает внутренний план реальности, не говоря уже о том, что это — и «непрямое», без выговаривания «последнего слова» обозначение самого Христа, Который есть «Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 1:8) и Который для Достоевского — основа и цель, глубина и конечный смысл всякой реальности.
3 В цитатах полужирный шрифт — выделено цитируемым автором; курсив — выделено мной.
4 См. об этом подробнее: [Касаткина, 2019: 104–106].
5 Добротолюбие, или Словеса и главизны священного трезвения, собранные от писаний святых и богодуховенных отец (на ц.-слав.) / Святые богодухновенные отцы в переводе Паисия Величковскаго: в 4 ч. Репр. изд. Тутаев (Яросл. обл.): Изд. Православное Братство святых князей Бориса и Глеба, 2000. С. 328 [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Paisij_Velichkovskij/dobrotolyubie-ili-slovesa-i-glavizny-svjashhennogo-trezvenija/ (23.10.2022).
6 Удивительна интуиция Бориса Тихомирова, который, не имея в виду предложенную здесь исихастскую перспективу рассмотрения романа, значительно облегчающую понимание, усомнился в том, что раскольниковское высказывание: «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть» (Д30; т. 6: 203) — имеет происхождение из книги Екклезиаста (Екк. 1:18). Он пишет: «…необходимо признать, что Раскольников значительно трансформирует смысл ветхозаветного высказывания. <…> в суждении Раскольникова принципиальную важность имеет контрапунктическое скрещение "широкого сознания" и "глубокого сердца", отсутствующее у Екклезиаста. Широкость сознания и глубокость сердца почти зримо образуют здесь страдальческий "крест", на котором, по Раскольникову, символически распинаемы "истинно великие люди"» [Тихомиров: 306–307]. Я бы сказала, что эти взаимодополняющие параметры (широта и глубина) практически прямо (хотя и неосознаваемо для Раскольникова) указывают на то, что речь должна идти о едином органе, о соединенном уме и сердце.
7 Из совсем недавних работ, отмечающих это качество как «амбивалентность» героя, см.: [Боборыкина: 56].
8 Моменты самоотверженных помогающих действий Раскольникова в этом свете начинают полностью соответствовать начальному этапу раскрытия сердца: «Раскрытие сердца начинается с моментов деятельного соединения ума с сердцем, которые поначалу могут быть очень краткими. <…> Прежде этого человек может многократно сводить ум в сердце, однако ум пока не способен там удержаться, не удается его там собрать, так как ум еще не готов к соединению с сердцем. Именно на это свойство раскрытости указывает прп. Григорий Синаит, говоря, что надлежит "ум собрать в сердце, если, конечно, оно открыто"» [Новиков: 41]. Все движения оказания помощи у Раскольникова как раз и свидетельствуют о раскрытии сердца и о том, что слова Порфирия о нем как о подвижнике (Д30; т. 6: 351) (как и слова Пороха о нем как об аскете и монахе, звучащие «непонятно почему» непосредственно перед признанием Раскольникова: «Вам все эти красоты жизни, можно сказать, — nihil est, аскет, монах, отшельник!..» (Д30; т. 6: 407)) — нечто гораздо более серьезное, чем «просто метафоры», непонятно с чего к тому же появившиеся в речи Пороха.
9 Напомню, что в «Сне смешного человека» устремившийся к преображению после растления целой планеты герой Достоевского цитирует эту заповедь без запятой: «Главное — люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться» (Д30; т. 25: 119), что переводит «как себя» из разряда сравнения («люби так же, как себя») в разряд идентификации («люби, ибо они — тоже ты»).
10 Добротолюбие, или Словеса и главизны священного трезвения… С. 44.
11 Хочу еще раз подчеркнуть: полагаю, что методологически верно, во всяком случае, в ситуации Достоевского, характеризующейся утратой его огромной библиотеки, лишь частично восстановленной в описании [Библиотека], по дефолту считать, что если какие-то тексты радикально проясняют произведения писателя, он их знал, если какие-то факты указывают на присутствие в подкладке образа определенной исторической фигуры — он о ней знал. Дальше можно пытаться установить конкретные источники, которыми он пользовался, но это предмет отдельного исследования. При ином подходе случается немало конфузных историй. Одна из самых конфузных, на мой взгляд, — странные предположения некоторых авторов, писавших о романе «Идиот», откуда бы Достоевский мог знать о Франциске Ассизском (почему-то они были убеждены, что Франциск становится широко известен в России лишь на рубеже XIX—XX вв.: из-за этой убежденности я не буду называть авторов статей, поскольку еще совсем недавно такая убежденность была практически консенсусом, и не только в пределах науки о Достоевском), в то время как Франциск — не только фигура, присутствующая в упомянутых в романе европейских «Историях», которые могли быть для исследователей не слишком доступны, но и фигурант «Жизни Иисуса» Ренана, о функции которой в романе эти исследователи говорили в тех же самых статьях.
12 См. также: К 225-летию издания «Добротолюбия» в России преподобным игуменом Назарием Валаамским // Валаамъ. Официальный сайт Валаамского монастыря [Электронный ресурс]. URL: https://valaam.ru/publishing/21780/ (21.10.2022).
About the authors
Tatiana A. Kasatkina
A. M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: t-kasatkina@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0875-067X
PhD (Philology), Director of Research, Head of the Research Centre “Dostoevsky and World Culture”
Russian Federation, ul. Povarskaya 25a, Moscow, 121069References
- Bashkirov D. L. The Space of the Word in the Novel by F. M. Dostoevsky “The Idiot”: Hesychasm and Works of F. M. Dostoevsky. In: Dostoevskiy i mirovaya kul’tura: al’manakh [Dostoevsky and World Culture: Almanac]. Мoscow, 2003, no. 17, pp. 168–195. (In Russ.)
- Biblioteka F. M. Dostoevskogo: opyt rekonstruktsii. Nauchnoe opisanie [F. M. Dostoevsky’s Library: The Experiment of Reconstruction. Scientific Description]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2005. 338 p. (In Russ.)
- Boborykina T. A. “Crime and Punishment”: Choreography of the Text and Text of the Choreography. In: Dostoevskiy i mirovaya kul’tura. Filologicheskiy zhurnal [Dostoevsky and World Culture. Philological Journal], 2022, no. 3 (19), pp. 48–77. (In Russ.)
- Bogdanova O. A. The Motif “Paradise on Earth” in the Artistic Consciousness of F. M. Dostoevsky. In: Novyy filologicheskiy vestnik [The New Philological Bulletin], 2016, no. 1 (36), pp. 64–77. (In Russ.)
- Vil’mont N. Dostoevskiy i Shiller. Zametki russkogo germanista [Dostoevsky and Schiller. Notes of a Russian Germanist]. Moscow, Sovetskiy pisatel’ Publ., 1984. 280 p. (In Russ.)
- Govorun S. Iz istorii «Dobrotolyubiya» [From the History of “The Philokalia”]. Available at: https://azbyka.ru/iz-istorii-dobrotolyubiya (accessed on October 20, 2022). (In Russ.)
- Grigor’ev Dm. (Archpriest). Saint Ambrose and Elder Zosima by Dostoevsky: At the Origins of the Religious and Philosophical Views of the Writer. In: Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2001, vol. 16, pp. 150–163. (In Russ.) Dobrotolyubie, ili slovesa i glavizny svyashchennogo trezveniya (na tserkovno-slavyanskom) [The Philokalia, or Words and Main Points of Sacred Sobriety (in Church Slavonic)]. Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Paisij_Velichkovskij/dobrotolyubie-ili-slovesa-i-glavizny-svjashhennogo-trezvenija/ (accessed on October 23, 2022). (In Russ.)
- Ivanov V. V. Hesychasm and Poetics of Inarticulation in Fyodor Dostoevsky’s Works. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1998, issue 5, pp. 321–327. Available at: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2510 (accessed on October 23, 2022). doi: 10.15393/j9.art.1998.2510 (In Russ.)
- Kasatkina T. Svyashchennoe v povsednevnom: dvusostavnyy obraz v proizvedeniyakh. F. M. Dostoevskogo [The Sacred in Everyday Life: A Two-Part Image in the Works of F. M. Dostoevsky]. Мoscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2015. 528 p. (In Russ.)
- Kasatkina T. A. Dostoevskiy kak filosof i bogoslov: khudozhestvennyy sposob vyskazyvaniya [Dostoevsky as a Philosopher and Theologian: An Artistic Method of Expression]. Мoscow, Vodoley Publ., 2019. 336 p. (In Russ.)
- Kleyman R. Ya. Skvoznye motivy tvorchestva Dostoevskogo v istoriko-kul’turnoy perspektive [Through Motifs of Dostoevsky’s Work in Historical and Cultural Perspective]. Kishinev, Shtiintsa Publ., 1985. 202 p. (In Russ.)
- Kotel’nikov V. A. Pravoslavnye podvizhniki i russkaya literatura. Na puti k Optinoy [The Orthodox Ascetics and Russian Literature. On the Way to the Optina]. Мoscow, Progress-pleyada Publ., 2002. 382 p. (In Russ.)
- Novikov N. M. Nachalo molitvy: besedy o vnutrenney zhizni [The Beginning of Prayer: Discourses on the Inner Life]. Мoscow, Put’ umnogo delaniya Publ., 2015. 656 p. (In Russ.)
- Tikhomirov B. N. «Lazar’! gryadi von». Roman F. M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie» v sovremennom prochtenii: kniga-kommentariy [“Lazarus! Ridge Over There”. Dostoevsky’s Novel “Crime and Punishment” in Modern Interpretation: The Commentary]. St. Petersburg, Serebryanyy vek Publ., 2016. 556 p. (In Russ.)
- Khoruzhiy S. S. Anthropology of Hesychasm and Anthropology of Dostoevsky (Based on “The Brothers Karamazov”). In: Vikichtenie. Otkrytyy nauchnyy seminar: Fenomen cheloveka v ego evolyutsii i dinamike. 14.05.08 [WikiReading. Open Scientific Seminar: The Human Phenomenon in its Evolution and Dynamics. 14.05.08] Available at: https://culture.wikireading.ru/60919 (accessed on October 23, 2022). (In Russ.)
- Khoruzhiy S. S. “The Brothers Karamazov” in the Prism of Hesychast Anthropology. In: Dostoevskiy i mirovaya kul’tura: al’manakh [Dostoevsky and World Culture: Almanac]. Мoscow, 2009, no. 25, pp. 13–56. (In Russ.)
Supplementary files