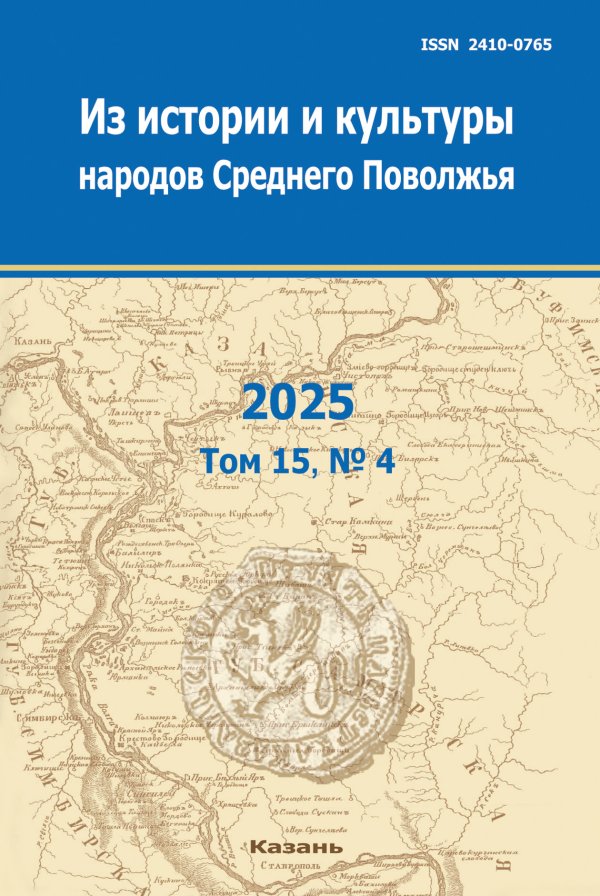О месте и роли этнокультурного фактора в переселенческом движении волжских крестьян на земледельческие окраины России в конце XIX – начале XX века
- Авторы: Николаев Г.А.
- Выпуск: Том 15, № 2 (2025)
- Страницы: 71-88
- Раздел: Статьи
- Статья опубликована: 30.06.2025
- URL: https://journal-vniispk.ru/2410-0765/article/view/324786
- DOI: https://doi.org/10.22378/2410-0765.2025-15-2.71-88
- ID: 324786
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В конце XIX – начале XX в. в Российской империи в переселенческое движение была вовлечена огромная масса людей. Его основной поток был направлен из густонаселенных регионов страны в малозаселенные земельные окраины. Рост численности населения и прогрессирующее малоземелье обусловили отток крестьян и из многонациональной деревни Среднего Поволжья. В региональной литературе данное многосложное явление освещается главным образом в социально-экономическом и социально-политическом ракурсах, что и оправдано, и востребовано. Вместе с тем, поскольку миграции населения, как и многие социокультурные составляющие реальной действительности, несли на себе и отпечаток воздействия этнокультурного фактора, представляется необходимым обратить внимание и на данный сегмент темы, ибо каждой этнической общности присущи свой образ жизни и поведенческий стереотип. Данная статья преследует цель оттенить роль и место национального момента в переселенческом движении волжских крестьян на земельные окраины страны. Автор настоящих строк считает, что подобная проекция добавит новые краски в его оценке и понимании. При этом он находит роль этнокультурного фактора хотя и значимой, но, вместе с тем, и отнюдь не определяющей составляющей в механическом движении сельского населения.
Ключевые слова
Полный текст
В региональной исторической литературе переселенческое движение волжских хлебопашцев в конце XIX – начале XX в. освещается преимущественно в социально-экономическом и социально-политическом аспектах. Подобный подход к изучению механического движения населения и ожидаем, и правомерен. Отток жителей с густонаселенных регионов страны в малонаселенные был закономерным процессом и имел своей основой прежде всего хозяйственно-экономические составляющие. На рубеже веков, как массовое явление, порожденное сравнительно быстрым ростом сельского населения и обострением в этой связи «земельного голода», оно находилось в центре внимания правительства. Более того, в начале нового столетия организация переселений стала составной частью аграрной реформы, вошедшей в историю под названием «столыпинской». В многонациональной и поликонфессиональной стране, каковой была Российская империя, все имевшие в разных сферах жизни общества процессы в той или иной мере были пронизаны и этнокультурной составляющей. Не составляло исключение в данном плане и миграции населения. В этой связи находим правомерным рассмотрение в этнокультурной проекции в выделенный ними отрезок времени переселенческого движения крестьян Казанской и Симбирской губерний. Такой подход призван оттенить новые грани в данном многосложном социокультурном явлении.
Представляется уместным начать погружение в тему с показа масштабов миграции сельского населения на земледельческие окраины страны и этнического состава переселенцев. Отток жителей из средневолжских губерний в конце XIX – начале XX в. в имеющихся статистических обследованиях отражен преимущественно только по одному направлению – в азиатскую часть Российской державы. В этот обширный регион в изучаемое время устремлялось до 76,1% всех мигрантов страны [3, c.54]. По неполным данным, за период с 1896 по 1916 г. из Казанской и Симбирской губерний в Сибирь, на Дальний Восток, в Казахстан и Среднюю Азию выехало соответственно 46 196 и 40 720 переселенцев [подсчитано по: 9, с.14–15; 10, с.14–15]. Отлив мигрантов из региона в губернии Европейской России был в разы меньшим. Ее земледельческие окраины обладали куда меньшим объемом земель, удобных для хлебопашества. Так, в Самарской, Оренбургской и Уфимской губерниях основная часть таковых угодий была освоена переселенцами, в их числе казанцами и симбирцами, еще в предыдущее время [5, с.203–236; 35; 36, с.67–72; 38, с.33–86]. В изучаемый период водворение волжских крестьян на колонизируемые земли Волго-Уралья уже не было массовым, как некогда раньше. Объем пригодных для хлебопашества земель в них почти или в большей мере уже был исчерпан [11, с.134; 31, с.75]. Часть волжских крестьян, как, к примеру, татарский хлебопашец N Новоуринского сельского общества Царевококшайского уезда Казанской губернии, причисленный в начале XX в. к обществу мещан г. Троицка Оренбургской губернии1, мигрировала в города2.
К сожалению, имеющиеся в распоряжении исследователей исторические источники не позволяют установить этнический состав переселенцев. Степень мобильности национальных групп крестьянского населения может быть установлена лишь опосредованно. Полагаем, что таким критерием/показателем может служить доля приписных отсутствующих семей в общем числе наличных и отсутствующих крестьянских семейных союзов. Последняя группа включала в свой состав как временных трудовых мигрантов (отходников), так и переселенцев и потенциальных переселенцев. В частности, по Симбирской губернии экономический строй отсутствующих дворохозяйств в материалах земского обследования 1910–1911 гг. характеризуется следующими параметрами. Из них явствует, что в составе названной категории сельских жителей 35,2% семей являлись безземельными, 49% – сдавали свои наделы и купчие земли в аренду. При этом оставившие место приписки 48,2% мужчин и 3,9% женщин были круглый год заняты «промыслами». Приписное наличное сельское население в названной проекции представляет хозяйства с иным экономическим строем: безземельные – 6,6%, сдающие свои надельные и купчие земли в аренду – 12,5%, занятые круглый год «промыслами» мужчины – 9%, занятые круглый год «промыслами» женщины – 1,1% [подсчитано по: 22–29].
Обычно переселениям крестьян предшествовали «походы» ходоков и отходников. Более того, часть последних де-факто являлась переселенцами. Подобная ситуация предстает, в частности, из корреспонденции жительницы русского села Кургул Спасского уезда Казанской губернии Е.Н. Петровской: «Часть молодежи ежегодно уходит в город за работой и остается там навсегда; кое-кто отправляется со своим мастерством в Сибирь на год, на два, иногда лет на десять с побывками; некоторые, устроившись на новом месте, забирают и семью» [21, с.295]. Еще одно необходимое пояснение. Поскольку в составе мигрантов отходники в разы превосходили по численности переселенцев, постольку полученные нами сводные результирующие показатели будут отражать в первую очередь национальный состав хлебопашцев, отлучающихся на заработки. Вместе с тем, они дают определенное представление и о национальном составе переселенцев, ибо отходничество и переселенческое движение в социально-экономическом отношении принадлежат к явлениям одного и того же порядка.
В Казанской губернии, как можно судить по косвенным данным, чаще были подвержены миграции русские крестьяне. К 1907 г. доля отсутствующих семей в общем числе семейных союзов у них равнялась 9,5%. В порядке убывания данной статистической характеристики следующие позиции за великороссами занимали хлебопашцы из татар – 6,9%, мордвы – 4,7%, чувашей – 1,09%, удмуртов – 1,08%, мари – 0,9% [подсчитано по: 15, с.124]. В Симбирской губернии величина принятого критерия этнических групп крестьянского населения от наибольшего к наименьшему образует во многом схожую цифровую «лестницу»: русские (данные за 1910–1911 гг.; доля приписных отсутствующих семей в общем числе приписных семей) – 13,9%, мордва – 10,5%, татары – 10,4%, чуваши – 4,7% [подсчитано по: 22–29]. Первую позицию по мобильности и здесь занимают великороссы. Мордва, находящаяся на втором месте, опережает татар лишь на одну десятую процента. Чувашские хлебопашцы, замыкающие названный ряд, уступают и русским, и мордве, и татарам.
Работая в научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук, мы наткнулись на любопытный документ, объясняющий исход волжских переселенцев на колонизируемые земли страны. В этнографической записке Петра Иванова, написанной в начале XX в., читаем: «Переселились на новую землю (в Томскую губернию. – Г.Н.) чуваши: из с. Бушанча Свияжского уезда [Казанской губернии] – три двора, жившие в смесь с русскими и полуобрусевшие. Причины: главная – малоземелье, и потом вынудительное отношение к переселению их со стороны русских, также и отношение [к ним] татар в окружности, и господство их в данной местности над чувашами (курсив наш. – Г.Н.)»3. Крестьяне, водворявшиеся в малозаселенных регионах страны, свое решение покинуть малую родину и перебраться в неведомый прежде край практически всегда объясняли недостатком земли. В качестве дополнительного толчка, вынуждавшего их решиться на такой кардинальный шаг, иногда ими указывалось на отсутствие в местах приписки выгонов и лесных участков, на плохое качество обрабатываемых земель, на рост арендных цен на сельскохозяйственные угодья, на частые неурожаи хлебов, на изобилие оврагов на полях, на обременительность содержания многочисленных мостов и гатей, а также на прочие обстоятельства данного ряда [13, с.44–45]. В свете фрагмента текста приведенного нами документа, как видим, перечень сопутствующих причин, толкавших землепашцев на переселение, был шире. Отчасти он был вызван и этнокультурной составляющей – притеснением их на малой родине этническими соседями.
Здесь представляется уместным небольшое пояснение, касающееся взаимоотношений крестьян разных национальностей в Средневолжском регионе. В эпоху капиталистической модернизации волжские этносы вступили, имея в своем социокультурном багаже богатый опыт добрососедских отношений. Их связывали контакты и связи самого разного плана. Члены этнических общин совместно проводили мини-ярмарки, приглашали друг друга на свои традиционные праздники, предоставляли путникам-иноплеменникам стол и кров, при общении друг с другом, оказывая почтение их традициям и культуре, переходили на язык партнеров, вместе разрешали возникающие сложные жизненные ситуации и т.д. Случалось, что они вступали между собой и в брачные союзы [19, с.70–290]. Крестьяне разных национальностей тесно контактировали и в хозяйственно-экономической сфере. Подобная картина была характерна прежде всего для местностей, где они проживали по соседству. В исторических источниках полно свидетельств об этой стороне их отношений4. В местностях компактного расселения этносов межэтническое взаимодействие обеспечивал собой главным образом торгово-промышленный люд из великороссов и татар-мусульман5.
Вместе с тем отношения разнонациональных аграрных социумов на Средней Волге включали не только тенденцию сближения – а она была превалирующей, но и дистанцирования. Появление инонациональных и иноконфессиональных хлебопашцев в своем сельском обществе или ближайшей округе крестьяне не всегда воспринимали позитивно. В итоге в части таких местностей между ними возникали неприязненные отношения, которые, случалось, в эпоху рыночных реалий имели своим следствием отселение групп семей в другой населенный пункт [7, с.76]. В дореформенное время в аналогичной ситуации, бывало, и жители всего населенного пункта переселялись в другую местность [8, c.141]. В конце XIX – начале XX в. в некоторых этнически и конфессионально смешанных селах и деревнях дистанцирование этнических партнеров друг от друга приводило и к учреждению автономных в административном и земельном отношениях сельских обществ [18, c.55–68]. В контексте всего сказанного упоминание современника неприязненных отношений с этническими соседями в качестве сопутствующей причины, толкавшей уроженцев волжской деревни на переселение в Сибирь, не выглядит неожиданным, а тем более надуманным свидетельством. Трения между членами разнонациональных аграрных социумов на волжской земле имели место, но не везде они приобретали остроту и сравнительно быстро гасились вовлеченными в них сторонами.
Миграция населения имела своим следствием взаимодействие различных хозяйственных систем, этноконфессиональных пространств и этнических менталитетов. Она объективно не могла быть абсолютно безболезненным процессом. И пересаженное на другой участок деревце, лишь переболев, дает новые побеги. Конфликтное начало в переселенческом движении было приумножено и тем обстоятельством, что оно неразрывно было связано с проводимой правительством национальной и аграрной политикой. Обычно лишь пройдя сквозь череду испытаний самого разного рода, мигранты налаживали привычный ритм жизни на новом месте. Случалось, что в течение длительного времени они вынуждены были жить на навязываемых им инонациональным окружением условиях, считаться с их обычаями и царившими в их среде нравами.
Обратимся к составленной в начале XX в. священником Стефаном Ефремовым историко-этнографической рукописи – она также хранится в научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук, где автор, опираясь на сохранившиеся документы – «целую связку довольно ветхих полуистлевших бумаг», изложил историю с. Ефремкино (Денисово) Стерлитамкского уезда Уфимской губернии. Начало названному населенному пункту положили чувашские хлебопашцы Самарской губернии, переселившиеся в 1780 г. к башкирам по договору о припуске «по недостатку к извороту своей пахотной земли и других угодий». Заключенная сделка оказалась неудачной. Выяснилось, что новоселы купили спорное владение. Расплата за проявленную беспечность не заставила себя долго ждать: в 1781 г. «башкиры деревни Тюкуновой лишили их [переселенцев] собственных домов, скота и птиц, разграбили у них разные вещи, избили их и прогнали с той земли». Последовал новый договор с башкирами на водворение в «пустолежащем и никем не заселенном урочище». И поселившись на выделенном им месте, чуваши продолжали терпеть от окрестного населения разные «оскорбления и обиды». В 1795 г. новоселы «за плату по десяти рублей с каждой души» приписали в свое сельское общество соплеменников из Казанской и Симбирской губерний, оставивших прежнее место жительства в поисках лучшей доли. По всей видимости, данный шаг ефремкинцами был сделан для облегчения тяжести возложенной на них башкирами «дани»: ежегодных плат скотом, птицей, яйцами, водкой, вином и деньгами. Лишь в пореформенное время в связи с размежеванием башкирских земель поборы с ефремкинцев пошли на убыль: «с 1870 г. чуваши сняли с себя некоторую тягость»6.
Описанная служителем православного культа Стефаном Ефремовым «система кормления» на башкирских землях, как видим, благополучно перешагнула с XVIII – первой половины XIX в. в эпоху капиталистической модернизации. В распоряжении исследователей имеются и другие свидетельства, подтверждающие эту ситуацию. Так, начало пос. Семеновский Стерлитамакского уезда Уфимской губернии было положено в 1890 г. уроженцами русских деревень Симбирской губернии. Ранее их ходоками были высмотрены и заторгованы душевые наделы жителей д. Сабашево площадью 530 дес. по восемь рублей на следующих условиях: «одну половину денег уплатить при написании приговора, а вторую – при совершении купчей». В 1892 г. башкиры получили часть причитающейся суммы: им было уплачено «по шесть рублей за десятину». Но оформление купчей крепости на земельное владение затянулось на целых пять лет: мигранты никак не могли добиться высылки с родины увольнительных свидетельств. В свою очередь для их выдачи сельские общества Симбирской губернии требовали от выехавших хлебопашцев предоставить им купчую крепость на приобретенное владение. Получался замкнутый круг. За это время переселенцы четыре раза съездили к землякам. Но все они не принесли никакого результата. Тупиковая ситуация разрешилась лишь после вмешательства местного земского начальника. В 1897 г. долгожданная купчая крепость сторонами, наконец, была оформлена. Но из-за продолжительного оформления сделки мигранты понесли чувствительные финансовые издержки. Только на «темные» – угощения продавцов земли и преподношения им всяких подарков – они потратили сумму, которая составила до «пяти рублей за десятину» [17, c.216–217]. В 1894 г. в данном же уезде сорвалась согласованная с башкирами сделка жителей русско-мордовского поселка Ключевский на покупку земли площадью 801 дес. по шесть рублей. Выходцы из Симбирской губернии – в населенном месте они составляли большинство, и трех других губерний страны, проживающие в нем, не сочли возможным удовлетворить требования продавцов уплатить сверх причитающихся им денег еще «темных» в сумме 200 руб. [17, с.135]. Подобная «система кормления» башкир на Урале получила сравнительно широкое распространение [1, с.341–342].
Но втиснув отношения башкир и новоселов в крыловскую антитезу «Волк – Ягненок», мы донельзя исказили бы реалии действительности. В хозяйственно-поведенческом плане и мигранты не являлись «ангелами во плоти». В пореформенное время в числе лиц, путем обмана и насилия расхищавших башкирские вотчинные владения, были и водворившиеся к ним из других губерний хлебопашцы, включая и средневолжские. Укажем лишь на один подобный случай. В 1878 г. великороссы с. Елшанка Сызранского уезда Симбирской губернии в числе 25 домохозяев в Орском уезде Оренбургской губернии сняли в аренду у генерала Москвина участок земли в 1 200 дес. на шесть лет «по 33 коп. за десятину в год», на котором основали хутор Симбирский. Вскоре к ним присоединились еще 40 семей земляков. В 1884 г., изучив царившие в среде башкир порядки и нравы, симбирцы взяли в аренду у них участок 5000 дес. за 300 руб. в год на 12 лет, на котором основали еще одно населенное место – хутор Ново-Симбирский. Окрестные башкиры, «побуждаемые нуждой и голодом», сами стали просить их купить у них хотя бы часть арендованного участка. Новоселы не упустили столь благоприятную возможность нажиться за счет этнических соседей: было куплено 1500 дес. земли, которые обошлись им вместе с «темными» всего в 2 руб. 50 коп. за каждую десятину. Причем даже они выплачивались продавцам не столько наличными, сколько всякой рухлядью – старой одеждой и обувью, ненужной сбруей и т.п. В 1893 г. симбирцы приобрели у башкир еще один участок в 581 дес. Новая собственность обошлась им вместе с «темными» «рубля по три за десятину». Втридорога сбывались башкирам великороссами старые седла, полушубки и прочая всякая всячина [4, c.367–372]. Естественно, и новоселы, и старожилы, вовлеченные в хозяйственно-бытовые трения, награждали своих компаньонов хлесткими эпитетами, затрагивающими и их национальную принадлежность. Так, уфимских и оренбургских соплеменников, прибегающих в повседневной действительности к обману, воровству и мошенничеству, чуваши Казанской и Симбирской губерний причисляли к числу лиц, «сильно зараженных башкирством»7.
Стена отчуждения между новоселами и старожилами и в Сибири возводилась и первыми, и вторыми. Хотя и не всегда, в ее основе лежал прежде всего хозяйственно-экономический фактор. Так, в пос. Чебаксы Тобольского округа одноименной губернии, основанном выходцами из Казанской и Вятской губерний, на почве земельных отношений имели место взаимные побоища пришлого и местного населения [33, с.36]. Свысока, «обнаруживая даже некоторое ненавидство», относились старожилы к новоселам и в пос. Покровский Тобольского округа одноименной губернии. Выходцы из Мамадышского уезда Казанской губернии, проживающие в нем, вынуждены были отрабатывать вдвойне за взятые у них в долг деньги, хлеб, скот и сельскохозяйственный инвентарь [33, c.67].
Новопоселенцы, особенно представленные выходцами из разных административно-территориальных единиц, далеко не всегда находили общий язык в районах вселения и с собратьями по хозяйственно-экономической операции. Именно такая ситуация наблюдалась, к примеру, в пос. Наумовский Томского округа одноименной губернии: «внутри общества установились очень дурные отношения». Он был основан переселенцами в 1890 г. Спустя четыре года в нем стали проживать 68 семей мигрантов Вятской, Казанской, Курской, Пензенской, Пермской, Тамбовской и Тобольской губерний. Большинство в их составе являли собой выходцы с Волги, представленные 42 семейными союзами. Крестьянами, добравшиеся сюда первыми, были захвачены «все лучшие и достаточно близкие к усадьбам пашни». Более того, прибывшим после них хлебопашцам они «не давали косить и рубить лес» [13, c.76, 81]. И в данном случае, как видим, в основе трений лежит все тот же извечный хозяйственно-экономический интерес.
Но дистанцирование выходцев разных губерний от старожилов и друг от друга в местах водворения происходило и из-за принадлежности сторон к разным этническим общинам. Весьма показательна в этом плане ситуация, связанная с основанием пос. Беловодское Мариинского округа Томской губернии. Населенный пункт возник в 1890 г. Его первыми жителями стали переселенцы из четырех губерний Европейской России: Курской – 71 семья, Орловской – 14 семей, Самарской – 1 семья, Казанской – 1 семья. В составе новоселов 71 семья представляла русский этнос, 4 – украинский, 2 – чувашский. Вскоре в поселке появились новые семьи мигрантов. В частности, в 1892 г. в нем перезимовала два десятка семей чувашских крестьян, добравшихся сюда из селений Буинского и Симбирского уездов Симбирской губернии. Новоприбывшим чувашам местный чиновник разъяснил, что они могут водвориться в среду жителей населенного пункта, если получат от них приемный приговор. Но симбирцы, по-видимому, нашли последнее пустой формальностью и начали ставить себе избы в поселке. В итоге самоуверенность и легкомыслие обошлись волжанам ощутимыми социально-психологическими и хозяйственно-экономическими издержками. Когда их срубы были почти готовы, поселковцы объявили новоприбывшим свое решение: в приеме в состав сельского общества отказать. Причем оно было мотивировано именно национальным моментом: «Мы хохлы (украинцы. – Г.Н.), вы не русские, согласия не будет». Все 16 изб, построенных ими, курянами и орловцами были изъяты и переданы своим землякам из числа прибывших новых переселенцев [12, с.259]. Вслед за своими сородичами вскоре покинули поселок и его основатели из чувашей, не пожелав жить в среде высокомерных великороссов и малороссов. Еще один подобный пример. Попытка десяти семей марийских и чувашских крестьян Казанской губернии водвориться в 1893 г. в основанный русскими хлебопашцами Вятской губернии пос. Петровский Тарского округа Тобольской губернии также не удалась из-за нежелания русских крестьян жить по соседству с «инородцами» в одном населенном пункте [33, c.8]. На рубеже XIX–XX столетий география этнической конфликтности в Российской империи включала именно зоны взаимодействия этнокультурных пространств: Нижнее и Среднее Поволжье, Южное Приуралье, юг Западной Сибири, Приморье [16, с.91].
В свете имеющихся исторических источников высвечивается еще одна любопытная ситуация, имеющая прямое отношение к рассматриваемой теме. В начале XX в. чувашские крестьяне, мигрировавшие в Сибирь с башкирских земель, дистанцировались от соплеменников, перебравшихся в этот суровый край из Казанской и Симбирской губерний. В частности, как сообщает священник Григорий Тимофеев, в Щегловском уезде Томской губернии – в с. Тапа и его округе – они не посылали сватов к волжским сородичам, объясняя это тем, что в отличие от них «они темны»8. К себе в местах водворения они принимали башкир и сородичей из Башкирии. В свою очередь и переселенцы из Казанской и Симбирской губерний не особо жаловали соплеменников из Уфимской и Оренбургской губерний: находили их «дикими». В основе подобного поведения чувашских мигрантов из Поволжья и Приуралья на сибирской земле, как представляется нам, лежит этноконфессиональный фактор. В конце XIX – начале XX в. в синкретизированном религиозном сознании башкирских чувашей языческий и мусульманский пласты занимали куда больший вес, чем у их волжских соплеменников [34, с.237–240]. В изучаемый период, хотя и не все, но очень многие из уфимских и оренбургских чувашей, были потомками сородичей, перебравшихся туда с волжских земель в предыдущие века с целью избежать крещения. Это обстоятельство, естественно, не могло не сказаться на поведенческом стереотипе их потомков, перенявших от предков языческие обычаи и традиции. На месте водворения – и в дореформенное время, и в пореформенный период, и позднее – этническими соседями чувашей, как, к примеру, в Бижбулякском приходе Белебеевского уезда Уфимской губернии, где, согласно свидетельству местного служителя православного культа, «все чувашские деревни» были «окружены татарскими и башкирскими селениями» [20, c.61], очень часто были приверженцы ислама. В результате, тесно контактируя с ними в житейско-бытовой сфере, многие чуваши стали жить на башкирский или татарский лад: общаться на языке этнических партнеров, петь их песни, посещать мечети, родниться с мусульманами и т.д. [20, с.50, 123, 149, 186–203]. Что касается миссионерского дела, то оно в Среднем Поволжье, по-видимому, было поставлено лучше, чем в Приуралье. Так, чувашский священник Андрей Петров-Туринге, перебравшийся из Симбирской губернии на новое место службы в Уфимскую губернию, нашел, что «татарская сила в действительной жизни Казанского края действует» не столь смело и публично, как в Уфимском. В последнем он чувствовал себя «совершенно подавленным господствующим духом мусульманства» [20, с.203].
В «стране березового ситца», как с любовью величал свое Отечество великий русский поэт С.А. Есенин, с ее множеством народов и народностей, перемещение из одного региона в другой объективно имело своим следствием для пришельцев погружение в иноязычную, а часто – и в иноконфессиональную среду. Перспектива оказаться в чужой этнокультурной среде для переселенцев умножалась и обстоятельствами внешнего плана. Исходя из геополитических задач, правительство нередко прибегало к регулированию этнического состава переселенцев [6; 32]. Для отдельных территорий подобная мера оборачивалась искусственным усилением этнической пестроты населенных мест в местах водворения мигрантов. Так, законом от 15 апреля 1896 г. властям Тобольской и Томской губерний (кроме Алтайского горного округа), а также Степного и Иркутского генерал-губернаторств, правда, с оговоркой «по возможности», предписывалось, чтобы прибывавшие на их территории нерусские переселенцы были включаемы в состав сельских обществ из мигрантов русского происхождения [30].
«Великий незнакомец», как образно назвал хлебопашца британский социолог, один из создателей современного крестьяноведения Теодор Шанин, был не только великим тружеником, но и великим прагматиком. По жизни он хорошо знал, что в среде соплеменников ему будет комфортнее и в социально-психологическом, и в социально-экономическом, и в житейско-бытовом, и в семейно-брачном отношениях. Именно поэтому крестьяне стремились в колонизируемых районах влиться в состав сельских обществ, где проживали их сородичи и единоверцы. Так, в годы реализации столыпинской аграрной реформы, как установлено Г.Т. Бакиевой и Ю.Н. Квашниным, в Ялуторском и Тюменском округах Тобольской губернии в деревни сибирских татар водворялись переселенцы из татар, проживавшие в Казанской и Симбирской губерниях [2, с.160–161]. В тех же случаях, когда не представлялась возможность приписаться к соплеменникам, хлебопашцы старались попасть в среду чужаков в составе мини-групп9. О выраженной тяге переселенцев к сообществу соплеменников свидетельствует и следующий факт. Относительно равные по численности этнические группы новоселов, даже хорошо ладившие между собой, в основанных населенных пунктах, тем не менее предпочитали селиться на своих особых улицах – концах. К их числу принадлежит, в частности, пос. Ново-Панфиловский Барнаульского округа Томской губернии. Начало ему в 1882 г. положили выходцы Курской, Рязанской, Симбирской и Харьковской губерний. Став членами одного сельского общества, живущие в согласии великороссы, украинцы и мордва, все же решили жить каждая в собственном конце [37, c.316].
Для отдельных семей новоселов пребывание в иной этнокультурной среде стало и вовсе непреодолимым испытанием. Так, семья чувашского крестьянина д. Токшик Козьмодемьянского уезда Казанской губернии Петра Шкалева в составе девяти человек, причисленная в конце 1897 г. в пос. Новогеоргиевск Томского округа одноименной губернии, с вселением в населенное место уроженцев восьми других административно-территориальных единиц европейской части страны, которым были присущи «свои порядки и обычаи», сочла, что в обществе чужаков, им, как чувашам, «жить невозможно» и настало время вернуться к волжским берегам. Очевидно, еще большим внешним толчком к принятию ими столь кардинального решения послужило то обстоятельство, что двое взрослых сыновей домохозяина никак не могли найти себе брачных партнеров в округе: «невест-чувашек нет поблизости, а русская не пойдет». 20 июля 1900 г. глава семейства подал прошение в Министерство внутренних дел о причислении себя и других членов семьи в родное сельское общество, откуда он выехал в Сибирь10. Как видим, и отток переселенцев с мест водворения на прежнюю малую родину отчасти был обусловлен этнокультурным фактором.
Разумеется, преувеличение степени воздействия этнокультурной составляющей повседневной действительности на механическое движение сельского народонаселения столь же неприемлемо, как и его оставление «за кадром». В конце XIX – начале XX в. активно осваивавшиеся мигрантами губернии и области Российской империи не входили в число административно-территориальных единиц с самым высоким уровнем этнической конфликтности [16, c.74, 91–92]. Районы, где оседала основная масса переселенцев, отличали наличие значительных массивов неосвоенных земель и относительно низкая плотность населения. Такая их специфика не могла не способствовать сравнительно безболезненному разрешению большинства хозяйственно-экономических и прочих трений между старожилами и волжскими новопоселенцами. Более того, и имевшие здесь между ними неприязненные отношения со временем, случалось, кардинально менялись – они перерастали в толерантные, добрососедские [33, c.498].
Конечно же, водворение пришлого населения в среду коренных жителей Урала, Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока и других регионов далеко не всегда имело своим обязательным следствием житейско-бытовые и этнокультурные коллизии. Новоселы пос. Никулинское Каинского округа Томской губернии, «главную массу» которых составляли русские бывшие помещичьи крестьяне Карсунского уезда Симбирской губернии, к примеру, очень тепло отзывались о местных старожилах: «дают им под работу все необходимое – хлеб, лошадей, сохи и т.д.» [14, с.8, 10]. В 1890 г. в Загваздинскую волость Тобольского округа одноименной губернии прибыла первая партия переселенцев в составе 56 семей из Казанской губернии, представленная марийскими и чувашскими крестьянами. Лишь спустя два года им удалось получить разрешение на поселение в местности Услон, расположенной в глухом урмане за р. Иртыш. Через год в поселке, получившего название Казанский, была поставлена первая изба. Между пришлым и местным населением сложились толерантные, прагматические отношения, основанные на учете интересов друг друга. Старожилы сужали новоселов без процентов деньгами и хлебом, в свою очередь новоселы нанимались к ним на полевые работы. Хорошо ладили переселенцы и между собой. В ближней и дальней округе трудолюбивые выходцы с Волги вскоре приобрели известность выделкой гнутой мебели из черемухи. Изготовленные мари и чувашами стулья получили распространение по всему Тарскому округу [33, c.1–3]. И крестьяне с. Балабаш-Баишево, д. Бахтигильдино, д. Бюртли-Шигали, д. Кокшаново, д. Сидели, д. Янгильдино Буинского уезда Симбирской губернии, переселившиеся в 1910 г. в Верхне-Осинский улус Балаганского уезда Иркутской губернии, очень быстро сумели найти общий язык с местным окрестным населением. Установив с бурятами тесные контакты, новоселы стали снимать в аренду у них земли для посева. Об этнических соседях чувашские хлебопашцы отзывались очень тепло: находили свои отношения с ними братскими11.
К изложенному выше в качестве обобщения, пожалуй, может быть приведено следующее очень тонкое наблюдение современника, прибывшего из Средней Волги в Сибирь. Чувашский священник Георгий Тимофеев правомерно заключает, что в конце XIX – начале XX в. Азиатская часть Российской империи «в старом смысле» переживает кризис и очень рационально перекраивается «на новый европейский лад»: «здесь всякого звания люди живут, дружатся и друг друга не корят»12. Тем самым косвенно им подчеркнут и переплетение этнокультурного фактора с переселенческим движением.
1 Государственный архив Республики Марий Эл (ГА РМЭ). Ф.133. Оп.1. Д.3. Л.127 об.–128.
2 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф.1562. Оп.20. Д.4. Л.1, 2.
3 Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук (НА ЧГИГН). Отд. I. Фонд Н.В. Никольского. Ед. хр.177. Л.643.
4 Государственный исторический архив Чувашской Республики (ГИА ЧР). Ф.39. Оп.1. Д.246. Л.36.
5 НА ЧГИГН. Отд. I. Фонд Н.В. Никольского. Ед. хр.174. Л.67.
6 НА ЧГИГН. Отд. I. Фонд Н.В. Никольского. Ед. хр.256. Л.17–13.
7 НА ЧГИГН. Отд. I. Фонд Н.В. Никольского. Ед. хр. 281. Л.18; Ед. хр. 283. Л.40–43.
8 НА ЧГИГН. Отд. I. Фонд Н.В. Никольского. Ед. хр. 281. Л.39.
9 ГИА ЧР. Ф.53. Оп.1. Д.1513. Л.4, 4 об., 5, 5 об.; Ф.67. Оп.1. Д.987. Л.1–7.
10 ГА РМЭ. Ф.67. Оп.1. Д.102. Л.6, 6 об.
11 НА ЧГИГН. Отд. I. Фонд Н.В. Никольского. Ед. хр.177. Л.713.
12 НА ЧГИГН. Отд. I. Фонд Н.В. Никольского. Ед. хр.281. Л.17, 18.
Об авторах
Геннадий Алексеевич Николаев
Автор, ответственный за переписку.
Email: nicga50@rambler.ru
ORCID iD: 0009-0000-1443-545X
кандидат исторических наук, исследователь
Россия, ЧебоксарыСписок литературы
- Апкаримова Е.Ю., Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В. Сельское и городское самоуправление на Урале в XVIII – начале XX века. М.: Наука, 2003. 381 с.
- Бакиева Г.Т., Квашнин Ю.Н. Поволжские татары в Западной Сибири: особенности расселения и этнокультурного развития // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. №3 (22). С.156–164.
- Брук С.И., Кабузан В.М. Миграции населения в России в XVIII – начале XX века (численность, структура, география) // История СССР. 1984. С.41–59.
- Волгин Ал. Село Ново-Симбирское // Оренбургские епархиальные ведомости. 1907. №26–27. С.367–375.
- Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания: Очерки истории чувашского народа с древних времен до середины XIX века. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1993. 446 с.
- Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма: (начало XX в.) // Вопросы истории. 1996. №11–12. С.39–53.
- Износков И.А. Список населенных мест Казанской губернии, с кратким описанием их. Вып. 2. Лаишевский уезд. Казань: Тип. губерн. правления, 1895. 115 с.
- Износков И.А. Список населенных мест Мамадышского уезда // Труды Четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 года. Т.1, отд. 1. Казань: Тип. Императ. ун-та, 1887. С.116–148.
- Итоги переселенческого движения за время с 1896 по 1909 гг. (включительно) / сост. Н.Турчанинов. Пг., 1910. 85 с.
- Итоги переселенческого движения за время с 1910 по 1914 гг. (включительно) / сост. Н.Турчанинов и А.Домрачев. Пг., 1916. 81 с.
- Кабытов П.С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма (1900–1917 гг.). Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1982. 198 с.
- Кауфман А.А. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных на казенных землях Томской губернии. Т.1. Ч.1. СПб.: Тип. В. Безобразова и Кᵒ, 1895. XXV, 348, 177 с.
- Кауфман А.А. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных на казенных землях Томской губернии. Т.1. Ч.2. СПб.: Тип. В. Безобразова и Кᵒ, 1895. [6], 140, 81 с.
- Кауфман А.А. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных на казенных землях Томской губернии. Т.1. Ч.3. СПб.: Тип. Безобразова и Кᵒ, 1896. [6], III, 150, 337 с.
- Крестьянское землевладение Казанской губернии. Свод по губернии. Вып. 13. Казань: Литотип. И.Н. Харитонова, 1909. 305 с.
- Куприянов А.И. Этническая конфликтность в России: 1881–1904 гг. // Мировосприятие и самосознание русского общества. Ментальность в эпохи потрясений и преобразований. Вып. 4. М., 2003. С.74–94.
- Михайлов В.П. Переселенцы и переселенческое дело в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии. Уфа: Тип. губерн. правления, 1897. [2], XII, 282 с.
- Николаев Г.А. Документы о формировании в социальном пространстве чувашско-татарских населенных мест Симбирской губернии автономных сельских обществ и земельных общин во второй половине XIX – начале XX в. // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2023. №1. С.55–68.
- Николаев Г.А. Мир волжской деревни во второй половине XIX – начале XX века. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2022. 416 с.
- Образование и христианское просвещение чувашей Волго-Уралья во второй половине XIX – начале XX века: документы и материалы из фондов Н.И. Ильминского и Казанской учительской семинарии / сост., авторы вступ. статьи, археогр. предисл., примеч. Г.А. Николаев, Р.Р. Исхаков. Чебоксары: ЧГИГН; Казань: Ин-т истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2023. 496 с.
- Петровская Е.Н. Из жизни крестьян села Кургул // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. 1910. Т.26. Вып. 4. С.295–342.
- Подворная перепись Симбирской губернии 1910–11 гг. Вып. 2. Алатырский уезд. Симбирск: Типолит. губерн. правления, 1913. С.2–73.
- Подворная перепись Симбирской губернии 1910–11 гг. Вып. 3. Ардатовский уезд. Симбирск: Типолит. губерн. правления, 1913. С.2–113.
- Подворная перепись Симбирской губернии 1910–11 гг. Вып. 4. Буинский уезд. Симбирск: Тип. А.П. Балакирщикова, 1914. С.2–121.
- Подворная перепись Симбирской губернии 1910–11 гг. Вып. 5. Карсунский уезд. Симбирск: Типолит. губерн. правления, 1914. С.2–129.
- Подворная перепись Симбирской губернии 1910–11 гг. Вып. 6. Курмышский уезд. Симбирск: Тип. А.П. Балакирщикова, 1914. С.2–113.
- Подворная перепись Симбирской губернии 1910–11 гг. Вып. 7. Сенгилеевский уезд. Симбирск: Тип. «Работник» М. Иванова и Кᵒ, 1914. С.2–73.
- Подворная перепись Симбирской губернии 1910–11 гг. Вып. 1. Симбирский уезд. Симбирск: Тип. «Работник» М. Иванова и Кᵒ, 1915. С.2–73.
- Подворная перепись Симбирской губернии 1910–11 гг. Вып. 8. Сызранский уезд. Симбирск: Тип. А.П. Балакирщикова, 1914. С.2–145.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. (ПСЗ РИ-1). Т.XVI. №12777.
- Роднов М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века (1900–1917): социальная структура, социальные отношения. Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002. 314 с.
- Сидельников С.М. Аграрная политика самодержавия в период империализма. М.: Изд-во МГУ, 1980. 288 с.
- Станкевич А. Материалы для изучения быта переселенцев, водворившихся в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х годов по 1893 год). Историко-статистическое описание 100 поселков. Т.1. М.: Тип. Общества распространения полезных книг, 1895. V, 541 с.
- Сухарева И.В. Историко-культурное развитие чувашей Башкортостана (XVIII – начало XX века). Уфа: Башк. энцикл., 2019. 488 с.
- Тарасов Ю.М. Русская крестьянская колонизация Южного Урала: II половина XVIII – I половина XIX в. М.: Наука, 1984. 175 с.
- Усманов Х.Ф. Крестьянская колонизация Башкирии в пореформенный период // Страницы истории Башкирии. Уфа, 1974. С.67–112.
- Швецов С.П. Материалы по исследованию мест водворения переселенцев в Алтайском округе. Результаты статистического исследования в 1884 г. Описание переселенческих поселков. Т.4. Вып. 2. Барнаул: Типолит. при Гл. упр. Алт. округа, 1899. [8], 559 с.
- Ягафова Е.А. Самарские чуваши (историко-этнографические очерки). Конец XVII – начало XX вв. Самара: ИЭКА «Поволжье», 1998. 369 с.
Дополнительные файлы