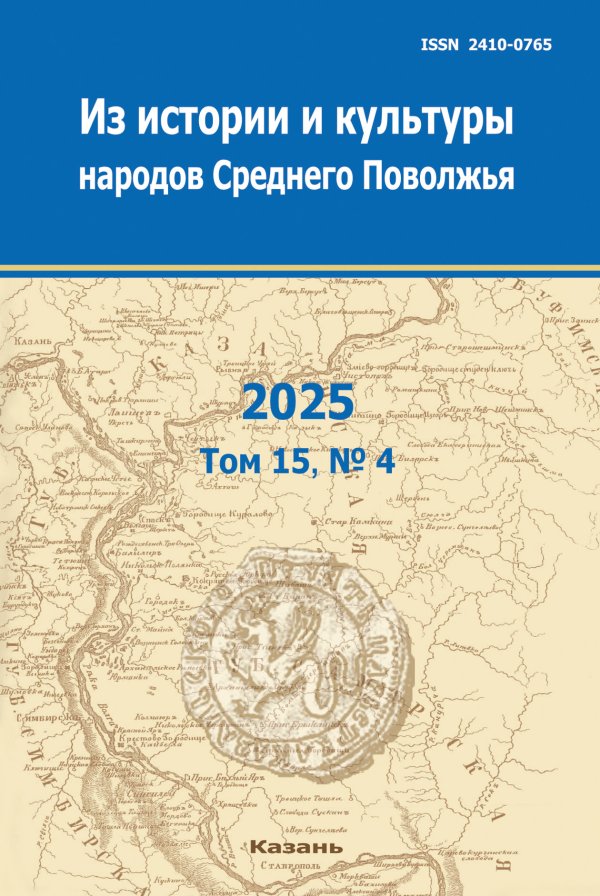К истории отечественного бахчеводства в XIX – начале XX века (по материалам Оренбургской и Уфимской губерний)
- Авторы: Роднов М.И.1
-
Учреждения:
- Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН
- Выпуск: Том 15, № 2 (2025)
- Страницы: 89-120
- Раздел: Статьи
- Статья опубликована: 30.06.2025
- URL: https://journal-vniispk.ru/2410-0765/article/view/324787
- DOI: https://doi.org/10.22378/2410-0765.2025-15-2.89-120
- ID: 324787
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье на основе широкого круга источников анализируется развитие одной из важных отраслей сельского хозяйства России – бахчеводства, делается акцент на выращивании арбузов на Южном Урале в XIX – начале XX в. Когда появились здесь арбузы – неизвестно, но уже в XVIII в. бахчеводство существовало от Оренбурга до Уфы. Бахчи держали помещики и крестьяне, затем пригородные дачники, существовали устойчивые внутрирегиональные поставки арбузов и дынь с юга на север: до Уфы, уральских горных заводов и даже до Екатеринбурга. Бахчеводство отличалось высокой товарностью, приносило хорошую прибыль, поэтому оно концентрировалось вокруг городов (Уфы, Стерлитамака и других). Арбузы выращивали представители всех народов края (русские, башкиры, татары, украинцы и пр.).
Ключевые слова
Полный текст
Введение. В Россию арбузы вплоть до второй половины XVII в. привозили из-за границы. Их редко ели сырыми, готовили такое блюдо: арбуз резали очень тонко, дольки клали в щелок (соду), потом варили патоку с перцем и пряностями. Первые арбузы были посеяны по царскому указу от 11 ноября 1660 г. При Петре I арбузы подавали во время дворцовых ассамблей вымоченными в сахарном сиропе. Лишь в XIX в. арбуз стал доступен народу [54, с.51]. Подобные краткие (полулегендарные) сведения преобладают в современном информационном пространстве, что не случайно, так как историки редко обращаются к возникновению бахчеводства в России. Хотя огородничество имеет древние традиции на Руси, при царе Алексее Михайловиче в селе Измайлово близ Москвы существовали Виноградный и Просяной царские сады, из последнего доставляли «ежегодно к царскому столу десятки тысяч огурцов и тысячу дынь» (тепличных). «Кроме московских огородов, при царях существовали огороды в Киеве, Белгороде и Симбирске, откуда вызывались на север сведущие огуречники и арбузники» [70, с.3]1.
Вообще овощеводство, как и разведение технических культур, традиционно вызывает слабый интерес в сообществе историков-аграрников [см.: 37; 34, с.376–377; 22]2. Лишь в последнее время наблюдаются позитивные сдвиги [30; 65; 15; 8]. Такое отношение уходит корнями в дореволюционную эпоху, когда острые проблемы сельского хозяйства и крестьянства воспринимались в первую очередь как развитие зернового производства и, меньше, животноводства. В знаменитом словаре Брокгауза и Ефрона статья про арбуз появилась лишь в дополнительном томе. «У нас промышленная культура А[рбуза] сосредоточена в Поволжье и некоторых местностях южных губерний; здесь А[рбуз] свободно дозревает на открытом воздухе, достигая при этом превосходных качеств в вкусовом отношении. […] Лучшие сорта бахчевых А[рбузов] – астраханский или быковский (белый), монастырский (зеленый с белыми полосами и с красными или серыми семенами), камышинский (такой же окраски), моздокский, урюпинский и др. Бахчевой А[рбуз] служит, кроме местного потребления, еще для отправки в столицы и крупные города. Больше всего отправляется на север астраханский А[рбуз], по преимуществу из бахчей южного Поволжья» [13, с.141–142]. В специализированной агрономической литературе также выходили публикации об арбузах [69, стб.304–305; 9, с.172–173; 71], чаще как исключение3. Тем не менее, употребление арбузов в пищу стало обыденностью даже в северной столице, что отразила кулинарная литература [1, с.371, 381–382]. Разведение арбузов и дынь отдавалось исключительно частной инициативе.
«На юге, в конце лета или в начале осени, на городских и сельских базарах являются горы арбузов и дынь; но эти овощи мало способны к сохранению; их солят на зиму только при недостатке капусты и огурцов или для лакомства» [38, с.137]. Бахчевые культуры демонстрировали на провинциальных выставках, как в Лебедяни, где «красовались: исполинская кукуруза, желтые турецкие бобы, отличные русские белые и синие бобы, капуста, разные коренья, арбузы и тыква, называемая “растительным мозгом”; они представлены были гг. Шишковым, Рудольфом и Путурницким и Тамбовскою фермою», – сообщалось в 1850 г. На симферопольской выставке 1846 г. была показана «патока из арбузов» от татарских государственных крестьян [38, с.141, 150].
В обзоре огородничества по регионам России бахчеводство в Уфимской и Оренбургской губерниях не упоминалось, зато в великорусских черноземных губерниях к началу XX в. «бахчи, впервые являющиеся в этой области, за исключением Тульской и Орловской губерний, распространены еще мало. Бахчеводством обыкновенно занимаются особые спекулянты-барышники из прасолов, которые сбывают свои продукты в города, или развозят по деревням, выменивая на яйца, кур, холст, лен и пр. В урожайные годы бахчевники наживаются, но в засушливое лето терпят большие убытки» [56, с.53]. Бахчи были в степных уездах Тамбовской губернии, в малороссийских губерниях «огородничество вытесняется бахчеводством» [56, с.55].
«Бахчи главным образом находятся в южных уездах Курской губернии: в Грайворонском, Белгородском и Корочанском; для них избираются вновь распаханные низменности, старые конопляники, новые земли и склоны лугов, обращенные к югу.
В Воронежской губ. бахчеводство уже вытесняет огородничество, которое в малых размерах ведется только около городов. Бахчами занимаются не только арендующие их мещане, но и крестьяне, и даже помещики» [56, с.55].
В степных губерниях «бахчи, кроме Крыма, встречаются повсеместно, всего более в Донской области; они редко служат для одних тыквенных растений (арбузов, дынь, тыкв, огурцов), как в Херсонской губ. Бахчи арендуются обыкновенно особыми спекулянтами-бахчевниками. Продукты бахчей расходятся, большею частию, на месте и мало вывозятся. Из арбузов здесь казаки приготовляют особый мед, т.н. нардек. Среди сортов арбузов пользуются известностью: алешковский и аккерманский» [56, с.57].
«Прикаспийская область, вместе с землею донских казаков, составляет главный район бахчеводства, где преимущественно выращиваются арбузы, мелкие дыни, огурцы, тыквы и местами редька, достигающая здесь на бахчах исполинской величины. Из бахчевых (арбузных) центров особенно выделяются: Камышинский уезд (камышинские арбузы), Царицынский (посад Дубовка, славящийся дынями дубовками), Царёвский (село Быково с быковскими арбузами) и Урюпинская станица; отсюда арбузы и дыни отправляются в Царицын, а из него, по Грязе-Царицынской и Тамбовско-Саратовской железной дороге, во внутренние губернии. С бахчей по берегам Урала и Илека, в особенности из станицы Изобили[нск]ой, арбузы и дыни доставляются в Самару и Уфу» [56, с.58].
Бахчеводство существовало на Кавказе и в Средней Азии, где «огороды (бахчи) ведутся местным населением, в особенности сартами и узбеками, с большою заботливостью» [56, с.60]. «Дыни занимают первое место и разделяются на ранние, созревающие в начале июня, и поздние, созревающие во второй половине июня. Местные арбузы, дыни с очень сочным, нежным мясом служат пищею для населения или вялятся на солнце, разрезанные полосками (мякоть без коры)» [56, с.60]. Дыни с арбузами выращивались и в Сибири [56, с.60–61].
В знаменитом описании России бахчеводство упоминается лишь в Оренбургской губернии4, «причем в урожайные годы арбузов и дынь сбывается здесь больше чем на 120 000 р.; арбузы и дыни отправляются даже за пределы губернии (в г. Уфу) и за пределы области (в г. Самару). В разведении арбузов и дынь первое место принадлежит казакам» [68, с.248].
Дореволюционная литература оставила описания бахчеводства, которые использовались в советской историографии, где доминировали агрономические издания. Некоторые работы предварялись небольшими историческими введениями. Преобладали небольшие брошюры прикладного характера [55; 57; 78; 85]. Выделяется книга под редакцией кандидата биологических наук А.И. Филова. В ней дана история развития бахчеводства в СССР, показано появление бахчеводства в Средней Азии, Закавказье, Крыму и Прикаспии. Путешественники XVII в. отмечали бахчеводство у татарского населения Астрахани, откуда оно распространялось вверх по Волге, на Дон и Днепр. Арбузы вывозились в центральные районы, где в парниках дворяне (А.Т. Болотов) начинали их выращивать.
Главным районом разведения арбузов становится Нижнее Поволжье от Астрахани до Камышина, где промышленное бахчеводство (село Быковы Хутора и др.) занимает к началу XX в. сотни тысяч десятин земли. Затем промышленные районы возникают на Кубани, в Херсонской и Николаевской губерниях, под Полтавой, Одессой и Оренбургом. «Последний район имел прямую связь со Средней Азией, в частности с Хорезмским ханством, откуда получил исходный сортамент арбузов», которые везли в Самару и Уфу [10].
В последние десятилетия по культуре арбуза было защищено несколько диссертаций [84; 21; 16; 87], вышли сборники [11] и популярно-практические издания для садоводов и дачников [5; 31]. Бахчеводству уделяли внимание специалисты из Челябинской [80] и Оренбургской областей [77]. В городе Камызяк Астраханской области с 2006 г. функционирует музей «Российский арбуз».
Бахчеводство на Южном Урале. О местном бахчеводстве кратко упоминается в обобщающих коллективных трудах по истории Башкортостана [см., например: 27]. Исследователи отмечают, что в первой половине XIX в. в Оренбургской губернии овощеводство было слабо развито, только в ее южных районах выращивали огурцы, арбузы и дыни на продажу [27, с.365].
Поверхностное внимание местных историков к овощеводству и бахчеводству в значительной степени объясняется «плохим» состоянием источников, отсутствием информации (легкодоступной), впрочем, обыденная повседневность всегда слабо фиксируется в документальном наследии, особенно за XVIII в. Но составленная в 1763 г. ведомость об урожае в окрестностях Оренбурга однозначно фиксирует здесь бахчеводство. «В тех же Самарской дистанции крепостях другие земляные продукты, яко то капуста, арбузы, огурцы, дыни, свекла и морковь, хотя и в посеве бывают, токмо де оным урожай плох бывает» [33, с.75–76]. К началу XIX в. в южных уездах Оренбургской губернии бахчеводство стало обычным делом5.
Известный естествоиспытатель Э.А. Эверсман отмечал, что «в южных степях весьма хорошо растут дыни и арбузы, которые сеются не только в огородах, но и в поле, особенно там, где почва уже почти не допускает хлебопашества. Эти поля во всей южной России известны под общим именем бакшей или бакчей, что на татарском означает сад или огород» [88, с.58]. Но бахчеводство проникло далеко на север, до самой Уфы.
Побывавший в Уфе в 1782 г. академик Н.Я. Озерецковский, сопровождавший в вояже по России незаконнорожденного сына императрицы Екатерины II графа А.Г. Бобринского, оставил свои впечатления: «Климат здесь умеренный; на вольном воздухе родятся арбузы и дыни; сады изобилуют яблонями» [45, с.48]. Надо полагать, он все это лично видел.
Бахчеводством занимались местные помещики. Свидетельство этому находим в воспоминаниях С.Т. Аксакова об усадьбе в Багрово (Новое Аксаково Бугурусланского уезда), рубеж XVIII и XIX вв. «В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большею частью померзших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками; все это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькою, морковью и проч.» [2, с.64]. Плоды с помещичьих бахчей украшали дворянские застолья.
Праздничный стол уфимского дворянина отличался обилием кушаний, тут и «откормленная свинья, жареные бараны, поеный шестинедельный теленок, ботвинья со льдом, свежепросольная осетрина, уральский балык, задняя телячья нога, напутствуемые солеными арбузами, дынями, мочеными яблоками, солеными груздями и опенками в уксусе; обед заключился кольцами с вареньем и дутым яблочным пирогом с густыми сливками» [3, с.231; 74].
Дворянские поместья выступали одним из проводников распространения новых культур, как и садово-паркового дизайна. В имениях помещиков были парники, оранжереи, теплицы6. Именно помещичьи хозяйства продвигали границу бахчеводства на север. К середине XIX в. арбузы выращивались под Уфой. В пригородной деревне Миловке, в имении богатейшего предпринимателя и землевладельца И.Ф. Базилевского в 1848 г., отмечал современник, «в тамошней оранжерее растет и виноград двух родов – синий и желтый, и персики, и сливы в довольном количестве (особенно много было всего этого в 47 году); так же бывают там свои ранние арбузы и дыни; а сколько цветов разведено ныне в Миловской оранжерее, – загляденье!» [18, с.105].
Эти сведения оставил редактор неофициальной части издававшихся в Уфе «Оренбургских губернских ведомостей» Иван Прокофьевич Сосфенов (1804–1876). В своей газете он много печатался, составлял статистические обзоры края, вел уфимскую хронику. Именно в его публикациях находим информацию о бахчеводстве.
В августе 1846 г. Сосфенов отмечал, что из Уфы в большом количестве в Оренбург отправляется лук, «который взамен его снабжает нас арбузами» [46]. В специальной статье «Земледелие и садоводство в Оренбургской губернии» в сентябре редактор указал: «В южных степях весьма хорошо растут дыни и арбузы, которые сеются не только в огородах, но и в поле, особенно там, где почва уже почти не допускает хлебопашества» [47]. Затем Иван Прокофьевич побывал на уфимском базаре: «С исходом августа появились здесь оренбургские арбузы, которые величиною своей ныне, хвалиться не могут; к тому же не много и совершенно зрелых. Сотня их продается здесь от 3-х до 8 рублей серебром» [48].
Из статей И.П. Сосфенова видно, что к середине XIX в. арбузы являлись обыденным и общедоступным лакомством жителей Южного Урала, сформировались устойчивые внутригубернские перевозки, а основными центрами бахчеводства, естественно, выступали южные уезды. Так, в 1848 г. редактор опубликовал обзор состояния Оренбургской губернии, где, к примеру, отмечал: «Садоводства в Бугурусланском уезде нет, огородничеством занимаются жители русские, которые сеют на бахчах и арбузы, только мелкие». А в целом из овощей в Оренбургской губернии хорошо родятся «сахарный горох, турецкие бобы, фасоль, морковь, лук, картофель, репа, капуста – простая и цветная, огурцы, горчица, арбузы и дыни; но некоторые из них требуют поливки. Скуднее всех овощами уезд Белебеевский; лучшие огурцы и лук родятся в Уфимском уезде; арбузы в уездах Оренбургском и Бузулуцком; но в последнем более мелкие» [26, с.79, 118].
Собирая живописные сюжеты уфимской жизни, Иван Прокофьевич не мог пройти мимо ежегодного прихода в Уфу обозов с арбузами с юга. В конце 1850 г. «на торговых наших рынках с 15 августа по 15 ч. текущего месяца движение было довольно значительное. Уфимки-плебеянки и окрестные поселянки с поспешностию складывали свое туземное произведение – репчатый лук, в тысячах плетениц, на арбы малороссов-переселенцев, привезших к нам на своих волах-круторогих, с Оренбургской линии, сочные и вкусные арбузы» [49].
В сентябре 1850 г. уфимский базар ломился от арбузов. «Арбузом в 10 коп. сер. любая семья полакомится. Наши мелочные торговки-колотовки, не ограничились базарной площадью с этими вкусными зелеными кругляшами, нет, они перенесли свой табор за город и разгруппировались с грудами арбузов по левому берегу нашей красавицы Белой (совр. пляж Солнечный. – М.Р.). В первую четверть ночной поры интересно смотреть с высот городских на их разведенные огоньки, при свете которых они подводят дневные свои итоги продажи и остатка, утоляя вместе с тем себя и пищею» [50]. То есть приезжавшие с юга арбузники оптом продавали товар уфимским торговкам, которые затем занимались розничным сбытом бахчевых.
В августе 1852 г. редактор жаловался на погоду: «Привыкши лакомиться сочными и вкусными оренбургскими арбузами, мы ныне лишены этого удовольствия – по их водянистости; дынь же порядочных совсем не было» [51].
В 1859 г. выходит «Описание Оренбургской губернии» В.М. Черемшанского [63, с.21]. В нем есть небольшой раздел по огородничеству. Среди овощей выращивались «в уездах: Оренбургском, Бузулуцком, Стерлитамакском, Уфимском – арбузы, дыни и тыквы, – впрочем не повсеместно, а только в селениях подгородных» [86, с.328]. Упомянул автор агротехнику: «Под огурцы же, арбузы, дыни и тыквы гряды делаются наземные, сверх коих насыпается лунками чернозем. Чем толще слой навозу, тем обильнее родятся овощи» [86, с.328].
«В Оренбургском уезде преимущественно разводятся арбузы и составляют довольно значительный предмет промышленности, которая не только кормит целые селения, но разливает даже зажиточность между поселянами. Арбузы возделываются здесь на полях и места, засеянные арбузами, называются бакчами. Земля под посев арбузов назначается всегда новая и обрабатывается с осени, а весной боронится и засевается, – дальнейший уход за бакчами переходит в распоряжение женщин – они их пропалывают и стерегут до самой спелости. Главное условие хорошего урожая арбузов составляют – новая почва и жаркое недождливое лето. Время посева арбузов бывает различное; смотря по наступлению теплого времени – их сеют иногда в первой, а иногда и во второй половине мая месяца; цветут арбузы в июле, а поспевают не ближе Успенья. Десятина, засеянная арбузами, дает иногда дохода от 60 до 80 руб. и более.
Оренбургские арбузы развозятся по всей губернии и продаются, смотря по величине, от 2 до 15 и 20 коп. сер. за штуку, но на месте они покупаются гораздо дешевле – от 1 до 6 р. сер. за сотню» [86, с.329].
Арбузы стали частью народной кухни. Так, в обычаях жителей Миасского завода историк-краевед Руф Гаврилович Игнатьев (1818–1886) отметил, что на свадьбах «осенью, если случится сюда привоз арбузов, то вслед за сладким пирогом подается арбуз» [23, с.254]. В 1870 г. Игнатьев проводил перепись в Орске, «где на бакшах растут в изобилии арбузы и дыни» [24, с.134], в 1869 г. было «собрано 1796 п[удов] и 894 воза арбузов, дынь и подсолнечника», продано 405 возов арбузов [24, с.142].
При подготовке описания Оренбургской губернии в 1870 г. Игнатьев выделял бахчевые культуры (тыквы, арбузы, дыни), «сеются ли эти растения в полях или только в огородах и на бахчах»? Краевед сообщал, что «арбузы и дыни только произрастают в некоторых местностях Орского и Троицкого уезда, на так называемой “новой линии”, но здешние арбузы и дыни хотя и произрастают на открытом воздухе, в бахчах, но они далеко уступают тем, которые родятся около г. Оренбурга, где климат несравненно жарче. Арбузы и дыни с новой линии развозятся в продажу по Орскому, Верхнеуральскому и Троицкому уездам, идут даже чрез г. Челябу в Екатеринбург и чрез г. Троицк и Миасский завод Троицкого уезда в г. Златоуст Уфимской губернии. Там, где вообще в Оренбургской губернии родятся арбузы и дыни, они составляют важную статью дохода тем, что десятина арбузов приносит хозяину дохода от 60 до 85 руб., а дынь от 40 до 70 руб.» [25, с.115]. Игнатьев даже пытался определить площадь под бахчевыми культурами: «…арбузы и дыни, там где они родятся, составляют 1/6 часть противу посева хлебов» [25, с.115]. И вообще бахчи «дают хороший доход, в местах близкорасположенных к городам» [25, с.125].
Руф Гаврилович обращал внимание на доходность бахчеводства, «так что десятина, засеянная арбузами, [приносит] иногда более 80 р., а дынями более 50 руб.» [25, с.118]. «Собственно Оренбургские арбузы расходятся главным [образом] в Оренбурге, идут в гг. Орск и Уфу и вообще во многие места Уфимской губернии, некоторые из промышленников меняют даже арбузы и дыни на лук, доставляемый из Уфимского и Стерлитамакского уездов» [25, с.119]. «Сотня арбузов на месте продается, смотря по величине их, [от] 1 и до 6 р., а дыни от 70 к. до 4 р. 30 к., поштучно же на базарах [от] 3 до 20 к. Новолинейные арбузы и дыни продаются на месте по тем же ценам; но смотря по дальности привоза, барышники не продают их по штучно менее 15 коп. за самый худший арбуз, более же крупный вдвое и втрое» [25, с.119]. Значительная часть урожая использовалась на месте, «всего же более заготовляется впрок соленых арбузов» [25, с.120].
Примерной северной границей бахчеводства являлась Уфа. В 1864 г. учитель М.М. Сомов сообщал, что «здесь мало устроенных садов, зато много огородов, которые содержатся большею частию людьми недостаточными, чтобы произведениями их поддержать свое существование; обрабатывают же их преимущественно женщины. Главные продукты здешних огородов суть: картофель, капуста, редька, морковь, свекла, огурцы и лук; кроме того садят дыни, тыквы и арбузы, но последние мелки и не вкусны. Есть здесь также несколько парников, в которых воспитываются7 ранние огурцы, редиска, салат и арбузы, хотя не крупные, но прекрасного вкуса; крупные же арбузы привозят сюда из Оренбурга, а лучшие яблоки из Симбирска» [52].
Во время переписей торгово-промышленных заведений, как в 1873 г., в Уфе в районе современной улицы Цюрупы существовали парники, теплицы и оранжереи, где выращивались овощи и зелень. Местная дума в 1875 и 1876 гг. заставила вывести на окраины «парниковые огороды, находившиеся с большими складами навоза близ центра города» [67, с.24–25]. Развитие Уфы привело к исчезновению (резкому сокращению) собственного огородничества, которое в основном переместилось в прилегающие селения. В сентябре 1881 г. сообщалось, что «окрестные крестьяне привозят много овощей и дынь; последние являются новинкой, так как раньше крестьяне не заботились о их разведении» [53]. Бахчевые по-прежнему пребывали в любимых лакомствах уфимцев. В 1907 г. пресса жаловалась: «На дорожках Ушаковского парка целыми неделями остается неубранным всякий сор: окурки, какое-то грязное тряпье, арбузные корки, рыбья шелуха и т. п., а затем все это сметается в траву, окаймляющую дорожки парка» [81].
Летом сдавались участки на Верхне-Торговой площади Уфы под торговлю арбузами, яблоками и орехами, «торговля же этими продуктами в других местах верхней торговой площади воспрещается» [82]. Продажу фруктов (арбузов, дынь, яблок, вишни) разрешали временно с возов.
Одновременно с упадком городского огородничества (Уфа стоит на горе и с трех сторон окружена реками, больших площадей под грядки нет) активно развивается пригородное овощеводство у крестьян и помещиков (дачников). Отражением сего стала реклама в 1894 г., которую поместил в прессе подгородный помещик Константин Викторович Стобеус (1854–1917) [о нем см.: 64, с.50–58]. К югу от Уфы при сельце Таптыково в своем фамильном имении (каменный усадебный дом сохранился, в городе тоже было жилье) он организовал «семянное» хозяйство и рассылал почтой «семяна» всевозможных растений (по Уфимской губернии установил цену в 5 коп. за фунт) вплоть до Польши и Финляндии. Стобеус также предлагал удешевленные коллекции на 9 и 40 гряд, составленные из различных культур. Откуда он сам брал семена – неизвестно, предположим, часть мог у себя выращивать.
Среди прочих овощей предлагались семена арбуза следующих сортов: Любимец хутора Пятигорска (красномясый, сорт ранний, по вкусу один из лучших, по 13 копеек за пакет), Железный панцырь (очень крупный, до пуда весом, вкусный, сочный, хорошо сохраняющийся, формы удлиненной, кора темно-зеленая со светлыми полосами), два сорта Слава Украйны (красномясый, ранний, хорошего вкуса, форма овальная, и второй желтомясый), Несравненный желтомясый (ранний, крупный, светлокожий, формы удлиненной, мякоть сочная, очень вкусная), Бельбекский желтомясый (ранний, формы овальной, кора светлая, вкусен и очень плодовит), Камышинский и затем Астраханский (Быковский) (известный распространенный сорт, вкусный, выносливый и хорошо сохраняющийся, лучший бахчевой). Пакетик семян этих сортов шел по 12 или 13 копеек (Несравненный и Бельбекский), а Астраханский – всего по 9 коп. Смесь разных сортов продавалась за 25 коп. за пакет.
Также покупатели могли приобрести семена десяти сортов дынь и смесь, предлагались семена дынь Абрикос Лесевицкого, Смарагд, Скильмапа сетчатая, Апельсинный крем, Мальтийская красномясая, Кавальонская, Мускатная улучшенная, Прескот большая, Канталуп Лионская и Обыкновенная бахчевая. Пакет семян продавался от 12 до 15 и даже 20 (Канталуп) копеек, лишь Обыкновенная дынька шла всего по шесть копеечек [83]. Такой обширный ассортимент показывает интерес уфимских сельчан и огородников к бахчевым культурам, стабильный спрос на арбузы и дыни в городе8.
Но вообще рубеж XIX и XX столетий оказался скуден на информацию о бахчеводстве. Власти новой с 1865 г. Уфимской губернии в официальных отчетах редко его упоминали как второстепенное занятие, да еще существовавшее в основном далеко на юге. Даже мощная уфимская земская статистика практически игнорировала овощеводство и огородничество, тем более бахчеводство. В материалах переписи 1890-х гг. в Стерлитамакском уезде лишь в Федоровской волости в поселке Андреевском указано, что в огородах разводятся свекла, тыквы, арбузы [72, с.674]. В соседнем Белебеевском уезде только у недавних переселенцев-малороссов присутствовали подсолнечник и арбузы, которые «не всегда достигают полной зрелости» [73, с.517].
В губернаторских обзорах Уфимской губернии изредка говорилось об овощах, которые выращивали «большею частию для собственного потребления», сбывавшихся в ближайших городах и торговых селах [39, с.3]. К 1895 г. появился раздел «Садоводство и огородничество» в две строчки, больше говорилось о табаководстве. В 1898 г. отмечалось, что «огородничеством занимаются лишь в окрестностях города Стерлитамака, где сеют главным образом лук, капусту, огурцы, картофель и подсолнечник» [40, с.19].
В обзоре Уфимской губернии за 1899 г. выделяется отдельный раздел «Огородничество». Впервые упоминаются бахчи! «С проведением Сибирской железной дороги в окрестностях Уфы и по линии Самаро-Златоустовской ж. дор. среди местных крестьян необычайно быстро развивается бакчевое огородничество. Разводятся преимущественно огурцы и лук, отчасти картофель. Площадь, занимаемая овощами, достигла в 1899 г. нескольких сотен десятин на надельной и арендной землях. Промысел этот является настолько выгодным, что в некоторых местах до половины посевной площади на полях занимают бакчами. Арендные цены на свежие земли под огурцы возросли до 30 р. за казенную десятину. Продукты свои крестьяне отправляют вагонами в Западную Сибирь, от Челябинска и почти до Омска, лук же нередко идет и далее» [41, с.15]. Расцвет овощеводства в окрестностях Уфы и Стерлитамака отмечали и после, «огуречные бакчи» заняли много новых земель, овощей много дешевых, распространению способствует земство, которое снабжает крестьян семенами, получаемых бесплатно от Департамента земледелия [42, с.14–15].
В конце 1903 г. Губернский статистический комитет начал обследование «крестьянского огородничества по волостям губернии, для чего им затребованы от волостных правлений самые подробные по этому предмету сведения». Результаты обещали опубликовать в следующем году [43, с.10]. И хотя в 1904 г. никаких итогов обследования не появилось, в губернаторском официальном отчете сказано, что разводятся преимущественно картофель, капуста, лук, огурцы, горох, морковь, свекла, репа, редька, дыни, арбузы, тыква, помидоры, бобы, подсолнухи, анис, укроп [44, с.11]. Впервые упомянуты арбуз с дыней, что повторялось в последующем. Бахчевые считались общепризнанной огородной культурой в Уфимской губернии.
Свидетельством достаточно широкого распространения бахчеводства, как важной отрасли овощеводства, стали стихи местного жителя – «хуторянина», опубликованные в начале советской эпохи:
Перегноем, уже приготовленным
Из запаса еще прошлогоднего,
Унавожу с весны поле третие,
Чтоб посеять на нем нечто ценное.
Это ценное, сладкое, вкусное –
Дыни разные Стерлитамакские,
Помидоры, арбузы из Зубовки,
Огурцы – зеленцы Чесноковские…
Все посею, полью, прополю, прорежу –
Позавидует каждый соседушка.
И как выеду в город на ярмарку –
Сторонись, богачи, огородника! [76]
Здесь упомянуты пригородные деревни – Чесноковка, знаменитая огурцами, и Зубово, ныне пригород к югу от Уфы. А поэтический нарратив можно проверить статистическими данными. Летом – осенью 1917 г. состоялась сельскохозяйственная перепись, которая зафиксировала бахчеводство в окрестностях. Например, в Нагаевской волости бахчи были на хуторах при Каменном и Дудкином перевозах через реку Уфимку. На последнем проживал владелец двух десятин бахчей Яким Васильевич Богатырев [60, с.102].
Но попытка «заглянуть» в огороды жителей Зубово в 1917 г. кончилась неудачей. В подворных карточках переписи указаны только (полевые) посадки картошки, сведений об огородничестве нет вообще. Это была почти общепринятая «философия» земской статистики – огород, как и птичники, «личное пространство крестьянина», они не обследовались, за исключением районов товарного овощеводства или садоводства. И в соседнем маленьком сельце Березовке такая же картина – одна полевая картошка9. Но так было не везде. Например, по данным переписи 1917 г., мулла из деревни Аптраково Бушман-Кипчакской волости башкир Сальман Сыробаев держал бахчу в 1,5 дес. [61, с.51–52].
Перепись 1920 г. как источник по бахчеводству. Победив в Гражданской войне, большевики сразу «взялись» за сельчанина, ввели продразверстку, а для обложения крестьянского хозяйства нужны были точные сведения. Летом 1920 г. состоялась уже советская сельскохозяйственная перепись, тут считали все, совслужащие ходили по огородам и заглядывали в курятники. Оказалось, в Березовке проживало семейство 50-летней Ольги Александровны Сперанской (из духовного звания), состоявшее из четырех незамужних сестер (учительниц) и немощного дяди. Они кормились огородом: выращивали картофель (посадили 20 фунтов), а также 50 кочней капусты, 20 корней огурцов, 30 – помидоров, 50 – клубники и столько же малины. Целый аршин земли заняли под лук, имелись морковь и свекла: 48 д. и 32 д. (1 доля = 0,17 г; т.е. 8,16 г и 5,44 г).
Наконец, учительницы выращивали на своем уютном огородике дыни и арбузы (по три штуки)10. В Зубовке арбузы в 1920 г. советские статистики не обнаружили. Но всего в этой деревне, где было 104 русских хозяйства и шесть семей белорусов (беженцев) [62, с.98], в 91 хозяйстве зафиксированы на огородах посадки помидоров, в 68 – капусты, в 14 – огурцов11. Массовое разведение огурцов и помидоров отмечено в Чесноковке, в небольшой деревне Ломоносовке специализировались на выращивании табака. Хотя в ряде селений графы про огороды пустые, сельчане, видимо, не отвечали переписчикам.
Материалы переписи 1920 г. позволяют увидеть реальную величину бахчеводства в России, даже с учетом поправок на последствия экономической разрухи. Кроме того, в итоговых данных приводится только полевой посев, а данные в графе «десятин приусадебного посева» не разбиты на культуры. То есть бахчи на огородах не фиксировались. Но даже полевые (внедеревенские) площади свидетельствуют о больших масштабах бахчеводства в России, информация переписи 1920 г., по сути, отражает еще дореволюционную структуру сельского хозяйства (см. табл. 1).
Таблица 1
Бахчеводство в СССР по данным переписи 1920 г. [19, с.9, 17, 33, 41, 49, 57, 73, 81, 89, 113, 121, 129, 137, 153, 161]
Регион | Бахчи (дес.) | Регион | Бахчи (дес.) |
1. Донская | 11 562,3 | 12. Воронежская | 279,0 |
2. Сталинградская (Царицынская) | 10 244,2 | 13. Ставропольская (инородческая территория) | 187,8 |
3. Ставропольская (без инородческой территории) | 9735,9 | 14. Ульяновская (б. Симбирская) | 115,7 |
4. Кубанско-Черноморская | 8626,1 | 15. Енисейская | 78,5 |
5. Саратовская | 3305,7 | 16. Ново-Николаевская | 70,6 |
6. Самарская | 2399,3 | 17. Омская (русское население) | 21,6 |
7. Астраханская | 2000,2 | 18. Татарская АССР | 3,2 |
8. АССР Немцев Поволжья | 1358,9 | 19. Калмыцкая Авт. Область | 3,1 |
9. Оренбургская | 1189,6 | 20. Малая Башкирия | 1,7 |
10. Челябинская | 662,5 | 21. Курская | 0,9 |
11. Алтайская | 518,3 |
Данные таблицы корректируют устоявшиеся стереотипы нарративных (описательных) источников. Без украинских и новороссийских губерний лидером с огромным отрывом выступал благодатный Юг (Дон, Кубань, Ставрополь) с прилегающим Нижним и Средним Поволжьем, помимо известных арбузных центров (Царицын, Саратов с немецкой автономией и Астрахань), здесь присутствует Самарская и даже Симбирская губернии. Южный Урал в сумме мало отставал от Астрахани, обширное бахчеводство существовало в Сибири. В самом конце списка – Малая Башкирия, существовавшее в 1919–1922 гг. административно-территориальное образование, включавшее юго-восточную часть современного Башкортостана и северные районы Оренбургской области. В Уфимской губернии бахчеводство в полях (промышленное) не зафиксировано, а огороды не учитывались.
Зато в Малой Башкирии статистики сумели издать материалы переписи 1920 г., где находим бахчеводство в трех кантонах! В Кипчак-Джетировском кантоне практически в каждой волости (исключая микроскопическую Сеитовскую возле Каргалов и Семёно-Петровскую) зафиксированы бахчи, общая площадь по кантону составила 423 дес., 1 дес. под бахчами учтена в Юмуран-Табынской волости Ток-Чуранского кантона, а также в шести волостях Усерганского кантона (всего 85 дес.) были бахчи (в Демократической волости целых 36 дес.). Всего по Малой Башкирии зарегистрировано 508 дес. бахчевых культур [59, с.13, 15, 17, 19, 23] (надо 509). Это в полтора раза меньше, чем указано в итогах Центрального статистического управления РСФСР (табл. 1). Неясно, с чем это связано, при обработке подворных карточек по волостям полное совпадение, лишь в 1-й Усерганской волости в деревнях Юлдыбаево и некоторых других у башкир и русских зафиксированы арбузы и дыни, но на огородах12.
При этом надо понимать, что данные переписи 1920 г. сообщают сведения лишь о полевом (промысловом) бахчеводстве, которое за три года Гражданской войны, без сомнения, сократилось (арбузы выращивают в открытых местах, не в глухих горных долинах). Кроме того, перепись населения должна была начаться 28 августа 1920 г. В реальности ее проведение затянулось, и это могло привести к тому, что арбузы, убранные с полей, не были учтены статистиками.
Но даже при этих оговорках можно утверждать, что вдоль границы между современными Башкортостаном и Оренбургской областью лежала полоса сплошного бахчеводства: это нынешние Куюргазинский, Зианчуринский и Кугарчинский районы Башкортостана, Тюльганский, Октябрьский, Сакмарский, Саракташский районы и Кувандыкский городской округ Оренбургской области.
Конечно, бахчи фиксируются не во всех селениях. Так, в Бурзян-Кипчакской волости арбузы растили в башкирских деревнях Кабаново и Кульчумово, в татарских Новых Чебеньках, на русских хуторах Туюмбетовском, Ново-Николаевском, Преснякова, во 2-й Каракипчакской волости бахчеводство полевое зафиксировано в Зерекле-Белекей-Абызово (башкиры), Ново-Алексеевском хуторе (русские), Беркутовском хуторе (мордва), Беркутовой (башкиры), Шелопутово (русские), Ижбердино (русские и мордва)13. Арбузы и дыни выращивали представители всех народов14. Посевы были не очень большие по площади, например, крестьянин деревни Татьяновка Бурзянской волости 64-летний Вавил Макарович Шеин из 15,5 дес. под бахчи отвел 0,42 дес.15 Иногда посевы под бахчевыми приводились в квадратных саженях, что создавало проблемы при подсчетах. Не обязательно этим занимались богатые сельчане. Например, в Мраково в татарской «середняцкой» семье с посевом всего в 2,55 дес. имелись «арбузы и огурцы в поле»16. На товарный характер бахчеводства указывают частые одновременные посевы подсолнечника. Помимо арбузов в подворных карточках упоминаются дыни (в тех волостях также встречаются иные технические и огородные культуры – перец, горчица, табак, помидоры, рыжик, изредка указаны парники).
Выше в итоговых данных не учитываются огородные бахчи, а они тоже были весьма распространены. Например, в башкирской деревне Юлдыбаевой 1-й Усерганской волости 45-летний Лутфулла «Сафиулливич» Баязитов кормил немалую семью: жену (30 лет), двух сыновей (10 и 6), двух дочерей (11? и 1 год) и брата (35 лет). Грамоту знала только супруга. Хозяйство было скромное: рабочая лошадь, корова, два гуся, три курицы, 4,38 дес. посева (3 яровой пшеницы, 1 ячменя, остальное овес, просо, картошка в поле). На огороде Лутфулла в 1920 г. посадил 2 кв. саж. огурцов, 5 кв. саж. арбузов и 5 кв. саж. дынь (всего 0,005 дес. бахчей, по современной системе мер – 0,55 соток)17. Огороды с бахчами тоже занимали немалые площади, приносившие хороший доход.
Бахчеводство у башкир. Ввод нового исторического источника – подворных карточек переписи 1920 г., которые содержат подробную информацию об огородничестве вообще и бахчеводстве в частности, поднимает дискуссионный вопрос об овощеводстве у башкир. В дореволюционной литературе «избитым штампом» являлась аксиома о ленивых и беспечных башкирах, помимо насильно «вбитой» картошки, не любивших копаться на грядках. Этот стандарт продолжила советская историография, показывавшая на примере башкир переход от феодализма прямо к социализму, который и привнес в дикое, отсталое общество достижения передовой цивилизации.
С 1950-х гг. в Башкирии началось становление профессиональной исторической и этнографической наук, что привело к появлению более взвешенных и обоснованных оценок в историографии. Существование овощеводства у башкир к середине XIX в. становится общепризнанным. Например, в Самарской губернии башкиры «на полях» выращивали арбузы, картофель, репу и другие овощи [90, с.113; 6, с.219]. Это признавалось в обобщающей коллективной монографии, с оговоркой, что для южных и юго-восточных башкир Малой Башкирии «разведение огородных культур, и даже картофеля… не имело значительного распространения» даже в 1920-е гг. Широкое распространение овощеводства у башкир относилось исключительно к советской эпохе [12, с.160].
Важное значение имеют немногочисленные труды языковедов, которые показали, что названия огородных культур в башкирском языке имеют автохтонное (тюркское) происхождение: «кавын (кауын)» – дыня, «кабак (кабак)» – тыква или заимствованы у народов Востока. Это позволило авторам утверждать о древности земледелия у башкир, тем более что в их состав вошли выходцы Средней Азии (тезики, сарты)18.
Но историки слабо воспринимали изыскания языковедов, основная работа Э.Ф. Ишбердина о терминах земледелия в башкирском языке и поныне не переведена на русский язык [28]. Ниже приведены выдержки из данной книги19.
«Тюркские народы, в том числе башкиры, с древнейших времен занимались садоводством и огородничеством. Но рацион выращиваемых овощей и корнеплодов в огороде не был так богат. Способы хранения и использования продуктов садоводства в течение длительного времени были неизвестны. Поэтому обычно сеяли овощи, которые хранятся дольше или овощи, пригодные для сушки – самый распространенный способ хранения. К ним относятся, например, репа, редька, тыква, дыни, арбузы, чеснок, лук, горох и другие садовые растения. Культуры, требующие длительного и непрерывного ухода, обычно не высеваются. Потребности башкир в весенних и летних овощах в основном удовлетворяли полевые травы и корнеплоды» [28, б.58].
Тыква (кабаҡ) известна тюркским народам с глубокой древности, упоминается в древнетюркских источниках с X в., тюркская основа «каб» восходит к корню «кабаранкы» (выпуклый). Видимо, с ней связано и происхождение названия дыни «кауен» («Ҡауын – шулай уҡ төрки халыҡтарына бик борондан билдәле үҫемлек. Был һүҙҙәрҙең икеһе лә бер үк ҡабтамырынан яһалған, тик икенсе осраҡта б>ғ>у өндәр күсеше күҙәтелә»). Слово «арбуз» («карбуз») заимствовано из персидского («Ҡарбуз, ҡарпуз, кәрбүз “ҡабаҡтар ғаиләһенә ҡараған ҡаты ҡабыҡлы, ҡыҙыл итле эре йәшелсә бирә торған үҫемлек”») [28, б.64–65].
Обзор историографии приведен в диссертации Р.Г. Гиззатова, где автор в числе арабо-персидских заимствований в башкирском языке выделил слова: «ҡарбуз» («арбуз»), «ҡыяр» («огурец»), «хөрмә» («хурма»), «сөгөлдөр» («свекла»), «кишер» («морковь»), «зәйтүн» («олива, маслина»), «райхан («базелик»), «гөл» («цветок»), «баҡса» («сад», «огород») и др. [17, с.28].
В ряде современных исследований признается наличие бахчеводства у башкир. Например, «порой пытались выращивать арбузы, дыни, огурцы на северо-востоке. Поскольку климат на территории Троицкого и Челябинского уездов довольно суров, то последние культуры не прорастали и нередко побивались морозами» [89, с.147].
Так, признается, что у ряда локальных групп башкир садоводство и огородничество, видимо, «имело место в период сложения сказочного фольклора», есть башкирская поговорка: «Два арбуза под мышками не уместишь» [35, с.176]. С другой стороны, повторяются стереотипы, что якобы картошку башкиры стали массово сажать только после Октябрьской революции и голода 1921 г., а овощи «вошли в пищевую культуру южных и юго-восточных башкир» еще позже [36, с.20–21].
Материалы переписи 1920 г. по Малой Башкирии, зафиксировавшей традиции еще дореволюционного хозяйствования, наоборот, свидетельствуют, что именно Южная Башкирия была районом массового овощеводства и бахчеводства. В Кипчак-Джетировском кантоне полевые посадки арбузов и дынь (не огородные) выявлены в башкирских селениях Кабаново и Кульчумово (Бурзян-Кипчакская волость), Зерекле-Белекей-Абызово и Беркутова (2-я Каракипчакская волость), в Каргале, в Юмагузино одноименной волости, а также в Ново-Гафарово и Сунарчи 6-й Усерганской волости Усерганского кантона. При обработке подворных карточек переписи 1920 г. нами не учитывались огородные посадки, включая бахчи. Но факты по 1-й Усерганской волости (башкирские деревни Юлдыбаево и др.) показывают распространение бахчеводства на придомовых участках. Исследователи и краеведы легко могут установить выращивание арбузов и дынь по подворным карточкам сельскохозяйственных переписей.
В качестве образца выберем несколько деревень той самой Южной Башкирии, где овощи якобы поздно попали на башкирский стол. В 1920 г. на самом юге Бурзян-Кипчакской волости Кипчак-Джетировского кантона Малой Башкирии располагалась деревня Кабаново20 (73 башкирских домохозяйства и два татарских, всего 358 жителей). На 1901 г. селение состояло из 36 дворов с населением в 253 человека, раскинулось оно при реке Сакмаре, имелась деревянная мечеть со школой «татарской грамоты» [79, с.8]. По данным переписи 1917 г., в Кабановке проживали башкиры (75 семей, 382 чел.) [4, с.5]. Оренбургские статистики сумели опубликовать подробные сведения по Оренбургскому уезду, в том числе по Бурзян-Кипчакской волости и деревне Кабановке (вотчинники башкиры, 76 дворов, шесть беспосевных, 382 чел., 2360,5 дес. надельной земли). Всего под посевом было 476,8 дес., в том числе яровая пшеница (382), овес (40,3), ячмень (38,1), просо (14,4) и гречиха (2 дес.). Тогда как наличие бахчей и огородов в Кабановке не зафиксировано, хотя в Бурзян-Кипчакской волости в 1917 г. в 26 из 58 селений они имелись [58, с.26–31]. Как видим, Кабановка была довольно благополучной деревней, где стабильно росла численность жителей, в 1917 г. в среднем на каждое из 70 сеявших хозяйств приходилось 6,81 дес. посева.
Сохранились подворные карточки переписи 1920 г. на все селение из 75 дворов. В 26 хозяйствах имелись бахчи (35%) (см. табл. 2). У всех жителей Кабаново, указанных в таблице 2, огородов не было, кроме Г.Юлдашева (№18). В таблице 2 показаны посевы за деревней, где-то в полях, огороды и посевы на приусадебной пашне в карточках записывались отдельно, у всех ниже показанных домохозяев там ничего не проставлено. Земли же в Кабаново было вдосталь. Площади в подворках указаны либо в казенных десятинах, либо в квадратных саженях (1 дес. = 2400 кв. саж. = 1,09 га). Здесь мы специально не стали их унифицировать, главное было показать сам факт бахчеводства у жителей Кабаново (в карточках записывали бахчи или бакчи). Поэтому в таблице присутствуют десятые доли и дроби. В именах и фамилиях возможны ошибки, записи угасающие. Рабочие лошади считаются старше 4-х лет и до 4-х лет вместе. В посевах рядом с бахчами записаны посадки других культур, что показывает особенности земледелия в Кабаново. Сумма посева включает также зерновые хлеба, которые в таблице не выделены (см. табл. 2).
Первое, на что обращает внимание информация из таблицы 2, – это разнообразие измерения площади обрабатываемой земли. Это указывает, что бахчеводством занимались индивидуально, общинные традиции отсутствуют. Второе, наличие среди «арбузников» в Кабаново лиц старших возрастов, вплоть до 80-летнего Тагира Кабанова. Вполне возможно, что выращивание арбузов и дынь имело здесь давние корни. В большинстве случаев посевы тыквенных культур сочетались с посадкой картошки, изредка высевали подсолнечник. И, наконец, нельзя отрицать товарный характер бахчеводства в Кабаново. Столько арбузов для собственного потребления не требуется. От Кабаново до Оренбурга есть удобная гужевая дорога, стоит только переехать через Сакмару, несколько часов пути на телеге и рынки губернского центра ждут продавцов арбузов.
Таблица 2
Бахчеводство в Кабаново по данным переписи 1920 г.21
Домохозяин, возраст, количество всех членов семьи | Рабочих лошадей | Посевы огородных культур в поле | Всего посева |
1. Ишмухамет(ов) (имя неразборчиво), 28 лет, 3 чел. | 3 | бахча – 1/8 дес., картофель – 1/8 дес., подсолнечник – 1/8 дес. | 2 ¾ дес. |
2. Булдашев Кульмухамет, 62 года, 4 чел. | 2 | бахча – 3 кв. саж., картофель – 3 кв. саж. | 3 дес. 26 кв. саж. |
3. Бикмухаметов Ямалидин, 30 лет, 7 чел. | 2 | бахча – 1/8 дес., картофель – 1/8 дес. | 3,5 дес. |
4. Максудов Гариф, 48 лет, 6 чел. | 1 | бахча – 1/8 дес., картофель – 1/8 дес. | ¾ дес. |
5. Байрамгулов Гизятулла, 60 лет, 5 чел. | 1 | бахча – 1/8 дес., картофель – ¾ дес. | 3 1/5 дес. |
6. Алтынчурин Шамсидин, 33 года, 5 чел. | 1 | бахча – 1/10 дес., картофель – 3/40 дес. | 2 7/40 дес. |
7. Габитов Мухаметдин, 28 лет, 4 чел. | 2 | бахча – 3 кв. саж., картофель – 5 кв. саж. | 3 дес. 13 кв. саж. |
8. Султангузин Карамкулуг, 29 лет, 2 чел. | 2 | бахча – 1/20 дес., картофель – 1/20 дес. | 2 7/20 дес. |
9. Хасанов Ситдык, 55 лет, 3 чел. | 3 | бахча – 5 кв. саж., картофель – 5 кв. саж. | 5 ¼ дес. |
10. Алтынчурин Мифтахитдин, 36 лет, 5 чел. | 4 | арбузы – 7 кв. саж., подсолнечник – 15 кв. саж., картофель – 5 кв. саж. | 6 дес. 27 кв. саж. |
11. Султангузин Ахмет, 55 лет, 8 чел. | 2 | бахча – 3/40 дес., картофель – 3/40 дес. | 4 31/40 дес. |
12. Худайназаров Абдулкарим, 50 лет, 8 чел. | 3 | бахча – 1/10 дес., картофель – 3/40 дес. | 4 27/40 дес. |
13. Кабанов Тагир, 80 лет, 6 чел. | 5 | бахча – 5 кв. саж. | 4 дес. 35 кв. саж. |
14. Султанов Галим, 43 года, 7 чел. | 3 | бахча – 3/40 дес., картофель – 3/40 дес. | 3 13/20 дес. |
15. Кайюпов Абдулгани, 62 года, 7 чел. | 2 | бахча – 3/40 дес., картофель – 1/8 дес. | 2 1/5 дес. |
16. Сергулов Галиулла, 36 лет, 4 чел. | 2 | бахча – 3 кв. саж., картофель – 2 кв. саж. | 3 дес. 5 кв. саж. |
17. Алебаев Загудулла, 50 лет, 8 чел. | 3 | бахча – 5 кв. саж., подсолнечник – ½ дес., картофель – ¼ дес. | 11 дес. 35 кв. саж. |
18. Юлдашев Габадулла, 45 лет, 5 чел. | 1 | картофель – 3/32 дес. на огороде, в поле бахча – 1/8 дес. | 4 дес. |
19. Каримов Давлетша, 49 лет, 6 чел. | 2 | бахча – 2/40 дес., картофель – 3/8 дес. | 3 8/10 дес. |
20. Абдульманов Султан, 65 лет, 5 чел. | 3 | бахча – 1/10 дес., картофель – 1/40 дес. | 1 3/20 дес. |
21. Шафеев Ишмурза, 46 лет, 5 чел. | 1 | бахча – 5 кв. саж., картофель – 5 кв. саж. | 3 дес. 25 кв. саж. |
22. Шафеев Бикмурза, 55 лет, 4 чел. | 1 | бахча – 3/40 дес. | 1 3/40 дес. |
23. Байрамгулов Садрей, 45 лет, 4 чел. | 3 | бахча – 3 кв. саж., картофель – 3 кв. саж. | 4 дес. 16 кв. саж. |
24. Юлчурин Мурзагалий, 60 лет, 8 чел. | 2 | бахча – ¼ дес. | 4 дес. 20 кв. саж. |
25. Султангузин Хабибкулуй, 55 лет, 6 чел. | 6 | бахча – 1/8 дес., картофель – 1/8 дес. | 7 дес. |
26. Юлдашев Мухлисулла(?), 40 лет, 5 чел. | 1 | бахча – 1/8 дес., картофель – 1/8 дес. | 4 дес. |
Бахчеводством занимались люди разного достатка, лишь трое сеяли менее 3-х десятин всего (с зерновыми), но и очень богатых почти не было (единственный – З.Алебаев, №17). Наверняка выращивание арбузов и дынь составляло существенную часть дохода жителей Кабаново. Карточки переписи 1920 г. также показывают, что почти половина сельчан сажала картошку.
Примечательно, что огородничество вообще и бахчеводство в частности «оставляют» слабые следы в исторических источниках. Современники по разным причинам «проходят мимо», не фиксируют бытовую повседневность, обыденность, а потомки затем придумывают мифы…
Земские статистики в 1917 г. не зафиксировали бахчи в Кабаново, а в 1920 г. треть жителей разводили арбузы и дыни. Не могли же они за три года Гражданской войны стремительно освоить новые культуры?! Аналогичная ситуация в Березовке под Уфой. В карточках переписи 1920 г. в графах по огородничеству ничего не вписано, лишь у законопослушных и богобоязненных поповен аккуратно указано все, чем богат их маленький огородик, вплоть до клубники и арбузов. Невозможно поверить, что в подгородном сельце крестьяне по весне не трудились на своих грядках. Скорее всего, в конце августа 1920 г. уфимские статистики, глядя на угрюмых березовских мужиков и баб с вилами, просто махнули рукой на огороды.
В более северных селениях горно-лесной зоны Малой Башкирии в 1920 г., как говорилось выше, бахчи размещали на приусадебных участках. Огороды у башкир и других народов здесь встречались редко, в основном сажали картошку. Овощеводство в сложных климатических условиях требовало высокой культуры земледелия и ресурсов, поэтому встречалось только у зажиточных сельчан.
В уже названной башкирской деревне Юлдыбаево 1-й Каракипчакской волости, которая располагалась на берегу речушки Ассель у подножия довольно высоких гор (современный Зианчуринский район РБ), по переписи 1920 г. бахчеводство зафиксировано только в трех состоятельных домохозяйствах. Кроме упомянутого выше Баязитова (4,38 дес. всего посева), большой огород завел крупнейший посевщик в Юлдыбаево – 52-летний Мутигула Ниязмухаметович Аслаев. У него было 5 рабочих лошадей и 9,25 дес. посева. А на приусадебном огороде росли картофель (1/8 дес.), конопля (3, видимо, квадратных сажени), огурцы (2 кв. саж.), арбузы и дыни (по 5 кв. саж.). Помимо двух башкир, в Юлдыбаево огород держал русский мельник Алексей Михайлович Быков (62 года, 2 рабочих лошади, 5 дес. посева, мукомольная водяная мельница). На грядках у него росли картошка, капуста, огурцы, лук, а также арбузы (5 кв. саж.) и дыни (5 кв. саж.)22.
Выше по течению речушки Ассель в окружении горных лесов расположена башкирская деревня Иткулово. В 1920 г. бахчеводством занимался здесь 35-летний Гариф Зарифович Шаяхметов (безлошадный, 1 дес. посева яровой пшеницы). Он выращивал на огороде картошку (4 кв. саж., видимо), арбузы (5 кв. саж.) и дыни (5 кв. саж.). 43-летний Гайса Суфьянович Сарыгулов (3 рабочих лошади, 3,5 дес. посева), кроме картошки (4 кв. саж.), арбузов (5), дынь (1), также посадил огурцы (1 кв. саж., в карточке записано: «огр.»)23. В соседней 2-й Усерганской волости в 1920 г. зафиксированы посевы тыквы в башкирских селениях Верхне-Мамбетшино (8 дворов) и Яныбаева (6 хозяйств)24.
Таким образом, несмотря на незначительное количество источников, которые надо «по крупицам» разыскивать в архивах и библиотеках, собранные факты позволяют утверждать о старинном бахчеводстве в Уфимской губернии, центральной и южной Башкирии, северной условной границей которого примерно является широта города Уфы. Здесь, помимо привоза арбузов из Оренбуржья, помещики и крестьяне выращивали бахчевые культуры. Развитию бахчеводства способствовал спрос городского населения, почему эти культуры тяготели к пригородным волостям, а также дороговизна перевозки (гужевым транспортом в старину, позднее по железной дороге). Выращивание арбузов и дынь в непростых, часто холодных и дождливых, климатических условиях оставалось рентабельным.
Огородничество вообще и бахчеводство в частности свидетельствуют о достаточно высокой культуре земледелия и наличии рыночного хозяйства. Сельчане достаточно быстро осваивали новые сельскохозяйственные культуры. Так, в XIX в. в деревни Уфимской губернии пришли помидоры, подсолнечник и некоторые другие растения. Даже «экзотическое» для данной природно-климатической зоны бахчеводство прочно укрепилось в деревнях. Во многих деревнях Республики Башкортостан к югу от Уфы сохранилась память о старинном бахчеводстве, исчезнувших местных сортах дынь, как телегами башкиры везли колхозные арбузы на рынок.
1 Здесь и далее текст цитаты приводится в соответствии с современными правилами орфографии, предусматривающими их употребление, с сохранением стилистических особенностей оригинала.
2 Даже в энциклопедических трудах С.А. Козлова и И.А. Кузнецова бахчеводство не стало объектом изучения [29; 32]. Наибольший интерес проявляли историки двух столичных губерний и юга России.
3 Отдельный источник (слабо используемый исследователями) – это материалы прессы, в первую очередь специализированных изданий. Так, с 1860 по 1917 г. Императорское российское общество садоводства издавало в Санкт-Петербурге свое печатное издание. Первоначально журнал выходил под названием «Вестник российского общества садоводства в С.-Петербурге», с 1870 г. он стал называться «Вестник Императорского российского общества садоводства», а с 1882 по 1893 г. – «Вестник садоводства, плодоводства и огородничества». В 1894 г. журнал вернул свое старое название – «Вестник Императорского российского общества садоводства».
4 Слабое развитие огородничества в Уфимской губернии отмечал М.В. Рытов [70, с.9], который в своей книге много места уделил бахчеводству в черноземных и степных губерниях, рассказал о рынке арбузов в Петербурге [70, с.172–173].
5 В описании Оренбургской губернии Иосифа Дебу упомянуто бахчеводство возле Уральска и Илецка: «Арбузы, дыни, тыквы и огурцы родятся здесь без всякого присмотра весьма изобильно» [20, с.158, 172].
6 «Тыквы, дыни и арбузы Оренбургской и Уфимской губерний были знамениты на всю Россию. Семена для посадки и плоды привозились из различных регионов Азии» [91, с.7].
7 Термин пришел в Уфу с ростовскими огородниками, которые принесли культуру лука.
8 Изредка мелькала иная реклама. В 1911 г. семенная торговля Н.П. Осьмака из Чернигова предлагала семена нового сорта арбуза Двухпудовый колосс. «Из всех новых американских сортов, высеянных на наших обширных бахчах, этот арбуз удался лучше других и достиг небывалой у арбузов величины 1 п. 37 ф. Своей редкой величиной он удивлял всех посетителей нашей конторы, где и пролежал почти полтора месяца, вполне сохранив свой вкус» [75, стб.102].
9 Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф.Р-473. Оп.1. Д.5289.
10 НА РБ. Ф.Р-472. Оп.1. Д.989. Карточка №54. Опубликовано: [66, с.27].
11 Подсчитано по: НА РБ. Ф.Р-473. Оп.1 (1920). Д.959.
12 НА РБ. Ф.Р-472. Оп.1. Д.891.
13 НА РБ. Ф.Р-472. Оп.1. Д.790, 794, 795.
14 Бахчеводство полевое зафиксировано в многочисленных русских хуторах, поселках и деревнях. В Мурапталовской волости арбузы выращивали русские в Старом Абиульгане, украинцы на хуторах Веткаловском и Андреевском, мордва на хуторе Тарасова, татары в Ново-Мурапталово (НА РБ. Ф.Р-472. Оп.1. Д.801). В Тогузтемирской волости бахчеводство в 1920 г. существовало на хуторах Баросукова и Заховском, в Михайловке, Ново-Барангулке и Тогузтемире (Там же. Д.807).
15 НА РБ. Ф.Р-472. Оп.1. Д.789.
16 НА РБ. Ф.Р-472. Оп.1. Д.793.
17 НА РБ. Ф.Р-472. Оп.1. Д.891.
18 В наказе в Уложенную комиссию от 26 марта 1767 г. тарханы-тезики сообщали, «что предки этих тарханов были выходцами из Бухары, “самоохотно” переселились в Россию и приняли русское подданство» [14, с.178; см. также: 7].
19 Благодарю Л.Ф. Тагирову за перевод с башкирского языка.
20 Согласно данным из открытых источников, сейчас это селение Кабанкино Саракташского района Оренбургской области, где по переписи 2002 г. татары составляли 55% жителей, башкиры – 42%. Начало истории села восходит к рубежу XVIII–XIX вв., по имени одного из первопоселенцев – Кабана Бикбулатова.
21 НА РБ. Ф.Р-472. Оп.1. Д.790.
22 НА РБ. Ф.Р-472. Оп.1. Д.891.
23 Там же.
24 НА РБ. Ф.Р-472. Оп.1. Д.892.
Об авторах
Михаил Игоревич Роднов
Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: rodnov@ufacom.ru
ORCID iD: 0000-0001-7654-4782
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории и истории культуры Башкортостана
Россия, УфаСписок литературы
- Авдеева Е.А. Полная поваренная книга русской опытной хозяйки или руководство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. СПб.: Издание книгопродавца Д.Ф. Федорова, 1875. 523 с.
- Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука. Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1977. 320 с.
- Аксаков С.Т. Собрание сочинений в 4-х томах. Т.I. М.: Гослитиздат, 1956. 640 с.
- Алфавитный список населенных мест Оренбургской губернии по данным сельско-хозяйственной и поземельной переписи 1917 года. Оренбург, 1917. 41 с.
- Арбузы и дыни / авт.-сост. З.Д. Сыч и др. М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2002. 78 с.
- Асфандияров А.З. Башкирия после вхождения в состав России (вторая половина XVI – первая половина XIX в.). Уфа: Китап, 2006. 504 с.
- Асфандияров А.З. Башкирские тарханы. Уфа: Китап, 2006. 256 с.
- Бакча: Традиции огородничества в культуре народов Урало-Поволжья. V Международный полевой этнографический симпозиум (программа и тезисы). Ижевск, 2024. 56 с.
- Баталин Ф.А. Справочная книга русского сельского хозяина. СПб.: Изд-во А.Ф. Девриена, 1892. 604 с.
- Бахчеводство / под общ. ред. А.И. Филова. М.: Сельхозгиз, 1959. 568 с.
- Бахчеводство в России (проблемы и пути решения). Материалы научно-практической конференции в рамках фестиваля «Российский арбуз» / ред. В.В. Коринец и др. Астрахань, 2003. 85 с.
- Башкиры / отв. ред.: Р.Г. Кузеев, Е.С. Данилко. М.: Наука, 2015. 662 с.
- Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Дополнительный том I. СПб.: Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1905. 478 с.
- Васильев И.М. Податное и военно-служилое население Башкирии по наказам в Уложенную комиссию 1767 г.: В 2-х частях. Ч.2. Уфа, 2000. С.173–292.
- Выскребенцев А.В. История коноплеводства Курского края в документах государственного архива Курской области // Научный вестник Крыма (Симферополь). 2023. №4 (44). С.1–6.
- Гарьянова Е.Д. Особенности технологии возделывания сортотипов столового арбуза: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Астрахань, 2005. 20 с.
- Гиззатов Р.Г. Лексика земледелия в башкирском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Уфа, 2013. 32 с.
- Годовиков Владимир. Из путешествия по Восточной Сибири И.Ф. Базилевского (фрагменты) // Река времени. 2018 / сост. и отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2018. С.102–108.
- Групповые итоги сельско-хозяйственной переписи 1920 года (по губерниям и районам) // Труды ЦСУ РСФСР. Т.XIV, вып. 1а. М., 1926. 360 с.
- Дебу И. Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в нынешнем ее состоянии. М.: Универ. тип., 1837. 230 с.
- Дегтярёв В.М. Агробиологические особенности и технология возделывания столового арбуза в степной зоне Оренбургского Предуралья: дис. … канд. с.-х. наук. Оренбург, 2003. 169 с.
- Елина О.Ю. От царских садов до советских полей: история сельскохозяйственных опытных учреждений, XVIII – 20-е гг. XX в.: в 2 т. Т.2. М.: Эгмонт Россия Лтд, 2008. 486 с.
- Игнатьев Р.Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / отв. ред. В.А. Лабузов; сост. М.И. Роднов. Т.II: 1866–1868 годы. Уфа, 2011. 290 с.
- Игнатьев Р.Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / сост. М.И. Роднов. Т.III: 1869–1872 годы. Уфа, 2011. 302 с.
- Игнатьев Р.Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / сост. М.И. Роднов. Т.X: Переписка, неопубликованные сочинения, работы разных лет. Уфа, 2020. 265 с.
- Исторические портреты. В 5 т. Т.5: Сочинения Ивана Прокофьевича Сосфенова / сост. и отв. ред. М.И. Роднов. Уфа: Альфа-Реклама, 2019. 254 с.
- История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX века / отв. ред. Х.Ф. Усманов. Уфа: Китап, 1996. 520 с.
- Ишбирҙин Э.Ф. Башҡорт телендә игенселек һәм баҡсасылыҡ терминдары. Өфө, 2002. 150 б.
- Козлов С.А. Российские ученые-аграрники XIX – начала XX века: Историко-биографические очерки. М.: Политическая энциклопедия, 2019. 967 с.
- Козлов С.А. «Мама русского огурца»: Екатерина Григорьевна Аверкиева (1852–1918) // Северо-Запад в аграрной истории России / под ред. В.Н. Никулина. Вып. 27. Калининград, 2021. С.83–95.
- Колпакова А.В. Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры, выращиваем в средней полосе. М.: Эксмо, 2013. 222 с.
- Кузнецов И.А. Очерки истории сельскохозяйственной экономии в России: XIX – начало XX века. М.: Издательский дом Дело, 2018. 381 с.
- Материалы по истории Башкирской АССР. Т.IV. Экономические и социальные отношения в Башкирии. Управление Оренбургским краем в 50–70-х годах XVIII в. Ч.2 / сост. Н.Ф. Демидовой, под ред. А.Н. Усманова. М.: Изд-во Академии наук ССР, 1956. 666 с.
- Мельник Л.Ю. Алфавитный указатель статей в научных изданиях Ростовского музея. 2001–2015 гг. // Сообщения Ростовского музея. Вып. XXI. Ростов, 2016. С.356–390.
- Мигранова Э.В., Мигранов Р.А. «Мир – это благоухающий сад» (к вопросу о времени распространения и традициях садоводства и огородничества у башкир) // Традиционный Ислам в России и выдающийся башкирский ученый-теолог просветитель мусульманского мира, шейх Зайнулла Расулев. Уфа, 2018. С.174–178.
- Мигранова Э.В. «Каждому овощу свое время»: традиции огородничества у башкир // Бакча: Традиции огородничества в культуре народов Урало-Поволжья. V Международный полевой этнографический симпозиум (программа и тезисы). Ижевск, 2024. С.20–21.
- Морозов А.Г. Торговое земледелие крестьян Центрального Нечерноземья в конце XVIII – первой половине XIX в. (По материалам Ростовского огородничества): автореф. … канд. ист. наук. Иваново, 2009. 22 с.
- Обзор действий департамента сельского хозяйства в течение пяти лет, с 1844 по 1849 год. СПб.: Типография МГИ, 1850.
- Обзор Уфимской губернии за 1882 год. (Приложение ко всеподданнейшему отчету). Уфа: Типография губернского правления, 1884.
- Обзор Уфимской губернии за 1898 год. Уфа: Типография губернского правления, 1900.
- Обзор Уфимской губернии за 1899 год. Уфа: Типография губернского правления, 1900.
- Обзор Уфимской губернии за 1900 год. Уфа: Типография губернского правления, 1902.
- Обзор Уфимской губернии за 1903 год. Уфа: Типография губернского правления, 1904.
- Обзор Уфимской губернии за 1904 год. Уфа: Типография губернского правления, 1905.
- Озерецковский Н.Я. Путешествие по России (фрагменты) // Река времени. 2015 / отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2015. С.43–50.
- Оренбургские губернские ведомости. 1846. 10 августа.
- Оренбургские губернские ведомости. 1846. 7 сентября.
- Оренбургские губернские ведомости. 1846. 21 сентября.
- Оренбургские губернские ведомости. 1850. 23 сентября.
- Оренбургские губернские ведомости. 1851. 15 сентября.
- Оренбургские губернские ведомости. 1852. 30 августа.
- Оренбургские губернские ведомости. 1864. 19 сентября.
- Оренбургские губернские ведомости. 1881. 26 сентября.
- Орлова Ж.И. Все об овощах. М.: Агропромиздат, 1986. 222 с.
- Осипов В.С. Арбуз, дыня, тыква. М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. 61 с.
- Очерк современного состояния плодоводства, огородничества и виноградарства с виноделием в России и правительственных мероприятий к их развитию. СПб.: Типография В.Ф. Киршбаума, 1914. 138 с.
- Подгорный П.И., Подгорная Л.П. Кормовой арбуз. Воронеж: Воронежское областное книгоизд-во, 1951. 52 с.
- [Поселенные итоги Оренбургского уезда по данным сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г.]. Б. м. и б. г. 153 с.
- Предварительные итоги Всероссийской сельско-хозяйственной переписи. 1920 г. Скотоводство и посевная площадь. Вып. 1. Стерлитамак: Издание Башгосиздательства, 1921. 22 с.
- Роднов М.И. Крестьянство Уфимского уезда по переписи 1917 года. Уфа: НУР-Полиграфиздат, 1997. 192 с.
- Роднов М.И. Сельский мулла башкирского Предуралья // Река времени. 2004 / отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2005. С.25–71.
- Роднов М.И. Население Уфимского уезда по переписи 1920 года: справочник / отв. ред. А.Д. Коростелёв. СПб.: «Свое издательство», 2014. 144 с.
- Роднов М.И. Преодоление региональных границ: южноуральский калейдоскоп генеалогических сведений об известных россиянах // Magistra Vitae. 2018. №2. С.20–25. https://doi.org/10.24411/2542-0275-2018-00024
- Роднов М.И. Уфимские дворяне-помещики на закате Империи. 1900–1917 годы. Уфа: Альфа-Реклама, 2020. 176 с.
- Роднов М.И., Тагирова Л.Ф. Семечки на Южном Урале: начало истории возделывания подсолнечника // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии (Челябинск). 2022. №2. С.5–11.
- Роднов М.И., Тарасова Т.В. Жизнь вокруг храма (история Христорождественской церкви села Березовки) // Река времени. 2023 / сост. и отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2023. С.13–53.
- Роднов М.И. Уфимское купечество во второй половине XIX века: монография. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2024. 362 с.
- Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга / под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского, и под общим руководством П.П. Семенова-Тян-Шанского и В.И. Ламанского. Т.V. Урал и Приуралье. СПб.: Издание А.Ф. Девриена, 1914. 669 с.
- Рытов М. Арбуз // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук. Т.I. Абрикос – Ворсянка. СПб.: Издание А.Ф. Девриена, 1900. Стб.304–305.
- Рытов М.В. Русское огородничество. СПб.: Издательство П.П. Сойкина, 1914. 292 с.
- Рытов М. Выращивание огородных растений на семена. Краткие наставления для крестьянского хозяйства. Пг.: Типография братьев В. и И. Линник, 1917. 119 с.
- Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т.II. Стерлитамакский уезд. Оценочно-статистические материалы по данным местных исследований 1895 и 97 гг. / под ред. С.Н. Велецкого. Самара: Типография Н.К. Реутовского, 1899. 1088 с.
- Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т.IV. Белебеевский уезд. Оценочно-статистические материалы по данным местных исследований 1895–96 года / под ред. С.Н. Велецкого. Уфа: Паровая типо-литография А.П. Зайкова, 1898. 1048 с.
- Свице Я.С. «Вот родина моя…» Литературно-краеведческие записки к произведениям Сергея Тимофеевича Аксакова. Уфа: «Белая река», 2018. 112 с.
- Сельско-хозяйственный листок. 1911. №1.
- Сельско-хозяйственный листок. 1924. №4.
- Симонов А.С. Агротехника столового арбуза в Оренбургской области. Оренбург: Книж. изд-во, 1959. 44 с.
- Сорочинская Г.В. Семеноводство столового арбуза. Сталинград: Книж. изд-во, 1958. 7 с.
- Списки населенных мест Оренбургской губернии. Оренбург: Типо-литография губернского правления, 1901. 251 с.
- Томашевский И.А., Киселёва М.Н., Мошонкин Б.М. Бахчевые культуры в Челябинской области / под ред. П.А. Жаворонкова. Челябинск: Челябин. обл. гос. изд-во, 1952. 120 с.
- Уфимский край. 1907. 24 августа.
- Уфимский листок объявлений и извещений. 1879. 25 июня.
- Уфимский листок объявлений и извещений. 1894. 17 января. Приложение.
- Фурса Т.Б. Арбуз: систематика, эволюция, биология, исходный материал для селекции: дис. … д-ра биол. наук. Л., 1982. 308 с.
- Челобанов Н.В. К высоким урожаям арбузов. Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во, 1964. 48 с.
- Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа: Тип. Оренбургского губернского правления, 1859. [4], IV, 472 с.
- Шефатов И.А. Разработка элементов агротехники кустовых сортов арбуза для условий Волгоградского Заволжья: дис. … канд. с.-х. наук. М., 2005. 201 с.
- Эверсман Э. Естественная история Оренбургского края. Ч. I. Оренбург: В Типографии Штаба Отдельного Оренбургского Корпуса, 1840. [10], VI, 99 с.
- Юсупова Л.Я. Земледелие северо-восточных башкир Оренбургской губернии первой половины XIX века // Аграрное развитие и продовольственная безопасность России в XVIII–XX веках / гл. ред. Г.Е. Корнилов. Оренбург, 2006. С.145–148.
- Янгузин Р.З. Хозяйство башкир дореволюционной России. Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1989. 192 с.
- Янсиярова Г.Ф. Современная флора и растительность усадебных садово-парковых комплексов Оренбургской губернии (на примере старинных усадеб Звенигородского, Тимашевых, Шотт): автореф. дис. … канд. биол. наук. Оренбург, 2013. 22 с.
Дополнительные файлы