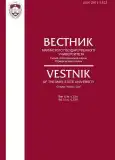The Byzantine Empire as a Great Power of the Middle Ages: foreign policy aspect
- Authors: Suslov E.V.1
-
Affiliations:
- Mari State University
- Issue: Vol 10, No 4 (2024)
- Pages: 327-333
- Section: History
- URL: https://journal-vniispk.ru/2411-3522/article/view/294587
- DOI: https://doi.org/10.30914/2411-3522-2024-10-4-327-333
- ID: 294587
Cite item
Full Text
Abstract
The article proposed for publication is devoted to the study of the peculiarities of the foreign policy of the Byzantine Empire as a great power of the medieval era, that left a scar on the history of world civilization, which it was customary to say about, that it represented the practical embodiment of the Kingdom of God on earth in the person of the empire as the quintessence of Byzantium. The author attempts to determine and assess the impact of the foreign policy pursued by the Byzantine emperors on the duration of its existence for many centuries from the middle of the IV century to the middle of the XV century, as well as on the international relations of his time. As a theoretical and methodological foundation, the author prioritizes the theoretical provisions from the research paper of Thucydides “The History of the Peloponnesian War”, which the idea of a cyclical repetition of international conflicts (wars) was put forward in. The position is also demonstrates that “war was considered as a natural state of international relations, the axis around which politics revolves”. In addition, the theoretical foundation of the proposed article is Thomas Hobbes's idea “about the pre-state condition of mankind as a “war of all against all”, about the emergence of the state from the need of people to establish and ensure peace. In addition to the mentioned provisions, the author gives a thorough description of the concept of “empire” in order to understand the logic of the behavior of the Byzantine Empire surrounded by an aggressive external environment, which was traditional that time. The author's conclusion is that in many of its parameters, the Byzantine (Eastern Roman) Empire can be classified into the category of states called great powers. Such a concept didn't exist at that time, however, by all indications, Byzantium was. The author argues that the spiritual kinship of Byzantium and Russia was ensured by the fact that Russia inherited Orthodox Christianity from the Byzantine Empire. The symbol of Russian statehood, the double–headed eagle, is also of Byzantine origin.
Full Text
Введение
Научная трактовка понятия «великая держава» по меркам историческим получила право на жизнь относительно недавно. Это произошло после завершения войны с Наполеоном и создания системы международных отношений, получившей название «Европейского концерта». В научный оборот это понятие вошло благодаря немецкому историку Леопольду фон Ранке, который в своей работе «Великие державы» дал полную характеристику этому феномену, исходя из сложившихся представлений своего времени. Официальное признание статуса «великих держав» произошло на Венском конгрессе 1814‒1815 гг. В связи с созданием Священного союза этот статус закрепился за такими странами, как Великобритания, Австрия, Пруссия и Россия, в который после окончательного отстранения от власти Наполеона была приглашена Франция. В этом списке Византии не было: она канула в Лету, однако по многим своим параметрам Византийская (Восточная Римская) империя может быть отнесена именно к категории государств, называемых великими державами. Такого понятия в то время еще не существовало, однако, по всем признакам Византия таковой и была.
Согласно устойчиво сложившимся представлениям, как отмечает П. А. Цыганков со ссылкой на Braittard и Djalili, «одним из наиболее широко распространенных видов международной (межгосударственной) стратификации считаются неравные возможности государств защитить свой суверенитет, вытекающие из неравенства их национально-государственной мощи. C этой точки зрения принято различать сверхдержавы, великие державы, средние державы, малые государства и микрогосударства»1.
В рамках предлагаемой статьи важно выяснить признаки великих держав и сверхдержав для того, чтобы соотнести Византийскую империю к какой-либо категории названных держав. Далее П. А. Цыганков продолжает: «Если сверхдержавы выделяются по таким признакам, как способность к массовым разрушениям планетарного масштаба и способность оказывать влияние на условия существования всего человечества, а также невозможность потерпеть поражение от любого другого государства или их коалиции, если в такую коалицию не входит другая сверхдержава, то великие державы оказывают существенное влияние на мировое развитие, но не господствуют в международных отношениях. Они нередко стремятся играть мировую роль, однако реальные возможности, которыми они располагают, ограничивают их роль либо определенным регионом, либо отдельной сферой межгосударственных отношений на уровне региона»2.
Сравнение этих двух категорий дает основание предположить, что в эпоху позднего средневековья (ХIV–ХVI вв.) условий для появления сверхдержав еще не было, потому что существовавшие в тот период государства не обладали возможностями для массовых разрушений планетарного масштаба и влияния на вектор мирового развития, поэтому именно к категории «великие державы» можно соотнести Византию.
Восточная Римская империя – Византия – более тысячи лет была великой державой мира, пребывая в окружении варварских племен. При этом, как отмечал Алексей Макреволит3, главными соперниками жители Византии (в основном это были греки, которые называли себя по-гречески – «ромеями» продолжали считать себя римлянами), видели латинян и турок, оказывавших давление на страну: одних – с запада, других – с востока [1]. Находясь на стыке Запада и Востока, с одной стороны, она была яблоком раздора между враждующими. С другой – своеобразным мостом между ними. Именно поэтому, «ее тысячелетняя история была насыщена бурными внутренними событиями, бесконечными, если не сказать «перманентными», войнами с соседями, интенсивными политическими, экономическими, культурными отношениями со многими странами Европы и Ближнего Востока4.
Оставив глубокий след в истории мировой цивилизации, Византия стала жертвой заговора молчания и, по словам, Джона Норвича5, «наша западная цивилизация никогда не признавала надлежащим образом свою задолженность перед Восточной империей. А ведь не будь этого великого бастиона христианства, то что ждало бы Европу в столкновении с армиями царя Персии в VII в. или с войском багдадского халифа в VIII в.? В культурной области наши долги перед Византией также чрезвычайно велики. После варварских нашествий и падения Рима свет учености был почти полностью погашен в Западной Европе, но на берегах же Босфора древнее классическое наследие продолжало сохраняться. Значительная часть того, что мы знаем об античности – особенно в таких областях, как греческая литература и римское право, – было бы навсегда утрачено, если бы не ученые и переписчики Константинополя» [2, с. 11].
Этот вопрос остается открытым и до настоящего времени. Неизвестно, когда восторжествует историческая справедливость и будет воздано по достоинству великой христианской империи. И за ошибки, и прегрешения ею совершенные и за заслуги перед мировой цивилизацией. Внешнеполитический аспект – один из ключей, открывающих доступ к пониманию имперской сути Византии.
Целью предлагаемой статьи является определение и оценка влияния внешней политики, проводимой византийскими императорами, на продолжительность ее существования в течение многих столетий с середины IV века до середины XV века, а также на международные отношения своего времени. Когда еще не существовало конструкций международного миропорядка, которые начинали устанавливать международные «правила игры».
Методы и способы исследования
В качестве теоретико-методологического основания в предлагаемой статье наиболее приемлемыми могут быть теоретические положения из работ Фукидида (ок. 460 – ок. 400 до н. э.) «История Пелопонесской войны», в которой была выдвинута идея циклического повторения международных конфликтов (войн), что объяснялось жаждой власти и стремлением к господству. И в то же время эти усилия сильных мира сего вызывали сопротивление тех, кто стремился к свободе и независимости. Многочисленные войны, которые вела Византийская империя, укладываются в теоретические максимы Фукидида.
В более позднее время «война рассматривалась как естественное состояние международных отношений, ось, вокруг которой вращается политика»6. Война ассоциировалась с международными отношениями и внешней политикой. По сути, состояние мира представлялось лишь небольшой передышкой между войнами, и у каждого поколения должна была быть своя война. Эта ужасная традиция стала достоянием и наших дней, несмотря на наличие правовой институционализации международных отношений.
Международная политика в древнейшие времена служила предотвращению нападений извне, расширению влияния одних государств на другие, поглощению сильными слабых, заключению союзов против общих врагов, созданию благоприятных условий для торговли. «Страсть к завоеваниям, – писал Н. Макиавелли, – дело естественное и обычное; и тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобрят или же никто не осудит...» [3, с. 307].
Еще одним теоретическим основанием предлагаемой статьи стали идеи Томаса Гоббса «о догосударственном состоянии человечества как «войны всех против всех», о возникновении государства из потребности людей в установлении и обеспечения мира.
Говоря о теоретико-методологическом основании статьи нельзя обойти вниманием трактовку понятия «империя». Как отмечают И. Бусыгина и А. Захаров, «дать определение империи крайне сложно, и поэтому среди специалистов до сих пор нет консенсуса по этому поводу. Основную методологическую трудность представляет собой неоднородная, гибридная природа империи. С одной стороны, любая империя является политической системой, активно действующей в сфере международных отношений, то есть вовлеченной в общемировые процессы. С другой – империи в силу своей автономной структурированности неизменно претендуют на самодостаточность, тяготея к замкнутости и изолированности. Последнее обстоятельство отнюдь не отменяет присущее империям стремление к экспансии, распространение своего правления на все новые земли и народы» [4, c. 40].
Территориальные приращения к империи были результатом актов перманентной аннексии, потому, что «ключевым фактором легитимации империи выступает имперская идеология, которая может иметь различное практическое наполнение, но неизбежно базируется на риторике завоевания и божественного промысла» [4, с. 43]. У всех имперских государств были различные степени стабильности и свой жизненный цикл функционирования. Однако «в целом можно говорить о том, что империи были наиболее устойчивыми политиями до наступления Нового времени» [4, с. 44]. И тем не менее, «в силу ряда структурных особенностей, связанных с принятием управленческих решений, все империи со временем делаются неэффективными и перестают «работать».
Византийская империя в своем развитии прошла этот долгий путь территориальных приобретений и потерь, расцвета и гибели. Так, «при императоре Юстиниане I, названном Великим, был период наивысшего подъема Византийской империи, когда казалось, что удастся возродить Римскую империю в полном объеме и на Востоке, и на Западе. Однако Юстиниан надорвал силы империи»7.
Один из самых известных историков раннего периода Византии Прокопий Кесарийский, который преуспел на службе при дворе императора Юстиниана I, в своих официальных произведениях прославлял императора, его войны и политику, то в «Тайной истории» подвергает Юстиниана и его окружение критике и резкому моральному осуждению, изображая его правление как тиранию, а результаты его политики, расценивая как губительные для государства.
После распада Римской империи на Западную и Восточную (Византию), каждая из частей стала проводить самостоятельную внешнюю политику. Вследствие этого Византия стала уделять меньше внимания западному направлению, переключившись в основном на северное и восточное.
В связи с этим следует особо отметить влияние Византии на Русское государство. Известно, что русские цари претендовали на преемственность Византийской империи. Этому предшествовало бракосочетание в конце Х века князя Владимира и сестры императора Василия II Анны. «Византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, – писал К.Леонтьев, – проникают насквозь весь великорусский общественный организм» [5, c. 121]. При этом Лентьев был убежден в том, что «для силы России необходим византизм. Тот, кто потрясает авторитет византизма, подкапывается, сам, быть может, и, не понимая того, под основы русского государства» [5, c. 121].
Духовное родство Византии и Руси обеспечивалось тем обстоятельством, что Русь приняла православное христианство именно у Византийской империи. Символ российской государственности – двуглавый орел – также имеет византийское происхождение. Только комбинирован с прежним московским гербом – изображением Георгия Победоносца.
После Флорентийской унии и падения Константинополя в 1453 г. «Россия осталась единственным государством, способным представлять православную веру и выступать в качестве ее защитника. После этих событий сознательно формировалась идея преемственности Руси Византийской империи. Усилия в этом направлении нашли отражение в концепции «Москва – Третий Рим» [6, с. 74].
Таким образом, упомянутые теоретические подходы представляют собой основательный фундамент для интерпретации особенностей внешней политики Византийской империи.
Содержание статьи и основные элементы
Само появление Византии на карте мира в начале четвертого века первого тысячелетия имело геополитическую подоплеку. Все началось с решения императора Константина переместить свою столицу из Рима в Византий, греческое поселение, которое располагалось у выхода из Босфора в Черное море. Император объяснял свой выбор велением Господа. Скорее всего, столь радикальное решение было вызвано его тщеславием и амбицией: он рассчитывал оставить после себя великое наследие. Как отмечает Фарид Закария, «такой ход был выигрышным и в политическом плане. Стратегически Константинополь был более удачным пунктом для защиты империи от врагов, главным образом – германских племен и персидских армий» [7, c. 18].
Интуитивные предположения не подвели Константина Великого. Геополитическое положение империи оказалось более чем удачливым. Это место, как отмечает Дж. Норвич, было создано природой в виде великолепной гавани и неприступной крепости – крупные фортификации для города потребовалось возводить лишь со стороны суши, поскольку само Мраморное море защищено двумя длинными и узкими проливами: Босфором с востока и Геллеспонтом (или Дарданеллами) с запада [2, с. 17].
Империя располагалась на пересечении важнейших стратегических путей между Европой и Азией, и это превращало ее столицу Константинополь в ключевой город Средиземноморья и, конечно, лакомый кусок для завоевателей разных мастей.
Сложилось представление, скорее всего гиперболизированное8, что «сама Византия практически не вела захватнических войн, ей постоянно приходилось отбиваться от нападавших на нее варваров, стремящихся отхватить лучшие и более плодородные земли. На протяжении всей истории Византии границы империи постоянно менялись»9.
Ее внешнеполитическая стратегия основывалась на таких базовых принципах, как защита империи от внешних угроз, установление дипломатических отношений с соседними государствами и сохранение своего влияния как центра христианской цивилизации.
Основные направления внешнеполитической деятельности Византии имели следующий характер.
- На западном направлении – выстраивание приемлемых отношений с латинскими государствами, в том числе папством, германскими королями и варварскими королевствами. В 395 году великая Римская империя перестала существовать. Восточной части империи была уготована долгая жизнь, тогда как ее западная часть просуществовала меньше столетия и была покорена варварскими племенами. Активизация внешней политики империи произошла в годы правления императора Юстиниана I (527‒565). Главной целью его внешней политики стало восстановление империи в прежних пределах, для чего было необходимо уничтожить суверенитет варварских королевств, образовавшихся на территории Западной Римской империи.
Условиями, благоприятствующими усилению внешней политики Византии, стали неспособность к объединению варварских королевств для проведения единой внешней политики, а также ослабление Вандальского королевства и усиление проримских партий при дворах вандальского и остготского королей10.
- На северном направлении – противодействие кочевникам Причерноморья (гунны, хазары, печенеги, половцы) и поддержка отношений с Русью. С этой целью использовались не только военные, но и дипломатические ресурсы. Так, император Алексей Комнин (1081‒1118), понимая «весь ужас положения империи и, следуя обычной византийской дипломатической тактике настраивать одних варваров против других, обратился к половецким ханам, которые просили помочь ему против печенегов. Дикие и суровые половецкие ханы Туторкан и Боняк были приглашены в Константинополь, где встретили самый льстивый прием и получили роскошную трапезу. Дав Алексею слово, половцы сдержали его. 29 апреля 1091 года произошла кровопролитная битва: печенеги были разгромлены и беспощадно истреблены» [8, с. 20].
Древнерусское государство состояло с Византией в тесных торгово-экономических отношениях. О том, насколько важным партнером была Киевская Русь, говорит то, как обращались с росами-торговцами: они имели право жить в предместьях Константинополя, на базаре их сопровождала охрана, им предоставлялись исключительные торговые льготы. Византийские императоры явно благоволили к росам, как они называли русских, поскольку рассчитывали на возможность союза, оценивая боеспособность варяжских дружин, нередко нанимавшихся для охраны императорского дворца и возможность христианизации Руси с целью контроля ее военных амбиций.
- Восточное направление требовало борьбы с Персидской империей Сасанидов, а в более позднее время с Арабским халифатом, турками сельджуками и османами. Крещение Руси, помимо обретения духовных скреп, имело и прагматическое значение: «обретение союзника в борьбе против Хазарии. Арабский халифат, к середине X века распавшийся на ряд государств, главным противником из которых для империи являлся Багдадский халифат. При всем негативном отношении к мусульманам признавалось, что арабы ‒ значимый торговый партнер, действия в отношении которого всегда должны быть взвешены»11.
- Южное направление вынуждало обеспечивать контроль над Египтом, Сирией и Палестиной до осуществления арабского завоевания.
Логика действий недругов Византии в общем была проста: аннексия примыкающих к империи территорий, оправдываемая защитой своих границ, характерная для всех империй, вызывала ответные действия, которые сопровождались императивами религиозного характера.
Глубокие раны на теле Византийской империи оставили Крестовые походы, которые вылились в серию религиозных военных походов XI‒XV веков из королевств Западной Европы. Они были инициированы Латинской (Католической) церковью против мусульман, язычников и еретиков. Особенно ужасным для Византии стал четвертый крестовый поход. 13 апреля 1204 г. крестоносцам удалось овладеть Константинополем. Взяв город, «латиняне произвели в течение трех дней невероятный разгром и расхищение всего того, что веками собиралось в Константинополе. Ни церкви, ни церковные святыни, ни памятники искусства не были пощажены» [8, с. 20].
После этого страшного разгрома Константинополя Византии все-таки удалось буквально восстать из пепла, однако, закат великой империи уже был очевиден. Так, Р. Таагепера уподобил траекторию развития империи параболической кривой, следуя которой всякое имперское государство проходит точку максимума территориального расширения, после чего наступает полоса быстрой (или медленной) деградации и последующего краха [4, с. 45‒46]. Подобная перспектива никогда не смущала императоров: они были убеждены, что их эта горькая участь не постигнет. Однако эта тенденция неумолимо в течение многих веков продолжается, доказывая свое право на существование.
Итак, основными принципами византийской внешней политики были:
- умелое использование сильной боеспособной армии, наличие хорошего вооружения и боеприпасов;
- избегание крупномасштабных битв, ограниченных мелкими приграничными стычками передовых отрядов;
- использование ресурсов дипломатии, профессиональное умение на дальних подступах разрешать потенциально возможные вооруженные конфликты;
- вербовка союзников в стане врага, в том числе и во время войны;
- подкуп противников деньгами или богатыми подарками;
- результативная работа по экономическому ослаблению противников;
- искусство обращения бывших противников, если не в друзей, то в союзников.
1 Цыганков П. А. Теория международных отношений. М. : Гардарики, 2003. С. 233‒234.
2 Там же.
3 Алексей Макреволит, являясь учителем и землемером, был представителем наиболее демократических слоев византийской интеллигенции и совсем не идеализировал внешнеполитический авторитет Византии.
4 Курбатов Г. Л. История Византии: (От античности к феодализму). М. : Высш. шк., 1984. С. 3.
5 Джон Джулиус Норвич – один из известнейших британских историков, специалист по итальянскому Средневековью и Возрождению.
6 Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию: учебник для студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Аспект Пресс, 2003. С. 448.
7 Теория и методология истории: учебник для вузов / отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. Волгоград : Учитель, 2014. С. 17.
8 Такое сомнение вызвано тем, что все империи в основе своей имели присущее им стремление к экспансии. В противном случае они не были бы империями.
9 Великая и ужасная Византийская империя: чем мы ей обязаны, и почему ее следы остались в каждом из нас. URL: https://kulturologia.ru/blogs/280918/40676/ (дата обращения: 08.10.2024).
10 Запад во внешней политике Византийской империи. URL: https://studizba.com/lectures/politologiya/istoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-v-srednie-veka/22538-zapad-vo-vneshney-politike-vizantiyskoy-imperii.html (Дата обращения: 08.10.2024).
11 Запад во внешней политике Византийской империи. URL: https://studizba.com/lectures/politologiya/istoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-v-srednie-veka/22538-zapad-vo-vneshney-politike-vizantiyskoy-imperii.html (дата обращения: 08.10.2024).
About the authors
Evgeniy V. Suslov
Mari State University
Author for correspondence.
Email: esuslov@mail.ru
Ph. D. (Political Sciences), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Russian Language, Literature and Journalism, Associate Professor of the Department of Intercultural Communication
Russian Federation, 1 Lenin Sq., Yoshkar-Ola 424000References
- Polyakovskaya M. A. Aleksei Makrevolit o vneshnepoliticheskom polozhenii Vizantii [Alexey Makrelit about the foreign policy position of Byzantium]. Antichnaya drevnost' i srednie veka = Antiquity and the Middle Ages. Sverdlovsk, 1981, pp. 135‒140. Available at: http://elar.urfu.ru/handle/10995/2369 (accessed 06.10.2024). (In Russ.).
- Norvich Dzh. Dzh. Istoriya Vizantii [History of Byzantium]. Trans. from English N. M. Zabolotsky. М., AST Publ., 2014, 542 p. (In Russ.).
- Makiavelli N. Izbrannye sochineniya [Selected Works]. М., 1982, 503 p. (In Russ.).
- Busygina I., Zakharov A. Sum ergo cogito. Politicheskii mini-leksikon [Sum ergo cogito. Political mini-lexicon]. М. , Moscow School of Political Research, 2006, 240 p. (In Russ.).
- Leont'v K. Vizantizm i slavyanstvo [Byzantium and Slavism]. Zapiski otshel'nika = Notes of a Hermit, М., 1992, pp. 118‒132. (In Russ.).
- Gadzhiev K. S. Sravnitel'nyi analiz natsional'noi identichnosti SShA i Rossii [Comparative analysis of the national identity of the USA and Russia]. М., Logos Publ., 2014, 408 p. (In Russ.).
- Zakariya F. Budushchee svobody: neliberal'naya demokratiya v SShA i za ikh predelami [The future of freedom: illiberal democracy in the USA and beyond]. Trans. from English, ed. V L. Inozemtseva, М., Ladomir Publ., 2004, 383 p. (In Russ.).
- Vasilev A. A. Istoriya Vizantiiskoi imperii. Ot nachala Krestovykh pokhodov do padeniya Konstantinopolya [History of the Byzantine Empire. From the beginning of the Crusades to the fall of Constantinople]. SPb., Aleteiya Publ., 200, 581 p. (In Russ.).
- Rogov I. I. Teoriya imperiologii [Theory of imperiology]. М., Knizhnyi mir Publ., 2017, 992 p. (In Russ.).
Supplementary files