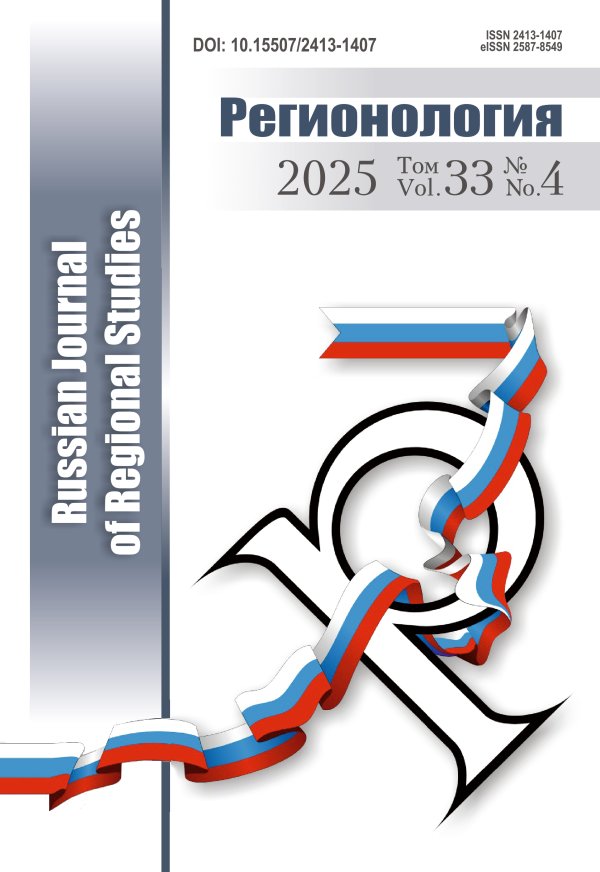Модели взаимодействия социальных субъектов и акторов в обеспечении социокультурной безопасности муниципалитетов
- Авторы: Маркова Ю.С.1, Гордеева С.С.1
-
Учреждения:
- Пермский государственный национальный исследовательский университет
- Выпуск: Том 33, № 3 (2025)
- Страницы: 531-548
- Раздел: Социальная структура, социальные институты и процессы
- Статья получена: 15.03.2025
- Статья одобрена: 15.05.2025
- Статья опубликована: 25.09.2025
- URL: https://journal-vniispk.ru/2413-1407/article/view/283636
- DOI: https://doi.org/10.15507/2413-1407.129.033.202503.531-548
- EDN: https://elibrary.ru/zntncx
- ID: 283636
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. Возрастающие социальная дифференциация и риск усиления межгрупповой напряженности обусловливают острую нехватку на уровне муниципалитетов эффективных механизмов для поддержания общественного согласия и интеграции. Цель исследования – проанализировать взаимодействие политических субъектов и акторов гражданского общества как механизм поддержания социокультурной безопасности в территориальных социумах (на примере Пермского края).
Материалы и методы. Методология эмпирического исследования представлена стратегией кейс-стади. В качестве кейсов выступили шесть муниципальных округов Пермского края. Материалом послужили результаты экспертного опроса представителей органов муниципальной власти, руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций, молодежных и добровольческих объединений в отобранных муниципальных образованиях (всего 32 интервью). Методика экспертного опроса, проведенного в октябре–декабре 2024 г., строилась по классической схеме качественного глубинного интервью. В основу анализа полученных сведений положен метод аналитической индукции, с помощью которого выделены и охарактеризованы модели взаимодействия субъектов и акторов в муниципалитетах.
Результаты исследования. Определены три модели взаимодействия различных социальных акторов в социокультурных проектах, дифференцированные по уровню зрелости партнерства: от ограниченной низовой мобилизации до институционализированного межсекторного партнерства. Выявлена критическая роль общественных организаций и социально ответственного бизнеса как катализаторов низовой активности; значимость систематического диалога и вовлечения локальных лидеров мнений для укрепления доверия, повышения легитимности проектов и обеспечения социальной сплоченности территориальных сообществ.
Обсуждение и заключение. Эффективность взаимодействия различных акторов, участвующих в социокультурных проектах, в значительной степени зависит от социально-экономического потенциала территории, доступности финансовых ресурсов, информационно-коммуникативных технологий и низовой активности местного населения. Общественные организации и социально ответственный бизнес играют важную роль в активизации местных сообществ и создании эффективного взаимодействия с государственными структурами. Результаты исследования могут быть применены для разработки и поддержки социокультурных проектов, а также активизации местных жителей, что в конечном счете будет способствовать укреплению социокультурной безопасности территорий.
Полный текст
Введение
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)1, в России наблюдается тревожная тенденция: институционализированные формы участия, такие как деятельность в политических партиях, профсоюзах и общественных организациях, привлекают лишь 2–4 % населения. Это свидетельствует о низком уровне вовлеченности граждан в процессы, которые могли бы способствовать улучшению их повседневной жизни и решению актуальных проблем на территории проживания. Одной из главных причин подобной пассивности является занятость людей насущными проблемами, что отмечают 44 % опрошенных. Кроме того, сопоставимая доля россиян (43 %) не верит в результативность своей общественной деятельности, полагая, что она не приведет к реальным изменениям. Это создает замкнутый круг: отсутствие доверия в отношении возможности влиять на ситуацию ведет к еще большей пассивности. Однако совместные усилия государственных структур и институтов гражданского общества могли бы стать фундаментальным механизмом, содействующим активизации и углублению участия различных социальных групп в решении социально значимых проблем, что позволит укрепить демократические процессы в современной России.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2 (с изменениями относительно единой системы публичной власти) интенсифицирует взаимодействие различных заинтересованных сторон в обеспечении социокультурной безопасности муниципальных образований. Он устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы формирования местного самоуправления в Российской Федерации, в рамках которых наряду с двухуровневой системой были введены новые формы муниципальных образований – единые городские или муниципальные округа (МО). При этом законодательство позволяет регионам сохранять существующие структуры территориальной организации или выбирать новые, что дает возможность местным органам власти адаптировать имеющиеся подходы к решению социальных проблем с учетом специфических потребностей сообществ и уникальных социально-экономических и социокультурных характеристик.
Ввиду специфики исследуемой проблематики, несмотря на широкое применение в социологической литературе понятия «социальная безопасность» [1; 2], представляется целесообразным использовать дефиницию «социокультурная безопасность», которая понимается как состояние, обеспечивающее защиту, сохранение и развитие социокультурных идентичностей, ценностей и норм, имеющих принципиальное значение для различных социальных групп и сообществ на определенных территориях, а также для государства в целом. Данный концепт включает в себя не только предотвращение воздействия внешних и внутренних социокультурных рисков, но и создание условий для активного взаимодействия социальных акторов, таких как государственные органы, работодатели, бизнес-сообщество, некоммерческие организации и население. Это взаимодействие функционирует в виде механизма преодоления социокультурных угроз, способствуя укреплению сплоченности населения и увеличению его потенциала.
Развитие гражданского общества – неотъемлемая часть стратегии преодоления социокультурных рисков и формирования социальной безопасности. Оно способствует становлению устойчивых социальных институтов, повышению уровня гражданской ответственности и формированию общества на принципах справедливости, солидарности и взаимной поддержки.
Цель настоящей статьи – выделить и проанализировать модели взаимодействия различных политических субъектов и акторов гражданского общества в процессе реализации социального проектирования как механизма поддержания социокультурной безопасности в территориальных социумах (на примере Пермского края).
Обзор литературы
В современной России конструктивный диалог между государственными и гражданскими структурами приобрел первостепенное значение для эффективного управления и общественного благополучия [3]. Уровень вовлеченности и степень доверия граждан государственным институтам [4–6] выступают критически важными индикаторами, позволяющими оценить потенциал развития российского демократического общества [7]. Включение населения в процессы принятия решений, формирования общественного контроля и механизмов социального партнерства способствует снижению уровня социальной напряженности и стабилизации общества [8].
Исследователи указывают, что и формальные структуры (в том числе муниципальное самоуправление, кооперация собственников жилья, партиципаторное бюджетирование), и сформировавшиеся стихийно (такие как сети знакомых и друзей) играют важную роль в росте гражданской активности, а также городском развитии3 [9–11]. Взаимодействие этих структур создает динамичную среду, в которой население получает возможность влиять на процессы, непосредственно затрагивающие его жизнь.
По оценкам зарубежных исследователей [12], гражданские объединения часто возникают на основе низовых инициатив, сплачивающих людей для решения локальных проблем, особенно в условиях, когда традиционные политические структуры не реагируют или оказываются неэффективными.
Вовлечение акторов в социальное проектирование через участие в так называемых инициативах снизу способствует накоплению социального капитала [13], позволяет гражданам активно сотрудничать с государственными учреждениями, повышает доверие к органам публичной власти [14].
Государственные структуры, по мнению Ю. А. Скоковой [15], по-прежнему сохраняют патерналистское отношение к институтам гражданского общества. В частности, последние в значительной степени зависят от государственного финансирования, предоставляемого в виде грантов, субсидий и других форм финансовой помощи, что, ограничивая автономию и свободу действий, вынуждает ряд некоммерческих организаций (НКО) ориентироваться на государственные программы и инициативы.
Важным институтом гражданского общества в современной России выступает территориальное общественное самоуправление (ТОС), которое в условиях ограниченной финансовой и экономической самостоятельности муниципалитетов имеет потенциал для укрепления внутриобщинных связей и содействия более устойчивому экономическому развитию территорий [16]. Так, деятельность ТОС связана с сохранением уникальных социокультурных особенностей, например поддержкой традиционных ремесел, сельскохозяйственных практик и местных кулинарных традиций.
Недавние исследования показывают, что специальная военная операция (СВО) также стала катализатором развития гражданского общества [17]. Это особенно заметно по активности патриотических каналов в Telegram и деятельности лидеров общественного мнения, включая молодежные инициативы, которые в условиях ограничительных политических контекстов используют цифровые платформы как средство коммуникации и инструмент для организации и мобилизации граждан [18].
Вовлеченность граждан в решение социальных проблем на территориях проживания, несмотря на ряд положительных аспектов, характеризуется отсутствием системности, проявляется в формах, которые не обеспечивают устойчивого и долгосрочного участия, реализуется без учета социокультурных особенностей российского общества [19]. Например, участие населения может ограничиваться разовыми благотворительными акциями, которые, имея значимое социальное воздействие, тем не менее не создают условий для постоянной гражданской активности [20]; недостаточны для полноценного диалога между различными гражданскими объединениями и государственными структурами4 [21; 22]. Отсутствие системного подхода к вовлечению граждан в решение актуальных проблем приводит к фрагментарности инициатив и снижает их эффективность.
Таким образом, основной объем источников рассматривает роль общественных объединений и признает его значимость в контексте формирования гражданского общества. Однако способы и проблемы поддержания социокультурной безопасности посредством социальных проектов на малых территориях остаются недостаточно изученными.
Материалы и методы
Концептуализация социокультурной безопасности. В условиях глобализации и культурного многообразия социокультурная безопасность территорий, подразумевающая защиту социокультурных идентичностей и традиций [23], а также формирование благоприятной среды для взаимодействия различных акторов, представляет собой ключевой аспект устойчивого развития последних [24]. В связи с этим отсутствие теоретического осмысления феномена социокультурной безопасности актуализирует обоснование подходов к исследованию данной предметной области, а именно социокультурного и партиципаторного.
Логика первого большое значение придает человеку как субъекту деятельности, носителю ценностного кода культуры сообщества. Культура при этом выполняет функции смыслополагания и придания ценностного содержания всем видам человеческой деятельности5. Состояние культуры, в том числе гражданской, играет решающую роль в поддержании консолидации и сохранении или изменении социальных идентичностей [25; 26].
Партиципаторный подход ориентирован на исследование механизмов формирования социокультурной безопасности; предполагает активное вовлечение различных акторов в процесс принятия решений и реализацию социальных программ; акцентирует внимание на ценностях взаимодействия (доверии, достоинстве, уважении)6, соотнося их с принципами равенства и баланса, что позволяет адекватно оценивать валидность совместной работы7.
Учитывающий территориальную принадлежность и потребности различных групп населения партиципаторный подход способствует преодолению социально-экономических барьеров и стереотипов, создавая благоприятную среду для сотрудничества и эффективного управления рисками8. Кроме того, он позволяет обосновать социальное проектирование как технологию поддержания социокультурной безопасности в обществе и поселенческих общностях. В настоящее время реализация социальных проектов (включая конкурсы грантов, инициативное бюджетирование и волонтерские инициативы) через взаимодействие различных акторов выступает значимым механизмом политического управления и общественного развития.
Методология эмпирического исследования представлена стратегией кейс-стади. На основе целенаправленной выборки, ориентированной на отбор информационно насыщенных случаев, отобраны шесть муниципальных округов (МО9) Пермского края в соответствии с уровнем социально-экономического развития и типом поселения.
Выборка кейсов. По уровню социально-экономического развития представлены высокоразвитые (№ 4, 6), средне- (№ 2, 5) и низкоразвитые, депрессивные (№ 1, 3), территории. Основанием для классификации выступил Рейтинг городских округов и муниципальных районов Пермского края10. По типу поселения выбраны муниципальные округа с преобладающим городским (№ 2–5) или сельским (№ 1, 6) населением.
Методы сбора данных. На первом этапе (во второй половине 2024 г.) проведен экспертный опрос с представителями органов муниципальной власти, руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций, молодежных и добровольческих объединений, занимающихся проектной деятельностью (32 интервью). Критериями отбора экспертов выступили: 1) занимаемая должность и соответствующий ей профиль деятельности; 2) опыт работы в сфере реализации социокультурных проектов; 3) инициирование и принятие управленческих решений по осуществлению социокультурного проектирования. Все респонденты были проинформированы о цели исследования и выразили готовность (согласие) к сотрудничеству.
Процедуры сбора и анализа экспертных интервью. Методика экспертного опроса строилась по классической схеме глубинного интервью в качественной традиции социологии. Путеводитель был разделен на два тематических блока: роль социальных проектов в развитии муниципального округа; характеристика организации социальных проектов в муниципалитетах. Блоки включали серию общих («гранд-тур») и детализирующих вопросов. Также задавались дополнительные уточняющие вопросы. Длительность интервью составляла от 40 мин. до 2,5 ч. С согласия экспертов интервью записывались на диктофон, затем были подготовлены их транскрипты.
Для анализа материалов интервью применялся метод аналитической индукции, в рамках которого представлено движение от первичного описания к классификации данных в категориях и субкатегориях с последующим выявлением связей между отдельными субкатегориями, конструированием кластеров и построением концепций. Общая последовательность работы с данными включала в себя выделение инцидентов (событий из опыта информантов) и подготовку мемо (аналитических примечаний), формулирование на их основе «мини-теории» (модели объяснения, опирающейся на эмпирические данные).
Фрагменты интервью приводятся с указанием в скобках номера муниципального округа и номера транскрипта интервью (МО №, и. №).
Результаты исследования
Были выделены три аналитические модели взаимодействия субъектов и акторов, реализующих социокультурные проекты в исследуемых муниципалитетах:
1) координационная с фрагментарной низовой мобилизацией (МО № 1, 3);
2) координационная с многоакторной низовой мобилизацией (МО № 2, 4, 5);
3) межсекторного партнерства (МО № 6).
Анализ каждой модели предполагает выделение ключевых факторов ее формирования, а также ресурсных возможностей и ограничений.
Координационная модель с фрагментарной низовой мобилизацией характерна для кейсов, представленных глубоко дотационными муниципальными образованиями, социально-экономическое развитие которых заторможено по причине, прежде всего, закрытия крупных промышленных предприятий. В подобных территориальных социумах формируется противоречие, когда, с одной стороны, проектная активность воспринимается как крайне важная в условиях острых финансовых ограничений, а с другой, – кадровый дефицит во всех основных сферах жизнедеятельности не позволяет активно развиваться акторному потенциалу.
Социокультурное проектирование является важной частью жизни данных сообществ. Как отмечают информанты, число успешных социально значимых проектов по предупреждению социокультурных рисков значительно, но их осуществляет лишь ограниченный круг социальных акторов.
Органы местного самоуправления (ОМСУ) осуществляют координирующие функции в выстраивании проектной деятельности в муниципалитете: консультирование и обучение; контроль; селекцию участников проектов по определенным видам конкурсов; организацию работы с подрядчиками. Эти функции закреплены за несколькими отделами в местной администрации, и ее представители подчеркивают важность мобилизации населения «сверху»: «…Моя задача – это инициативу граждан организовать» (МО 1, и. 2).
В одном из муниципалитетов, реализующих данную модель, были закрыты, во-первых, учреждение управления проектной деятельности в связи с дефицитом бюджетных средств, а «…функции социально-культурного проектирования… возложены на отдел культуры» (МО 3, и. 1), во-вторых, конкурс проектных инициатив, позволявший участвовать организациям и физическим лицам, в том числе учиться писать заявки. Исчезновение этих практик, по мнению экспертов, негативно сказалось на проектной активности как самой администрации, так и акторов гражданского общества, поскольку снизило ресурсный потенциал – кадровый, методический, образовательный: «…С семинарами кто только не приезжал: и “Лукойл”, и Ресурсный центр, и Фонд грантов от губернатора... Всегда еще помогал “Соликамскбумпром”» (МО 3, и. 3); «Я составлением заявок мало занимаюсь... Если бы был человек…» (МО 3, и. 4).
И ключевыми акторами социальных проектов на рассматриваемых территориях являются и администрации учреждений бюджетной сферы, НКО (в основном Советы ветеранов и Общества инвалидов), молодежные организации (например, Молодежный парламент, «Движение первых») и недавно созданный Добро.Центр.
В целом подобные институты развиты недостаточно. Других НКО, помимо названных, практически нет. Движение ТОС в одном из рассматриваемых муниципалитетов фактически отсутствует, в другом – распространено шире, однако в обоих случаях срощено с иной практикой – институтом старост: «Не совсем хотят у нас жители организовать этот орган. У нас есть один ТОС в населённом пункте, но там [в ТОС] и староста…» (МО 3, и. 2).
Большую консолидирующую роль в активизации гражданских практик сыграла СВО, побудив инициативных граждан организовывать волонтерские акции и движение в поддержку участников данной операции: «Они плетут сети, собирают гуманитарную помощь» (МО 3, и. 1).
Опорой в проектной деятельности для местной власти в муниципалитетах 1, 3 выступают Советы ветеранов, которые, в свою очередь, ощущают поддержку муниципальных администраций: «Нам и не выжить без помощи администрации. Мы работаем рука об руку» (МО 3, и. 4). Большой опыт деятельности, в том числе управленческой, желание и готовность реализовывать свой потенциал, наличие коллективистских ценностей и заинтересованность в развитии малой Родины выступают важными движущими силами ветеранского движения: «Активные, грамотные, целеустремлённые люди, с большим жизненным опытом. Входят и бывшие руководители различных учреждений» (МО 3, и. 1); «Все волонтёрство в нашей местности основано на пенсионерах» (МО 1, и. 2).
Следует отметить, что в силу как социально-демографических (уменьшения численности населения из-за миграции или естественной убыли), так и экономических (закрытия и оптимизации предприятий и организаций) причин наблюдается тенденция к сокращению численности ветеранского движения и соответственно снижению его ресурсного потенциала: «А сейчас нет в организациях Совета ветеранов. Организаций тоже многих не стало. <…> Только по территориальному признаку остались» (МО 1, и. 3).
Основные причины ограниченной низовой мобилизации в представленных типах муниципальных образований следующие.
Во-первых, в связи с высоким оттоком населения, в том числе более активного и инициативного, повышается концентрация менее ресурсообеспеченных слоев, нередко закрытых к участию в социальных проектах, ориентированных на частные интересы, а также маргинальных групп: «Получше, поактивнее кадры уезжают. <…> Остается, кто употребляет алкоголь. <…> Остаётся такой контингент, где родителям ничего не надо, только свои личные потребности» (МО 3, и. 6).
Во-вторых, повсеместный кадровый дефицит и финансовые ограничения не позволяют институционализировать многие процессы, например вводить должности для специалистов, занимающихся подготовкой проектов, выделять достаточное количество времени на проектную деятельность в организациях или создавать НКО как более эффективную форму работы с проектами: «Если учитель ведет 2 ставки по 40 часов, потому что некому вести, то проектом ему очень сложно заниматься» (МО 3, и. 6); «У нас столько всяких обязанностей, что проекты пишем ночью. Мы просили на Добро.Центр, чтобы нам выделили хотя бы одну ставку» (МО 3, и. 5); «У нас нет НКО. Была задумка, но это ляжет очередным грузом» (МО 3, и. 5).
В-третьих, несмотря на проводимое обучение в сфере проектирования, некоторым инициативным группам по-прежнему недостает знаний и навыков подготовки конкурсной документации: «Мы писали на гранты губернатора, на президентские гранты, пока не получается. Не хватает нам знаний» (МО 1, и. 1).
В-четвертых, в массовом сознании преобладают искаженное восприятие роли социального проектирования в жизнедеятельности территории, патерналистские установки в отношении собственной жизненной позиции: «Многие люди считают, что если я плачý налоги, то я ничего никому больше не обязан, пусть делают администрация, край или Федерация вообще» (МО 3, и. 2). Это указывает на необходимость широкого просвещения, воспитания и создания особой ценностной среды. Освещение социально значимых практик может стать важным условием уменьшения предубеждений среди населения, повышения его заинтересованности в проектных инициативах. При этом большая роль в передаче информации, по мнению опрошенных экспертов, должна отводиться личным контактам и связям, доверительным беседам, т. е. задействованию социального капитала территориальных сообществ.
Координационная модель с многоакторной низовой мобилизацией характерна для муниципальных округов, имеющих более высокий уровень социально-экономического развития за счет функционирования предприятий крупной промышленности, включая нефтегазодобывающую отрасль и электроэнергетику. Другими словами, высокий ресурсный потенциал территорий во многом обусловливает более развитую сеть акторов гражданского общества.
С точки зрения роли ОМСУ данная модель похожа на предыдущую: представители местной власти осуществляют преимущественную координацию проектной деятельности в местных сообществах. При этом внедряются различные инновационные подходы, например впервые социальные проекты реализуются на конкурсной основе.
Проекты осуществляются с участием различных ведомств и охватывают основные сферы жизнедеятельности населения: семью, образование и профориентацию, здравоохранение, спорт и здоровый образ жизни, культуру и духовность, доверие к власти, безопасность: «Мы создали рабочие группы, каждый по своему направлению. <…> Потом мы вместе садились у главы, мозговым штурмом обсуждали» (МО 2, и. 2). В другом округе планируется изменить форму работы по отбору проектов, организовав предварительные обсуждения с их инициаторами и отбор наиболее важных: «Мы с общественными организациями и ТОСами подумаем, действительно ли важно именно этот проект реализовывать» (МО 5, и. 2).
На одной из территорий функционирует, а на другой планируется возобновить муниципальный конкурс на финансовую поддержку НКО. И там, и там действует конкурс, финансируемый из местного бюджета в целях поддержки небольших гражданских инициатив: «Могут участвовать некоммерческие организации, как бюджетные, так и небюджетные. Последние два года в основном проекты с тематикой СВО» (МО 5, и. 2). Кроме того, имеются отдельные местные конкурсы для ТОС. В целом подобные незначительные проекты помогают накапливать потенциал, который затем может быть реализован на более высоком уровне.
Крупные проекты, инициируемые ОМСУ в данных муниципалитетах, характеризуются большим количеством акторов, консолидирующихся вокруг решения местных проблем: «Они во все наши рабочие группы входят, где-то даже свою инициативу проявляют. Вот проект “Открывай интересное новое”: там краеведы, Совет ветеранов, благочиние» (МО 2, и. 2). Большую поддержку при этом оказывают крупные промышленные предприятия: «В Управлении культуры есть конкурс проектов при поддержке компании “Уралкалий”» (МО 4, и. 1).
Рассматриваемым муниципалитетам присуща более развитая сеть институциональных практик гражданского общества, т. е. большее число НКО и ТОС. В одном из них функционирует Фонд поддержки гражданских инициатив: «Вечный фонд поддержки. Мы стараемся работать командой, независимо: или ты инвалид, или ветеран, спортсмен, молодой ученик» (МО 5, и. 3). Активно создаются структуры, координирующие работу с детьми и молодежью (Молодежные парламенты, Молодежные центры, движения школьников): «Молодёжный центр открылся… Они уже провели маленький конкурс, чтобы молодежь могла дальше участвовать в проектах Росмолодёжи» (МО 4, и. 1).
Эффективность взаимодействия и участия акторов ограничивается проблемами, свойственными и предыдущей модели: кадровым дефицитом, недостатком знаний и мотивации к участию в социокультурном проектировании. Существующие НКО не всегда готовы проявлять нужную активность, а местным администрациям не хватает кадровых ресурсов, чтобы эту активность направлять: «Сотрудника, который при муниципалитете будет писать проекты, нет. Мы проводим работу с НКО, идеи подаем, приглашаем сотрудников Фонда грантов губернатора. <…> Но НКО не очень активны» (МО 5, и. 2). Кроме того, как отмечают опрошенные эксперты, активность молодежи очень низка. Изменение этой ситуации связывается с создаваемыми молодежными организациями.
В целом не хватает поддержки местных НКО, включая общественное пространство для встреч их представителей, а также ресурсного центра. Серьезным ограничением для ТОС является отсутствие статуса юридического лица, что не позволяет подавать заявки на определенные виды конкурсов. В ряде случаев ТОСы не готовы к проектной деятельности, могут демонстрировать патерналистский настрой: «Привыкли наши общественники финансовую помощь просить только у администрации. <…> А чтобы подавать проекты на конкурсы грантов губернатора и президентские, нужно юридическое лицо. <…> У нас из 54 ТОСов ни одного со статусом юридического лица» (МО 5, и. 2).
Модель межсекторного партнерства присуща муниципальному округу, обладающему сравнительно еще более высоким уровнем социально-экономического развития, и отличается довольно сложной структурой (рисунок). Рассматриваемый округ характеризуется пространственной близостью к краевому центру – г. Перми и выраженной полиэтничностью. На его территории располагаются исключительно сельские населенные пункты.
Выделенной модели свойствен высокий уровень институционализации социальных практик взаимодействия акторов социокультурного проектирования. Опираясь на идеи Э. Гидденса11, можно утверждать, что институционализированные практики создают прочную основу для социальной интеграции органов власти, гражданского общества и бизнеса в совместном решении локальных проблем. В дискурсе как представителей ОМСУ, так и лидеров гражданских объединений звучат идеи о признании социокультурного проектирования в качестве механизма создания партнерских отношений и социальной консолидации в поселенческих общностях: «Можно путём общественной активности выстраивать взаимоотношения с властью, с депутатами, с администрацией, с бизнесом» (МО 6, и. 1); «Люди собираются и выбирают, что им важнее. <…> Затем, например, обращаются к руководителю ТОС. А дальше они переходят с помощью данных субъектов на более высокий уровень и получают поддержку» (МО 6, и. 2).
Поскольку описываемый муниципальный округ объединяет сельские населенные пункты, где социальные связи очень плотные, лидерами общественности реализованы возможности транслировать идеи по проектным инициативам и при этом активно вовлекать различные категории населения: «Начали работать с населением точечно, то есть в каких-то направлениях поднимать детей, вовлекать учителей, работать с ветеранами, с молодёжью» (МО 6, и. 1). На ранних этапах мощным фактором активизации населения выступило задействование этнической идентичности, клановых, родственных связей, дающих ресурс поддержки и доверия: «…там сильная национальность, там татары, башкиры, там очень сильные родословные, четыре рода крупных, которые очень много родственников объединяют, кворум доверия такой» (МО 6, и. 1).
Рисунок. Модель межсекторного партнерства
Figure. Cross-sector partnership model
В округе сформировались тосовское и ветеранское движения, в составе которых есть институционально сильные организации, имеющие юридический статус, что открывает широкие перспективы для участия в конкурсах грантов, повышает самостоятельность в принятии управленческих решений, например в выборе подрядчика: «Мы активность ТОСов начали вести, и эта активность пошла по всем соседям. Они (населенный пункт. – Примечание автора) у нас сейчас как стажировочная площадка, туда даже приезжают с разных регионов увидеть, как работать с населением» (МО 6, и. 1).
Благодаря проектам развиваются общественные объединения. Так создавались, например, отцовское (на основе проекта по созданию хоккейной команды) и материнское (на основе проекта по обучению кулинарии) движения, которые затем инициировали новые социокультурные проекты, поддерживающие местные сообщества. Создание и/или обновление состава молодежных организаций (Молодежного парламента, Молодой гвардии и др.) позитивно отразилось на молодежной политике.
Своеобразной квинтэссенцией институционализации партнерских практик выступило открытие Ресурсного центра поддержки гражданских инициатив физических и юридических лиц. Примечательно, что идея его создания рождалась одновременно и во властных кругах, и среди лидеров гражданской общественности: «Мы пришли к идее, что нужен ресурсный центр. <…> Администрация тоже понимает, что физическому лицу они не могут помочь. А ТОСу – тоже не всегда. <…> У нас 55 ТОСов было, сейчас 59, и начали даже закрываться… И они понимают, что им нужна организация, которая будет рядом идти» (МО 6, и. 1).
Спектр задач Ресурсного центра охватывает выявление и развитие лидеров – инициаторов социального проектирования; выстраивание взаимодействия между различными акторами; обучение их написанию конкурсных заявок и ведению проектов; внутреннее и внешнее экспертное сопровождение и мониторинг, в том числе привлечение экспертов из других регионов, бухгалтерскую и юридическую помощь; оказание грантовой поддержки путем создания редкой для России практики трехстороннего партнерства между крупным фондом, администрацией округа и собственно центром: «Они [фонд] увидели наше рвение, поняли наш опыт работы, очень сильный. Мы убедили администрацию зайти в финансовое взаимоотношение с фондом. <…> Мы получаем субсидию от администрации… от фонда и выдаём гранты уже внутри своего муниципального округа» (МО 6, и. 1).
Есть идеи по развитию сети аналогичных центров, которые будут «вырастать» из конкретных проектных инициатив, имея соответствующую специализацию.
Обсуждение и заключение
Выделены три модели взаимодействия акторов в рамках социокультурных проектов: фрагментарная низовая мобилизация с ограниченными ресурсами и кадровым дефицитом; многоакторная низовая мобилизация с активным вовлечением населения и инновационными подходами; межсекторное партнерство с высоким уровнем институционализации и поддержкой гражданских инициатив.
Эффективность реализации социокультурных проектов во многом определяется социально-экономическим контекстом территории, доступностью финансовых средств, информационно-коммуникативных технологий, а также уровнем активности местного населения. Анализ существующих моделей взаимодействия свидетельствует о необходимости перехода от патерналистской модели, когда органы власти выступают в роли ключевого инициатора и исполнителя социальных проектов, к партиципаторной, которая предполагает активное вовлечение в проекты различных групп населения и других заинтересованных акторов.
Несмотря на высокий уровень институционализации межсекторного взаимодействия, в сфере социокультурного проектирования имеются определенные барьеры и сложности. Отметим в качестве основных недостаточность знаний и компетенций населения и организаций в части реализации проектов, выстраивания партнерских отношений, а также сложность вовлечения в проектную активность некоторых групп населения, например работающей молодежи.
Адаптация моделей взаимодействия различных социальных субъектов и акторов в ходе социального проектирования приобретает особую значимость в контексте обеспечения социокультурной безопасности в России. Регулярные встречи органов местного самоуправления, некоммерческих организаций и граждан могут стать основой для решения актуальных проблем, а также для формирования долгосрочных стратегий развития, учитывающих национальную, культурную и социально-экономическую специфику территорий. Привлечение лидеров мнений (педагогов учебных заведений, представителей различных конфессий, ветеранов военной службы, предпринимателей) при этом не только повысит доверие населения, но и значительно усилит эффективность работы.
Важную роль в активизации низовой активности на территории округов, на наш взгляд, играют такие акторы, как общественные организации и социально ответственный бизнес. Первые, обладая глубоким пониманием потребностей и интересов местного населения, становятся связующим звеном между гражданами и государственными структурами. Второй может не только финансировать социальные проекты, но и активно участвовать в их реализации, предоставляя необходимую ресурсную поддержку.
Несмотря на некоторые особенности, аналогичные проблемы актуальны для большого числа регионов России. Модели эффективного взаимодействия акторов в социокультурных проектах могут быть успешно тиражированы на других территориях, содействуя формированию устойчивых и взаимовыгодных отношений между социальными акторами в сфере социального проектирования.
Ограничениями исследования можно считать следующие обстоятельства. Хотя достаточная устойчивость выделенных моделей и была зафиксирована благодаря систематической повторяемости инцидентов и категорий в процессе анализа, расширение перечня критериев для отбора кейсов или ориентация на отбор уникальных случаев гипотетически может привести к выявлению иных специфических паттернов взаимодействия субъектов проектной активности. Кроме того, стратегия кейс-стади с целью повышения надежности данных требует применения техник триангуляции, которые пока в полной мере не задействованы. На следующих этапах научно-исследовательских работ будет использована триангуляция данных, методов и информантов посредством анализа документов, массового опроса населения, формализованного опроса и глубинных интервью с участниками проектной деятельности, а также фокус-групп.
1 Гражданское общество и власть [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/grazhdanskoe-obshhestvo-i-vlast (дата обращения: 03.05.2025).
2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. С. 3822.
3 Scott J. Structure and Social Action: On Constituting and Connecting Social Worlds. Bingley: Emerald Publishing; 2022. 120 p.
4 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. М.: Академический Проект; 2005. 528 с.
5 Лапин Н.И. Сложность становления новой России. Антропосоциокультурный подход. М.: «Весь мир»; 2021. 264 с.
6 Creighton J.L. The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement. San-Francisco: Josey Bass, A Wiley Imprint; 2005. 261 p.
7 Партисипаторный подход в повышении качества жизни населения: монография. Под общ. ред. Н.М. Римашевской, Н.Н. Ивашиненко. Н. Новгород; М.: Изд-во Нижегородского госуниверситета; 2013. 268 с.
8 Riswan M., Beegom B. Participatory Approach for Community Development: Conceptual Analysis. In: COVID 19 Pandemic and Socio-Economic Issues: An Experience of Sri Lanka. Faculty of Arts and Culture, South Eastern University of Sri Lanka: Department of Economics and Statistics. 2021. Pp. 136–146. Available at: https://clck.ru/3N2kbA (accessed 03.05.2025).
9 Муниципальные образования закодированы и представлены в статье под номерами.
10 Рейтинг городских округов и муниципальных районов Пермского края по уровню социально-экономического развития и уровню развития рынка недвижимости по состоянию на 31 декабря 2019 года [Электронный ресурс]. ООО «Инвест–аудит». Пермь; 2020. URL: https://clck.ru/3LYmhu (дата обращения: 13.07.2025).
11 Гидденс Э. Устроение общества...
Об авторах
Юлия Сергеевна Маркова
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: julyamarkova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-6271-9403
SPIN-код: 9951-6137
ResearcherId: ABG-6689-2021
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии
Россия, 614068, г. Пермь, ул. Букирева, 15Светлана Сергеевна Гордеева
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Email: SSGordeyeva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5309-8318
SPIN-код: 2145-2519
Scopus Author ID: 57208303487
ResearcherId: AAJ-6327-2021
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии
Россия, 614068, Россия, Пермь, ул. Букирева, 15Список литературы
- Подольская Е.А., Назаркина В.Н. Социальная безопасность: сущность, угрозы и пути обеспечения. Социологические исследования. 2016;(11):133–139. URL: https://www.socis.isras.ru/files/File/2016/2016_11/Podolskaya.pdf (дата обращения: 10.02.2025).
- Антонова Н.С., Бадараев Д.Д., Бадонов А.М. Обсуждение вопросов социальной безопасности и социальной защиты населения в современных условиях. Вестник Института социологии. 2021;12(1):188–194. https://doi.org/10.19181/vis.2021.12.1.705
- Ильичева Л.Е., Паршина Е.В., Лапин А.В., Ильичева М.В. Взаимодействие государства и гражданского общества: анализ оценок эффективности политики социального партнерства на основе опросов москвичей. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2024;(4):315–332. https://doi.org/10.14515/monitoring.2024.4.2601
- Зубок Ю.А. Изменяющаяся социальная реальность: рефлексия теоретических и эмпирических аспектов социологического исследования молодежи. Научный результат. Социология и управление. 2022;8(3):10–30. https://doi.org/10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-2
- Agamagomedova S., Gamidullaeva L. Trust Creation as a Factor for the Solidarity of Government, Business, and Society in Regional Innovation Development. International Journal of Innovation Studies. 2025;9(1):60–76. https://doi.org/10.1016/j.ijis.2024.10.002
- Фролова Е.В., Рогач О.В. Доверие как фактор развития кооперации в России. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023;(6):35–57. https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.6.2405
- Беляева Л.А., Ракова К.В. Российское общество в 1990–2023 гг.: опыт эмпирической оценки социальной структуры, качества жизни и социально-психологического климата. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2025;(1):29–56. https://doi.org/10.14515/monitoring.2025.1.2658
- Якимец В.Н., Никовская Л.И. Механизмы и принципы межсекторного социального партнерства как основа развития общественно-государственного управления. Власть. 2018;26(4):15–25. URL: https://clck.ru/3NEqxB (дата обращения: 10.02.2025).
- Желнина А.А., Тыканова Е.В. Формальные и неформальные гражданские инфраструктуры: современные исследования городского локального активизма в России. Журнал социологии и социальной антропологии. 2019;22(1):162–192. https://doi.org/10.31119/jssa.2019.22.1.8
- Плотникова М.А. Формирование новых социально-групповых общностей на территории муниципального образования с низкой инициативностью граждан в условиях проведения СВО. Наука. Культура. Общество. 2023;29(2):18–27. https://doi.org/10.19181/nko.2023.29.2.2
- Crossley N. A Dependent Structure of Interdependence: Structure and Agency in Relational Perspective. Sociology. 2022;56(1):166–182. https://doi.org/10.1177/00380385211020231
- Crotty J., Ljubownikow S. Adapting to Survive or Thrive? Civil Society, the Third Sector and Social Movements in ‘Post-Soviet’ Spaces: An Introduction to the Themed Section. Voluntary Sector Review. 2024;15(1):3–11. Available at: https://bristoluniversitypressdigital.com/view/journals/vsr/15/1/vsr.15.issue-1.xml (accessed 10.02.2025).
- Jungsberg L., Copus A., Herslund L.B. et al. Key Actors in Community-Driven Social Innovation in Rural Areas in the Nordic Countries. Journal of Rural Studies. 2020;(79):276–285. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.004
- Мухаметов Р. Почему граждане доверяют правительству? Истоки политического доверия в современной России. Социологическое обозрение. 2023;22(3):196–218. https://doi.org/10.17323/1728-192x-2023-3-196-218
- Скокова Ю., Рыбникова М. Размер некоммерческого сектора в регионах России: факторы различий. Журнал социологии и социальной антропологии. 2022;25(1):70–102. https://doi.org/10.31119/jssa.2022.25.1.3
- Соколов А.В., Фролов А.А. Практики низовой гражданской активности в Ярославской области: проблемы и результаты реализации. Регионология. 2024;32(3):463–483. https://doi.org/10.15507/2413-1407.128.032.202403.463-483
- Макаренко К.М. Векторы трансформации гражданской активности российской молодежи в первой трети XXI века. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2024;29(5):187–198. https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2024.5.16
- Каравай А.В. Социальный капитал российского общества: год в условиях специальной военной операции. Terra Economicus. 2023;21(4):91–105. https://doi.org/10.18522/2073-6606-2023-21-4-91-105
- Пантин В.И. Российское общество начала XX и начала XXI вв.: проблемы и риски. Социологические исследования. 2019;(11):120–130. https://doi.org/10.31857/S013216250007456-4
- Микиденко Н., Сторожева С. Доверие как ресурс развития благотворительной деятельности. Журнал исследований социальной политики. 2024;22(3):433–448. https://doi.org/10.17323/727-0634-2024-22-3-433-448
- Горшков М.К., Тюрина И.О. Консолидация российского общества в условиях современных вызовов: историко-социологический и ценностно-мировоззренческий контексты. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2023;23(4):720–739. https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-4-720-739
- Botchway T.P. Understanding the Dynamics and Operations of Civil Society in the 21st Century: A Literature Review. Journal of Politics and Law. 2019;12(1):108–121. https://doi.org/10.5539/jpl.v12n1p108
- Ракова К.В. Уровни и компоненты социальной идентичности современного российского общества. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024;24(2):510–522. Available at: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/39940 (accessed 10.02.2025).
- Wu H. Redefining Concepts of Nation and National Security and Establishing their Models for the New Era. Journal of Safety and Sustainability. 2025;2(1):45–58. https://doi.org/10.1016/j.jsasus.2024.12.002
- Bidwell D., Schweizer P.-J. Public Values and Goals for Public Participation. Environmental Policy and Governance. 2021;31(4):257–269. https://doi.org/10.1002/eet.1913
- Grunow D., Sachweh P., Schimank U., Traunmüller R. Social Integration: Conceptual Foundations and Open Questions. An Introduction to this Special Issue. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 2023;(75):1–34. https://doi.org/10.1007/s11577-023-00896-1
Дополнительные файлы