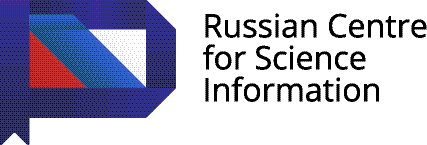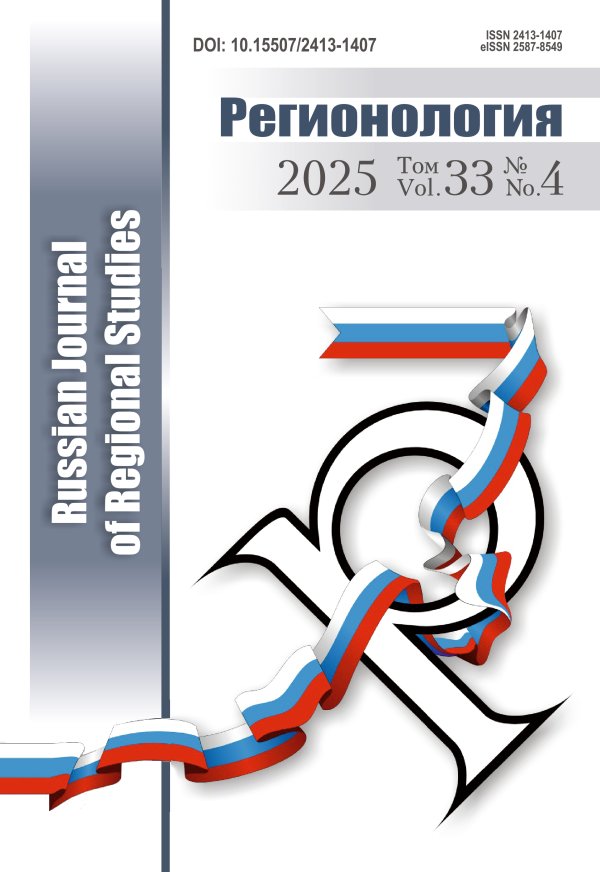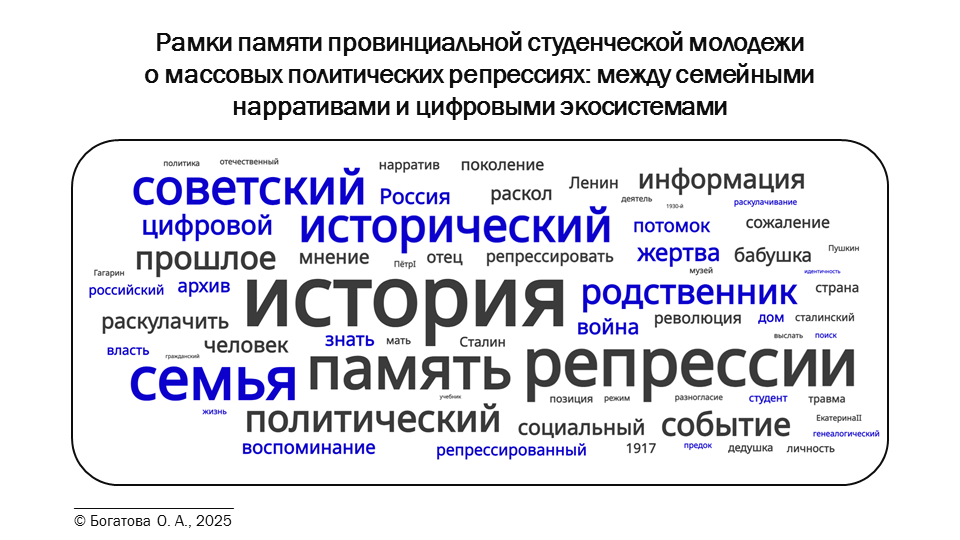The Frames of Provincial Student Youth's Memory of Mass Political Repression: between Family Narratives and Digital Ecosystems
- Authors: Bogatova O.A.1
-
Affiliations:
- National Research Mordovia State University
- Issue: Vol 33, No 4 (2025)
- Pages: 715-734
- Section: Social Structure, Social Institutes and Processes
- Submitted: 06.04.2025
- Accepted: 15.05.2025
- Published: 24.12.2025
- URL: https://journal-vniispk.ru/2413-1407/article/view/286555
- DOI: https://doi.org/10.15507/2413-1407.129.033.202504.715-734
- EDN: https://elibrary.ru/cprtva
- ID: 286555
Cite item
Full Text
Abstract
Introduction. The relevance of this study stems from the political use of difficult memories in contemporary Russian discourse and the lack of research on the memories of the centennial generation regarding mass political repression during the Soviet period. The aim is to characterize the scope of centennials' memories of repression in family history, taking into account the sources available to them, technologies for accessing information, and the interaction of family memories with the official memory regime.
Materials and Methods. The empirical basis of the article is based on quantitative (online questionnaire survey of students of universities and colleges of the Republic of Mordovia, n = 700, multi-stage combined sample) and qualitative (30 in-depth interviews with students of the National Research Mordovia State University of various fields of study) sociological research conducted in 2023.
Results. The main sources (including oral recollections of family members, textbooks, artistic and popular science films and literature, traditional and digital archives, thematic websites) and technologies for accessing information about mass political repression have been identified. It has been shown that, when motivated, students use neurosearch, digital archives, and genealogical websites (MyHeritage, Geni.com) to fill in gaps in their knowledge about their family's past. Forms of incorporating family memories into the public narrative (local history competitions, publications, museums) have been identified. The typological characteristics of the mnemonic behavior of centenarians are defined: pluralistic agonism or avoidance of mnemonic conflicts. The mode of communication about the Soviet past is characterized as pluralistic and pillarized, generally corresponding to the dominant historical narrative, which condemns political repression but avoids assessments of the Soviet period as a whole. The prevailing methods of managing the content and structure of family memory about repression are revealed: individualization of family history, historicization in the form of deactualization or meta-historical reflection, and the construction of one's own narrative of national history (among history students).
Discussion and Conclusion. The study questions the universal value of the concept of transgenerational trauma, showing that the discussion of family memories among centenarians is based on a choice between agonistic and evasive attitudes. This allows us to characterize the mode of communication about repression as divided but not split. The results confirm the validity of the relational approach and point to the need for its application in further generational studies, as well as the importance of studying the social factors of framing family memories in the process of their transformation into “post-memory”.
Full Text
Введение
Менеджменту меморизации жертв массовых политических репрессий в современном мире уделяется не меньше внимания, чем устранению потенциальных причин аналогичных трагических событий. В российских практиках исследования и памятования советских репрессий, как и других трагических событий прошлого, сегодня применяются такие теоретические модели, как процессо-реляционный подход к осмыслению и конструированию социальных «рамок памяти», метаисторическая рефлексия, междисциплинарный подход коллективной травмы, характерный для транснационального мнемонического активизма и активистских исследований.
Актуальность проблемы социальной памяти молодежи о массовых политических репрессиях советского периода обусловлена, с одной стороны, дефицитом подобных исследований в отношении российской молодежи поколения центениалов (представленных, например, в публикациях М. К. Горшкова, Р. Э. Бараш [1], Ю. В. Зевако [2], А. Н. Кравцовой и Е. Л. Омельченко [3]) и миллениалов [4], социализировавшихся в XXI в.; с другой – политическим использованием трудной памяти в российском общественном и академическом дискурсе. Реактуализация и политизация коллективной памяти о событиях прошлого ради решения насущных проблем, включая формирование общей идентичности политического сообщества, целенаправленное конструирование позитивных или негативных «мифов основания», управление социальными процессами памятования или забвения героических и трагических страниц истории, являются предметом осмысления социологов начиная с теории социальных «рамок памяти» М. Хальбвакса1.
Исследователи посткоммунистической памяти М. Бернард и Я. Кубик формулируют концепты «мнемонического поля» как коммуникационную среду взаимодействия агентов коллективной памяти и «режимов памяти» в виде наборов культурных и институциональных практик, предназначенных для публичного памятования, включая официальные режимы сохранения памяти, которые формируют государство или влиятельные политические сообщества. Авторы выделяют расколотые (фрагментированные) режимы с непримиримыми конфликтами по поводу взаимоисключающих версий; пилларизованные (разделенные), характеризующиеся обособленным сосуществованием мнемонических акторов с различными взглядами в общих нормативных рамках либо попытками диалога; объединенные (унифицированные), основанные на всеобщем мнемоническом консенсусе2.
Цель статьи – охарактеризовать рамки памяти центениалов о массовых политических репрессиях в истории семьи с учетом доступных им источников и технологий доступа к информации, форм взаимодействия семейных воспоминаний с официальным режимом памяти, институциональной инфраструктурой и цифровыми экосистемами социальной памяти. Будет показано, какие социальные установки в публичной коммуникации центениалов формируются благодаря множественности интерпретаций советского прошлого в институциональной и цифровой среде и как они становятся основой плюралистического мнемонического поля и пилларизованного (разделенного) режима памяти о репрессиях.
На основе анализа количественных данных массового опроса и тематического анализа качественных данных мы попытаемся решить следующие задачи: 1) выявить основные источники и технологии доступа к информации о массовых политических репрессиях; 2) охарактеризовать формы взаимодействия семейных воспоминаний о репрессиях с доминирующим историческим нарративом и институциональной инфраструктурой памяти; 3) исходя из анализа реакций на потенциально конфликтные мнемонические ситуации в межличностной и цифровой коммуникации дать основные типологические характеристики мнемонического поведения центениалов (установка на борьбу, плюралистическую коммуникацию, уклонение или проспективизм); 4) описать преобладающий мнемонический режим устной и цифровой коммуникации о советском прошлом на основе типологии М. Бернард и Я. Кубика; 5) выявить основные способы управления содержанием и структурой памяти о репрессиях, включая ее место в семейной истории, индивидуализацию или формирование мнемонического сообщества, ретравматизацию либо историзацию как способ деактуализации травматических событий в процессе публичной коммуникации.
Обзор литературы
Проблемам коммеморации жертв массовых политических репрессий в современной России, в менеджменте памяти о них и, шире, о советском прошлом в контексте политики памяти, направленной на создание позитивной государственно-гражданской идентичности, включения в этот процесс индивидуальных свидетельств и семейных историй, посвящен ряд научных исследований [5–8].
Идеологические и теоретические рамки описания негативного социального опыта в постсоветском российском обществе сформировались под влиянием процессов декоммунизации в бывших социалистических странах, концепций коллективной травмы и транснациональных практик мнемонического активизма, частично уравновешенных политикой секьюритизации в качестве элемента, обеспечивавшего национальную безопасность3 героического нарратива о Великой Отечественной войне как событии, прямо связанном с основанием современной российской государственности [5, с. 201].
По оценкам А. И. Миллера, историческую основу политики идентичности постсоветской России уже в 1990-е гг. составил примирительный нарратив, включивший достижения дореволюционного и советского периодов отечественной науки [7, с. 132]. Он оказался под вопросом вследствие конфликтно-антагонистической политики по отношению к коммунистическому прошлому политики памяти Евросоюза [8, с. 116–117], основанной на презентистской концепции прошлого как актуального компонента настоящего, юридизации прошлого, концептах культурной травмы [9, с. 3, 13] и ретравматизации в качестве реактуализации исторических травм4, ориентации на немецкий опыт проработки нацистского прошлого [8, с. 139; 10, с. 5].
В российском контексте эти подходы нашли отражение в объяснении проблемных аспектов постсоветских трансформаций травмой сталинизма [11, с. 2–4] и альтернативных по отношению к официальному режиму памяти практиках транснационального мнемонического активизма. К последним можно отнести проекты сохранения физических («Последний адрес») и цифровых следов памяти о репрессиях («Бессмертный барак», «Открытый список» и т. п.), а также активистские социальные исследования, направленные на изменение официального мнемонического режима. Так, Е. Л. Омельченко и А. Н. Кравцова на основании результатов шестнадцати фокус-групп с посетителями Государственного музея истории ГУЛАГа и его аналогов в четырех городах России отмечают «растущий интерес» к обсуждению проблематики сталинских репрессий среди представителей разных поколений и утверждают, что «…молодые респонденты часто плохо информированы» и поэтому «не могут осмыслить эту трагедию» [3, с. 577]. Это заключение не вполне согласуется с характеристиками цифровой мнемонической среды, где релевантная информация, в том числе о репрессированных, находится на расстоянии «одного клика».
Транснациональная практика сбора свидетельств жертв массовых политических репрессий с целью конструирования социального запроса на переходное правосудие в России столкнулась с теоретическими и практическими ограничениями. Некоторые из них отмечались экспертами еще в конце XX века, другие – в последние годы самими участниками активистских исследований. Так, Д. О. Хлевнюк, один из организаторов массового социологического опроса, предпринятого в 2019 г. в рамках проекта «Трудная память», на основе анализа полученных данных подвергла сомнению исходные предпосылки исследования о ресталинизации массового сознания в постсоветской России как результате вытеснения травмы сталинизма.
Проанализировав результаты опроса, в генеральную совокупность которого вошли города-миллионники (21 % населения России [11, с. 5]), Д. О. Хлевнюк заключила, что респонденты избегают публичных дискуссий о репрессиях, чтобы не спровоцировать конфликты, поскольку воспринимают советскую эпоху в качестве одного из периодов наивысших достижений в истории страны [11, с. 14, 16–17]. Преобладающий в России тип массового исторического сознания она охарактеризовала как деполитизированный и агонистический (плюралистический), в отличие от антагонистического и космополитического, ориентированных на формирование единого нарратива [11, с. 1, 15].
Исследователи отмечают дефицит в России не только коллективной идентичности жертв массовых политических репрессий, но и общей групповой памяти, которая могла бы послужить основой коллективной идентичности. К. Мерридейл на основании своего качественного исследования (1990-е гг.) констатировала, что в российском обществе «…публичная роль жертвы пока еще не стала мейнстримом», а формирование «травмы второго поколения» у потомков жертв репрессий затруднено в силу культурных и социальных факторов5. Подобный вывод звучит в количественном социально-психологическом исследовании (конец 2010 – начало 2020-х годов) Е. В. Миськовой: «…носители травмы сталинских репрессий не являются сообществом с ярко выраженной идентичностью» [12, с. 47], а также в исследовании устной истории А. А. Линченко, заметившего в воспоминаниях представителей разных поколений «…ярко выраженное стремление уйти от осмысления трагических событий семейной истории и некритичность восприятия биографий членов семьи в эпоху репрессий 1930-х гг.» [13, с. 42].
Э. Хоскинс, британский исследователь цифровой среды как сферы публичных коммуникаций поколения Z, использует термин «новая экология памяти» для характеристики совокупности действий людей с современными информационнокоммуникационными технологиями в процессе индивидуального и коллективного памятования и забвения [14, с. 354]. Он отмечает гиперконнективность и экстернализацию цифровой памяти; возможности автоматической архивации и генерации воспоминаний, их редактирования, что стирает грань между документом и выражением субъективного мнения, культурной и коммуникативной памятью; отсутствие временны́х ограничений на хранение и материальное устаревание цифровых архивов [15, с. 677]; способность цифровых экосистем новых медиа и искусственного интеллекта модифицировать и искажать образы прошлого.
В то же время недостаточно изучены вопросы, связанные с механизмами межпоколенной трансляции памяти о трагических страницах советской истории в современной информационно-коммуникативной среде, влиянием на данные практики институциональных механизмов, а также «экологии» цифровой среды, которая служит одним из основных источников информации о прошлом для первого поколения XXI века.
В memory studies различают три основных подхода к проблематике коллективной памяти: космополитическую парадигму, которая исходит из «глобального набора ценностей»; антагонистическую, стремящуюся утвердить ценности ингруппы в качестве единственно истинных; агонистическую, что опирается на признание сложности прошлых конфликтов и допускает выражение противоречивых мнений в рамках определенных норм, регулирующих дискуссию [16, с. 2]. Агонистическая парадигма, по мнению Д. Э. Летнякова, представляет собой идеальный тип и образец, которому «…может в большей или меньшей степени соответствовать пространство коллективной памяти в конкретном обществе» [17, с. 119].
М. Бернард и Я. Кубик выделяют таких мнемонических акторов: «борцов», стремящихся навязать обществу свое видение прошлого; плюралистов, оставляющих за оппонентами право на выражение альтернативных точек зрения (аналог «агонистов»); «уклонистов», избегающих обсуждения потенциально конфликтных проблем, связанных с прошлым; и «проспективистов», опирающихся на активистские представления о желаемом будущем общества и рассматривающих свое видение прошлого как единственно верное6.
Материалы и методы
Основой методологии исследования послужили социологические концепции рамок коллективной памяти М. Хальбвакса как социально обусловленных «…пространственно-временных ориентиров, исторических, географических, биографических, политических понятий, данных повседневного опыта и обиходных привычек восприятия»7, необходимых для воссоздания социально одобряемых образов прошлого; «экологии» медиапамяти Э. Хоскинса [14; 15]; типологии парадигм коллективной памяти А. Булл и Х. Хансена [16]; мнемонических акторов и режимов М. Бернард и Я. Кубика8; процессо-реляционный подход Дж. Олика, исходящий из процессуального и сконструированного социальными агентами в контексте полей взаимодействия мнемонических практик, структуры и содержания представлений о прошлом [18, с. 14].
Эмпирическую базу исследования составили данные количественного (анкетный онлайн-опрос учащихся вузов и ссузов Республики Мордовия, n = 700, многоступенчатая комбинированная выборка) и качественного (30 глубинных интервью со студентами Национального исследовательского Мордовского государственного университета) социологических исследований, предпринятых в 2023 г. в рамках научного проекта «Репрезентации исторической памяти в социальных медиа как фактор конструирования российской идентичности молодежи: цифровые вызовы и пути решения». От всех респондентов было получено информированное согласие на участие в исследовании и обработку полученных ответов.
Результаты опроса были проанализированы с использованием программного пакета IBM SPSS Statistics 21 и методов описательной и многомерной статистики; интервью – методом тематического анализа.
Признавая Мордовию типичной территорией Среднего Поволжья, где «результаты… опросов демонстрируют близость с общероссийскими замерами» [19, с. 165], полученные данные можно оценивать как характеризующие не только местную, но и вообще провинциальную студенческую молодежь. Использовалась теоретическая выборка, которая репрезентирует существенные свойства изучаемой проблемной ситуации, отражаемые в аналитических категориях и темах исследования9. Привлекались уроженцы как Мордовии, так и других регионов России (Карелии, Самарской и Ульяновской областей, Красноярского края) из числа обучающихся в университете на различных направлениях подготовки бакалавриата и магистратуры (история, политология, социология, туризм, кадастр недвижимости).
Гайд глубинного интервью составили вопросы об истории семьи: об источниках информации о ней, позитивном и негативном социальном опыте старших поколений, повлиявших на их судьбу оценках наиболее важных событий отечественной истории. Полученные данные анализировались методом тематического анализа, включая такие темы, как артикуляция политических репрессий советского периода, источники информации о них, паттерны обсуждения семейных историй потомков жертв репрессий в институциональной и цифровой среде, мнемонические установки респондентов в публичном пространстве (в том числе мнемонические конфликты, уклонение от них, претензии на монопольную интерпретацию исторических нарративов, отношение к доминирующему нарративу и предрасположенность к определенному режиму мнемонической коммуникации).
Фрагменты интервью приводятся с указанием в скобках курса, направления подготовки и пола респондента.
Результаты исследования
Основной объем информации о прошлом (представления о социальных рамках памяти и дополнительные по отношению к базовым курсам истории сведения), по данным количественного исследования, провинциальная молодежь поколения Z получает из учебников и уроков истории. Распределение в выборе главных источников информации об истории России следующее: учебники и уроки истории – 63 %, художественная литература, кино- и телефильмы – 51, воспоминания членов семьи – 41, «новые медиа» – 44, теле- и радиопередачи – 39 % [20, с. 103–104]. В числе ресурсов цифровой инфраструктуры памяти был назван ряд неспециализированных Дзен- и Youtube-каналов (например, GEO), проекты «Арзамас», часто используемый для подготовки к ЕГЭ, и «Цифровая история».
Результаты количественного исследования в аспекте разногласий и конфликтных ситуаций в контексте мнемонического поведения центениалов. Разногласия при обмене мнениями на темы, связанные с историческим прошлым, и поводы для споров на эти темы возникают довольно часто как в цифровой среде, так и при общении офлайн. В разговорах с членами семьи студенты отмечали разногласия практически так же часто, как и консенсус: на вопрос о солидарности при оценке дискуссионных исторических событий 37 % из них ответили, что «все члены семьи одинаково оценивают исторические события», 30 – что есть «некоторые расхождения», 9 выбрали вариант «Трактуем события совершенно по-разному», 1 – указали «другое», 23 % студентов затруднились с ответом.
Среди различных точек зрения на прошлое в цифровой среде встречается мнение о необходимости изменить доминирующий режим памяти. Отвечая на вопрос: «Сталкивались ли Вы с авторскими видео, подкастами, в которых поднималась тема необходимости переоценки исторического прошлого РФ, и если да, то как реагировали?», 46 % респондентов утверждали, что не знакомы с такими материалами, 16 % затруднялись с ответом. Чаще всего студенты демонстрировали безразличие к видеоматериалам, провоцирующим дискуссии на исторические темы, либо уклонение от участия в них. Просматривали эти ролики, но не реагировали на них 25 % опрошенных и реагировали лишь 13 %.
Сталкиваются в цифровой среде с конфликтными ситуациями, обусловленными разницей восприятия исторических событий, постоянно 11 % обучающихся, иногда – 38, однажды – 19, никогда – 31 % обучающихся. Среди наиболее дискуссионных событий были названы победа в Великой Отечественной войне (22 %), присоединение к России Донецкой и Луганской Народных Республик (22), а также Крыма (20), обсуждение личностей вождей, в том числе В. И. Ленина, И. В. Сталина, Л. И. Брежнева, М. С. Горбачева, Б. Н. Ельцина, их роль в истории страны (20), советский период в целом (15), постсоветские военные конфликты в Чечне, Южной Осетии, Нагорном Карабахе (13,6), царствование Николая II и расстрел царской семьи (10), репрессии 1930-х гг. (9) и «голодомор» на Украине (9 %).
Охарактеризуем представления о преемственности различных периодов развития российского общества и их спорных моментах, выступающие фоном для обсуждения темы массовых политических репрессий. Отечественная инфраструктура памяти формирует негативное отношение к неизбирательному политическому насилию эпох революций, Гражданской войны и консолидации советской власти. Репрессии 1930-х гг. (32 % респондентов) и раскулачивание (30) довольно часто упоминались в числе фактов российской истории, вызывающих наибольшее сожаление, наряду с расстрелом семьи Николая II (46), крепостным правом (38), продажей Аляски (36 %). Значительно реже назывались инциденты, связанные со Второй мировой войной: депортация репрессированных народов (6 %) и пакт Молотова–Риббентропа (8 %).
Половина опрошенных продемонстрировала положительное или сбалансированное отношение к памяти основателей Советского государства – В. И. Ленина (46 %) и И. В. Сталина (50 %), упомянув их в ответах на вопрос: «Кто из исторических деятелей и деятелей науки и культуры является символом России?». В рейтинге знаковых личностей эти политические лидеры уступают только Петру I (65 %), Ю. А. Гагарину (64), А. С. Пушкину (59), а Ленин – М. В. Ломоносову (47). При этом Екатерину II указали 40 % участников опроса, П. А. Столыпина – 16 %. Эти данные, очевидно, отражают восприятие советской эпохи как одной из наиболее успешных в отечественной истории. Поскольку роль обозначенных лидеров в истории и советский период в целом респонденты одновременно отнесли к числу наиболее спорных тем, такое распределение мнений позволяет охарактеризовать мнемоническое поле как разделенное, но не расколотое.
То, что среди их предков имеются раскулаченные, сосланные или лишенные гражданских прав, указали 19 % респондентов, и это соответствует данным всероссийского опроса ФНИСЦ РАН 2023 г. [1, с. 130], не имеют таких предков – 22, не располагают такой информацией – 54, не интересуются 6 % респондентов. Поскольку информация о репрессированных доступна в официальном справочнике «Память» и цифровых архивах, можно заключить, что реакция большинства связана прежде всего с отсутствием интереса к поиску таких родственников.
Сравнительный анализ не выявил существенных различий между молодежью, относящей и не относящей себя к потомкам жертв политических репрессий, в оценке советского прошлого в зависимости от истории семьи. Опрошенные, относящие себя к потомкам жертв политических репрессий, часто упоминали среди исторических личностей, которых можно считать символами России, Петра I (66 %), А. С. Пушкина (59), Ивана Грозного (56), Ю. А. Гагарина (55), И. В. Сталина (55), Екатерину II (52), Суворова (49), Ленина (49), А. Невского (47), М. В. Ломоносова (46); не имеющие репрессированных предков – Петра I (69), Ю. А. Гагарина (69), А. С. Пушкина (61), И. В. Сталина (53), А. В. Суворова (49), В. И. Ленина (48), М. В. Ломоносова (48), М. И. Кутузова (42), Екатерину II (42) и Л. Н. Толстого (42 %). Перечень из десяти выбранных представителями обеих категорий исторических личностей совпал на 70 %; Ленин и Сталин упоминались практически одинаково часто.
Значимые отличия по дореволюционным политическим деятелям обнаружены по Ивану Грозному (частота упоминаний студентами, считающими себя потомками жертв репрессий, – 56 %) и П. А. Столыпину (28 %), что можно интерпретировать как показатель большей, в сравнении с остальными, распространенности монархических и консервативных предпочтений среди зумеров, относящих себя к потомкам жертв политических репрессий. Однако небольшой абсолютный размер этой категории в опросе (134 респондента) требует дополнительных исследований. В остальном серьезных различий, позволяющих рассматривать данную группу в качестве источника контрнарративов «второй памяти», выявлено не было.
Информированность о прошлом семьи, источники информации о жертвах массовых репрессий, по данным качественного исследования. Большинство центениалов знают историю семьи на основе коммуникативной памяти в двух-трех поколениях. Функцию протеза по отношению к семейной памяти выполняют цифровые архивы и базы данных, из которых чаще всего упоминались «Память народа» и «Подвиг народа», реже – обычные архивы. Респонденты, имевшие представление о событиях из жизни более ранних поколений, – как правило, студенты-историки, которые занимаются семейным прошлым в рамках профессии либо получили информацию от старших членов семьи, предпринявших поиск самостоятельно:
– У меня отец занимался историческими исследованиями в этом плане, он ходил в архив, поднимал эти книги, старался по родственникам отследить эти линии, и составил такое генеалогическое древо. До 1830, то ли до 1870 г. Там первый, кто мне известен, его звали Антон. В общем, до XIX в. точно. У него нет исторического образования, не было. Почему он этим заинтересовался? У него есть хороший друг, он довольно долго преподавал в университете. Он тоже историческими исследованиями занимался. Поэтому и отца на это подсадил. С отцовской стороны больше сведений, с материнской – меньше (IV курс, бакалавриат, кадастр недвижимости, м.).
Основным источником памяти о репрессированных служат семейные предания, в которых в течение жизни нескольких поколений сохранялись детали драмы. Иногда упоминались родственники с обеих сторон, которые были раскулачены, некоторые из них – расстреляны или высланы:
– Максимально, до чего я мог докопать, – это, наверное, послереволюционные события, потому что со стороны матери география моей семьи… уникальная. Изначально они были зажиточными крестьянами и жили либо в Центральной России, либо в Восточной Украине. После этого родственников не помню, имен точно не знаю, но знаю, что раскулачили в Бурятию. …перед началом Второй мировой войны, переселили в Северный Казахстан, и уже после развала Советского Союза бабушка с дедушкой, мама, тети и т. д., когда уже было разделение России и Казахстана, не было Союза, они переехали в Красноярский край, откуда я и родом (IV курс, бакалавриат, история, м.).
Студенты – как историки, так и обучающиеся на других направлениях подготовки – осведомлены о различных цифровых технологиях и сервисах для поиска информации о семейной истории: оцифрованных метрических книгах, нейропоиске Яндекса, социальной сети MyHeritage, Geni.com и других подобных инструментах построения родословной:
– В основном мама все знает, все рассказывает мне. Тоже есть какие-то записи, просто, грубо говоря, дневники дедушек и бабушек. Еще наткнулись недавно в Яндексе: с помощью искусственного интеллекта там можно ввести условно свою фамилию или родственников фамилию, место рождения, и там выдаются какие-то сведения. Но меня больше интересовала прабабушка со стороны маминой линии, которая с Эстонии, но ничего не было найдено, к сожалению. Там вообще все архивы… <…>Как я понимаю, искусственный интеллект перебирает все картинки сканированные [метрические книги. – Прим. автора], и переводит их в текст (IV курс, бакалавриат, кадастр недвижимости, м.).
При наличии мотивации или тематических заданий в процессе обучения центениалы легко осваивают цифровые инструменты в том числе в качестве источников информации о репрессированных родственниках. Так, один из респондентов при помощи сайта Geni.com нашел «…родственников в Великобритании, у которых была информация из архивов ФСБ, и они смогли выслать нам эти материалы. <…>Существуют такие программы для создания семейных генеалогических древ. <…>И мы смогли, там контакты были, связаться с родственниками в сети “Одноклассники”» (IV курс, бакалавриат, история, м.).
Описанный случай наряду с другими свидетельствует о том, что тема сталинских репрессий в российском публичном мнемоническом поле не только не является замалчиваемой и табуируемой, но, напротив, свободно артикулируется и транслируется из семейной памяти в институциональную.
Обсуждение семейных историй потомков жертв репрессий в институциональной и цифровой среде. Для упомянутого респондента цифровой генеалогический поиск стал очередным этапом работы с семейными воспоминаниями, инициированной участием в федеральном конкурсе – ежегодной Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению, проводимой на базе региональных и федеральных государственных учреждений:
– Каждый год пишутся эти краеведческие работы, конкурс школьный, они проходят в районе, потом уже, кто выиграет в районе, едет в Саранск, в краеведческий музей, там выступают. <…>Многие пишут о Великой Отечественной войне, понятно, что большинство пишут о своих прадедушках, а дальше уже темы начинают пропадать. И надо что-то новое. И вот обратились, зная, что есть репрессированные, с той стороны этот репрессированный, этот раскулаченный, и все. И поэтому начали писать о репрессированных (IV курс, бакалавриат, история, м.).
Такие мнемонические практики подтверждают, что тема репрессий в XXI в. не уходила из официального российского режима памяти, хотя и не занимала в нем центральное место. Достаточно вспомнить о федеральной Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий10, создании Ассоциации музеев памяти и государственного мемориала памяти жертв репрессий – Стены скорби в Москве (2017 г.). Возможность участия в историко-краеведческой олимпиаде с конкурсной работой о жертвах массовых репрессий подтверждает значимость этой темы в контексте государственной политики, становится каналом интеграции семейных воспоминаний в общероссийский нарратив о прошлом и побудительным мотивом для восстановления семейной истории. В качестве переломного процессуального момента респондент отмечает изменение режима памяти в постсоветский период, когда процессы замалчивания и фрагментации семейной памяти о репрессиях остановились и появилась возможность восстановить информацию:
– Мои родители 1980 г. рождения, в девяностые как раз их молодость была. <…>Такие темы, как раскулачивание и т. д., были, показывали их фотографии, их тоже так, хранили с боязнью, но есть фотографии со стороны матери, того прадедушки, который был раскулачен. Но про то, что поменял фамилию и т.д. – не очень… рассказывали. Потому что прадедушки брат, он как бы назад поменял фамилию, не хотел раскола в семье (IV курс, бакалавриат, история, м.).
Опрошенные студенты называли имена репрессированных родственников и указывали, по какому поводу те пострадали:
– Мой прапрадедушка в годы советской власти… был пекарем, у него была своя пекарня. Потом мы сами знаем, какие настают времена [коллективизация. – Прим. автора]. Его раскулачили. Все что у него было нажито, отобрали. Потом ему пришлось заново все начинать, заново свою жизнь строить (II курс, магистратура, история, ж.);
– Предок моего деда стал управляющим имением…. Потом НЭП [новая экономическая политика. – Прим. автора], он стал строить мельницу, у него был пятистенок, открыл какое-то свое дело, стал сапожником, шил какие-то сапоги элитные… которые не каждый мог себе позволить. Потом решили образовать школу в этом имении, и не нашли никаких вариантов, кроме как заиметь под школу этот дом – пятистенок. Его раскулачили, потом он стал мельником на этой мельнице, потому что эту мельницу тоже у него отобрали. То есть всю инфраструктуру строили на его бизнесе. Его не выселили, они жили в этом доме, и в этом же доме была школа (IV курс, бакалавриат, кадастр недвижимости, м.).
Институциональные источники влияют на содержание и структуру семейного нарратива, включая место в нем памяти о репрессиях; при этом выбор остается за пользователями. Д. О. Хлевнюк упоминает феномен «экранирования» темы сталинских репрессий в локальных краеведческих музеях, например в г. Медвежьегорске и п. Повенце Республики Карелия, подчеркивающих успехи регионов в период формирования инфраструктуры ГУЛАГа (Беломорканал или Дальстрой) параллельно с регрессом территории в 1990-е гг. [21, с. 511, 515]. В опросе Беломорканал упоминался уроженкой Медвежьегорска, прадед которой был раскулачен и с семьей выслан в Сибирь в связи с Великой Отечественной войной:
– Там было страшно, потому что есть Беломорско-Балтийский канал, он, конечно, не в городе нашем, но рядом есть поселок Повенец. И вот финны вроде его подорвали зимой, и все дома накрыло водой, льдом. <…>Потом финны в виде компенсации дома отстраивали, и у нас тоже есть дом, очень хороший (IV курс, бакалавриат, кадастр недвижимости, ж.).
В данном случае травма репрессий заслоняется военной травмой, под влиянием которой респонденты не воспринимают политические репрессии как главное группообразующее событие, определившее судьбу их семьи. Вследствие этого статус жертв не образует коллективной идентичности.
Социальные установки мнемонической коммуникации и менеджмент памяти о репрессиях. Преобладающие способы артикуляции семейной памяти о репрессиях, на основании данных качественного исследования, можно охарактеризовать как плюралистический агонизм либо уклонение от мнемонических конфликтов. Рассказов о дискуссиях меньше, чем воспоминаний о репрессированных членах семьи. В то же время антагонистические интерпретации советского прошлого, в частности раскулачивания и сталинских репрессий, встречаются среди родственников одних и тех же респондентов. В аспекте семейной коммуникативной памяти противоположные дискурсы описываются скорее как транслируемые независимо друг от друга через поколение, чем обсуждаемые в семье:
– Мой дед, он как бы все-таки за советскую власть, он говорил: хоть и репрессировали, но они после репрессий поняли свои ошибки… А вот со стороны бабушки – она говорила, это все неправильно было, они все работящие люди, ну, работяги. А кто раскулачивал? Раскулачивали пьяницы, кто ничего не делает, лежит на печи. …эти пришли раскулачивать, что смогли, аккуратненько взяли себе, остальное сдали в колхоз. А дедушка …очень много им сочувствовал, что они там работали, но их репрессировали – такая, говорит, политическая обстановка была, уже ничего не сделаешь (IV курс, бакалавриат, история, м.).
Альтернативные взгляды на советское прошлое становятся предметом обсуждения в кругу сверстников, интерпретирующих историю семьи в контексте того или иного исторического нарратива:
– На исторические темы – безусловно. И, собственно говоря, если попытаться выделить наиболее такую острую, вызывающую дискуссию, то это …отношение к Советскому Союзу, потому что оно у многих понятное, да и в целом к коммунизму как идеологии. Аргументы? Тут зависит уже от политических взглядов и даже отчасти от личной истории тех, с кем ты споришь, потому что вот у нас, например, в группе …у многих родственники были, например, репрессированы, у многих раскулачены. И у них, само собой, отношение к советской власти уже несколько предубежденное по данной причине. Есть люди, например, еще и религиозные, которым это не нравится.
Если же говорить уже непосредственно об аргументации, то тут прежде всего та и другая сторона пытаются приводить какие-то статистические данные, которые мы на данный момент имеем. …Такие же данные, наиболее выгодные для себя, он и выбирает, какую позицию он собирается донести (III курс, бакалавриат, история, м.).
В таких дискуссиях могут участвовать не только историки, но и студенты других направлений подготовки:
– Я просто отошел от этого подросткового максимализма в свое время, и сейчас я такого мнения, что если оно случилось [революция 1917 года. – Прим. автора], значит, так оно должно и быть. <…>Насчет истории семьи – дискуссии? Ну, это понятное дело. Если, как говорится, ты интересуешься этим, ты рано или поздно столкнешься с людьми противоположного мнения, которые будут говорить, какие молодцы Ленин, Сталин и все остальные, что все так в стране получилось, что мы все равные. Ну и то, что люди погибли… Понятное дело, сталкивался.
Я в свое время как бы с азартом спорил на эти вещи с разными людьми, которые противоположного мнения, скажем так, политической ориентации. Но сейчас как бы я от этого отошел, может быть, перегорел в этом плане. Ну, я и примеры приводил из истории собственной семьи, что вот, пожалуйста, как вы можете говорить, что это хорошо, когда я могу вам показать, что, грубо говоря, этого человека расстреляли, а у этого человека отняли и все остальное? Ну, извините меня. Хотя здесь как бы тоже это… кто, кого, зачем и почему, потому что люди не могут жить в мире, поэтому все беды от этого, пожалуй (IV курс, бакалавриат, кадастр недвижимости, м.).
Оба респондента в примерах выше используют наличие репрессированных родственников как фактор, стимулировавший их участие в дискуссиях на исторические темы, хотя для первого это источник субъективных когнитивных искажений, для второго – дополнительной информации для аргументов в споре. Важно, что оба «агониста» упоминают тему массовых политических репрессий в качестве повода для мнемонических конфликтов в контексте выяснения истины об общем советском прошлом, а не для предъявления межгрупповых претензий по принципу социального происхождения и в итоге признают невозможность изменить позицию оппонентов, по умолчанию принимая их право на нее.
Сравнительный анализ содержания приведенных типичных высказываний респондентов, занимавших противоположные позиции в спорах о советском прошлом (основанные на различных социальных траекториях третьего-четвертого поколения старших членов семьи), позволяет определить точки соприкосновения обеих позиций и на этом основании охарактеризовать режимы спонтанной коммуникации на указанные темы как агонистические (по терминологии А. Булл и Х. Хансена) либо пилларизованные (по определению М. Бернард и Я. Кубика), а не антагонистические (несовместимые).
Опрос показал, что советская травма политических репрессий не всегда рассматривается в качестве главной в случае, если респондентам нужно дать сравнительную оценку травматичности различных событий. Так, член семьи вынужденных переселенцев из Казахстана, потомок раскулаченных и высланных крестьян из России или Украины, а также карабахских курдов, осознанно придает наибольшее значение именно постсоветской семейной травме:
Инт.: Чувствуете ли Вы себя травмированным из-за этих происшествий?
– Из-за каких именно?
Инт.: Если начать из глубины веков, то из-за того, что курды – разделенная нация, из-за революции, из-за раскулачивания, из-за сталинских репрессий, из-за распада Союза?
– Ну, поскольку я не застал те сложные годы условно переезда из Казахстана в Россию, то со стороны мамы – нет, но со стороны отца тот факт, что в девяностые годы была проиграна первая карабахская война и, по сути, отцу пришлось бежать из страны, а моим родственникам, хоть я их напрямую и не знаю, пришлось переезжать в другие населенные пункты Азербайджана, то будто бы немножечко обидно. И я еще сужу по тому, что вторые карабахские войны были буквально недавно, и я, не являясь гражданином этой страны, я чувствовал гордость за победу, за то, что территории вернули мои исторические (IV курс, бакалавриат, история, м.).
Студенты-историки демонстрируют способность к формированию индивидуальных мастер-нарративов российской истории, отмечая за пределами советского периода переломные моменты, которые, по их мнению, обусловили последующие травматические события. Подобные случаи, в полном соответствии с процессореляционным подходом, дают примеры сознательного управления семейными воспоминаниями посредством конструирования связей между событиями, оценки их значимости и места в семейном нарративе:
– Самое первое сожаление возникает – это раскол XVII в., когда вот эта Русь настоящая путем раскола, она, к сожалению, исчезла. К сожалению, наша православная вера, которая пошла после раскола... много потеряла, отщепив от себя старообрядцев. Их культура и мировоззрение очень близки мне. И мы представляем, что было бы, если бы этот раскол, может, был, но не дал такого сильного резонанса… Мы представляем, основываясь на том, какие прекрасные предприниматели выросли у старообрядцев в конце XIX – начале XX века. Или, например в той же Латинской Америке, насколько старообрядческие общины успешнее, у них производство и так далее. А дальше вызывает также еще сожаление революция 1917 года, разрушение храмов, репрессии священнослужителей и т. д. Наверное, я бы не допустил раскола XVII века. Я верю, что в расколе XVII века, как писал один историк, – революция 1917 года (IV курс, бакалавриат, история, м.).
Несколько иное мнемоническое поведение характерно для респондентов, предпочитающих избегать публичных дискуссий о судьбе репрессированных членов семьи в отсутствие заинтересованности в его результатах, а не из личных опасений или недостаточной осведомленности. Они сохраняют семейные воспоминания, но не считают их актуальными в современной социальной ситуации и не видят смысла в их публичном обсуждении:
– Спорить о прошлом смысла нет, оно прошло… Мы живем сейчас настоящим, будущим, и то, что мы имеем, что в наших силах, что мы можем изменить, мы должны менять в лучшую сторону, для себя, для своего блага, для общественного блага, чтобы это было благо для всех… Подумать можно о событиях, но чтобы за них как-то переживать – смысла в этом нет (II курс, магистратура, история, ж.).
В подобных случаях можно говорить об описанном П. Коннертоном феномене структурного публичного забвения – деактуализации содержания воспоминаний старших поколений в результате приобретения нового социального статуса и новых совместных воспоминаний «для формирования новой идентичности» членов создаваемой группы11. Это происходит, например, в семьях, объединивших потомков некогда антагонистических сословий, члены которых дистанцируются от конфликтных социальных ролей, навязанных прародителям:
– Со стороны отца мой ныне покойный дедушка был плотником, бабушка была домохозяйкой. Со стороны матери дедушка был водителем, а бабушка работала на пенькозаводе. <…>Со стороны матери бабушка часто рассказывала о своем отце и деде. Они были дворянами в Ульяновской области, которых советская власть раскулачила. <…>Против системы, против страны мои родственники не шли. Скажем, мятежники – ныне интересная тема, таких не поддерживали. Были на стороне государства как обычная среднестатистическая семья, живущая в мире и согласии с законами той страны, в которой проживали (II курс, магистратура, политология, ж.).
Отводя определенную роль в истории семьи революции 1917 года и последующим социальным трансформациям, которые примерно соответствуют горизонту семейной «постпамяти», респонденты склонны описывать их в категориях не «преступления и травмы» [8, с. 132], а причинной обусловленности либо исторической неизбежности:
– Конечно, скорее всего, революция 1917 года была неизбежной. Но меры, которые были проведены после нее и во время нее, они были излишними и, мне кажется… Ну понятно, такая власть пришла, которая хотела все новое сделать, но лучше бы ее не было (IV курс, бакалавриат, история, м.).
Обсуждение и заключение
Исходя из анализа данных количественного и качественного исследований можно охарактеризовать мнемоническое поле коммуникации центениалов о советском прошлом в целом как плюралистическое, функционирующее в условиях отсутствия претензий каких-либо акторов на гегемонию. В соответствии с процессореляционным подходом Дж. Олика семейные воспоминания для нового поколения являются объектом индивидуальной интерпретации и управления в процессе их встраивания в субъективно понятый нарратив истории страны.
Результаты исследования не подтверждают вывод А. Н. Кравцовой и Е. Л. Омельченко, объясняющий недостаточную осведомленность части молодежи поколения Z о советских массовых репрессиях дефицитом «понимания и признания» [3, с. 578]. И количественное, и качественное исследование показывают, что тема репрессий не является в молодежной среде замалчиваемой или табуированной. Она свободно проблематизируется в интервью самими респондентами, а также, по их словам, обсуждается в семьях, где последние неформальные дискурсивные запреты были сняты «в девяностые годы». Как политические репрессии, так и раскулачивание упоминаются примерно третью опрошенных провинциальных студентов среди событий отечественной истории, вызывающих сожаление и, таким образом, занимают устойчивое место в представлениях центениалов о прошлом.
Подобные представления формируются в России 2010 – 2020-х гг. в основном под влиянием учебников, художественных или научно-популярных фильмов, отражающих официальную версию истории. Данные качественного исследования показывают, что при наличии мотивации центениалы легко осваивают цифровые инструменты поиска и находят в Интернете интересующую их информацию, в том числе о репрессированных родственниках. Таким образом, можно говорить скорее о деактуализации травматического прошлого, т. е. осознанном формировании по отношению к нему социальной дистанции. Публичные медиадискурсы, сформированные как в традиционных СМИ, так и в цифровом пространстве, воспроизводятся в информационной среде, включая цифровые и «новые» медиа, и обсуждаются информантами с точки зрения разных интерпретаций отечественной истории со сверстниками, анонимными цифровыми пользователями и членами семьи.
Официальный исторический нарратив, осуждающий политические репрессии, но уклоняющийся от оценок советского периода в целом, способствует преобладанию плюралистического режима коммуникации центениалов о прошлом, базирующегося на плюрализме информационной среды. В остальном интерпретации семейной памяти о политических репрессиях представителей поколения Z демонстрируют уже отмечавшиеся в исследованиях более старших поколений потомков репрессированных тенденции к ее индивидуализации и историзации [11–13].
Институциональная инфраструктура памяти, с одной стороны, предоставляет респондентам ряд доступных мнемонических практик, возможностей и каналов обмена информацией и включения семейных воспоминаний в публичный нарратив о репрессиях (через краеведческие олимпиады, публикации конкурсных работ, музеи); с другой – демонстрирует образцы нарративизации прошлого. В цифровой коммуникации центениалов о советском этапе доминируют установки на индивидуальное агонистическое обсуждение без попыток навязывания собственного мнения оппоненту либо уклонение от мнемонических конфликтов. Эти установки соответствуют пилларизованному типу режима памяти в цифровой среде. Можно заключить, что, как и в исследовании «Трудная память», результаты опроса свидетельствуют скорее об избегании информантами мнемонических конфликтов, чем о мнемоническом расколе общества. Одна из характеристик представлений о прошлом провинциальных студентов-центениалов – избегание его юридизации.
Специфика отношения к этим мнемоническим конфликтам студентов-историков, как и в субъективном отборе переломных моментов отечественной истории, заключается в профессиональном учете феномена «множественных прошлых» – возможностей альтернативной интерпретации одних и тех же данных и соответственно конструирования на их основании альтернативных исторических нарративов. Студенты-историки могут формировать также собственные концепции отечественной истории, выделяя переломные моменты, обусловливающие отдаленные, с их точки зрения, травматические события. В то же время опрошенные, независимо от направлений подготовки, способны к сознательному управлению семейными воспоминаниями посредством конструирования связей между событиями, оценки их значимости и места в семейном нарративе.
Плюралистическая цифровая экология не навязывает единую рамку памяти, а предоставляет индивидам относительный выбор объяснительных моделей, тем самым способствуя пилларизации режима памяти о советском прошлом. Содержание представлений о нем у центениалов, относящих себя к потомкам жертв политических репрессий, и у остальных опрошенных принципиально не различается. В этой ситуации проект «пересборки» диспозитива коллективной памяти о советском прошлом мнемоническими активистами посредством конструирования контрнарратива «преступления и травмы» на основе семейных воспоминаний, а также его трансляции от имени потомков жертв репрессий едва ли осуществим.
Данные исследования ставят под сомнение универсальную эвристическую ценность концепта коллективной и, в частности трансгенерационной, травмы как исследовательского инструмента. Центениалы демонстрируют примеры историзации травматического опыта членов семей, подвергшихся советским политическим репрессиям, а также его менеджмента в форме субъективного определения структуры и взаимосвязей основных событий семейной истории в контексте переломных событий в истории страны.
Результаты анализа подтверждают необходимость дальнейшего изучения социальных факторов фреймирования семейных воспоминаний в процессе их трансформации в «постпамять» поколений, которые не застали в живых участников исторических событий, а равно и механизмов деактуализации травматического опыта предыдущих поколений на микро- и макроуровне. В более широкой теоретической перспективе выявленные повседневные мнемонические стратегии проблематизируют методологические ограничения презентистской концепции прошлого в memory studies.
Результаты исследования подтверждают валидность процессо-реляционного подхода и демонстрируют необходимость его применения в дальнейшем изучении семейной и других форм коллективной памяти в поколенческих исследованиях и на других объектах, включая столичную и иные категории молодежи, а также в практике работы с молодым поколением.
Дополнительная информация
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Доступность данных и материалов. Наборы данных, использованные и/или проанализированные в ходе текущего исследования, можно получить у автора по обоснованному запросу.
1 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство; 2007. 348 с.
2 Bernhard M., Kubik J. (eds.) Twenty Years After Communism. The Politics of Memory and Commemoration. Oxford: Oxford Scholarship Online; 2014. 362 p.
3 Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы: коллективная монография. Под ред. А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге; 2020. С. 12.
4 Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность. В кн.: Цепь времен: проблемы исторического сознания. М.: ИВИ РАН; 2005. С. 61.
5 Мерридейл К. Каменная ночь. Смерть и память в России XX века. М.: АСТ: Corpus; 2019. С. 400.
6 Bernhard M., Kubik J. (eds.) Twenty Years After Communism. The Politics of Memory and Commemoration... Pр. 13–15.
7 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти... С. 30, 72.
8 Bernhard M., Kubik J. (eds.) Twenty Years After Communism…
9 Charmaz K. Constructing Grounded Theory: Introducing Qualitative Methods series. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications Ltd; 2024. Pр. 17.
10 Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий: утв. Распоряжением Правительства РФ от 15.08.2015 № 1561-р [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/3PhS3j (дата обращения: 01.02.2025).
11 Connerton P. Seven Types of Forgetting. Memory Studies. 2008;1(1):64.
About the authors
Olga A. Bogatova
National Research Mordovia State University
Author for correspondence.
Email: bogatovaoa@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-5877-7910
SPIN-code: 4533-7204
Scopus Author ID: 6505697029
ResearcherId: AAZ-1398-2021
Dr. Sci. (Sociol.), Professor of the Chair of Sociology and Social Work
Russian Federation, 68/1 Bolchevistskaya St., Saransk 430005References
- Gorshkov M.K., Barash R.E. Historical Memories of Russians Today (History of the XX Century Russia in the Optics of Families’ Stories). Sociological Studies. 2024;(99):125–137. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.31857/S0132162524090119
- Zevako Y.V. Constructing (Post)Memory of Traumatic Past: Teenager’s Ideas about the Era of Political Repression of the 1930–1950. Journal of Frontier Studies. 2021;6(1):93–143. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.46539/jfs.v6i1.277
- Kravtsova A.N., Omelchenko E.L. Public Perceptions of Russia’s Gulag Memory Museums. Problems of Post-Communism. 2023;70(5):570–580. https://doi.org/10.1080/10758216.2022.2152052
- Shor-Chudnovskaya A. Young Russians’ View of Their Family’s Soviet Past: Nostalgic, Post-Utopian or Retrotopian? Mir Rossii. 2018;27(4):102–119. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2018-27-4-102-119
- Beshkinskaya V.S., Miller A.I. The 75th Anniversary of the Victory of Russian Memory Politics. Preliminary Conclusions. Russia in Global Affairs. 2020;18(3):200–232. https://doi.org/10.31278/1810-6374-2020-18-3-200-232
- Riazanova S.V., Mitrofanova A.V. The Palette of Memory Sites of Political Repressions: Monuments and Counter-Monuments. Perm University Herald. History. 2022;58(3):152–162. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://clck.ru/3Pb4gp (accessed 01.02.2025).
- Efremenko D.V., Malinova O.Ju., Miller A.I. Politics of Memory and Historical Science. Rossiiskaya istoriya. 2018;(5):128–140. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.31857/S086956870001569-6
- Miller A.I. Politics of Memory in Post-Communist Europe and its Impact on European Culture of Memory. Politeia. Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics. 2016;(1):111–121. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.30570/2078-5089-2016-80-1-111-121
- Alexander J.C. Culture Trauma, Morality and Solidarity: The Social Construction of ‘Holocaust’ and Other Mass Murders. Thesis Eleven. 2016;132(1):3–16. https://doi.org/10.1177/0725513615625239
- Blackburn M., Klimenko E.V. Introduction to the Special Issue on Under Communism’s Shadow: The Memory of the Violent Past in Present-Day Russia. Communist and Post-Communist Studies. 2024;57(3):1–15. https://doi.org/10.1525/cpcs.2024.2332820
- Blackburn M., Khlevniuk D.O. Escaping the Long Shadow of Homo Sovieticus: Reassessing Stalin’s Popularity and Communist Legacies in Post-Soviet Russia. Communist and Post-Communist Studies. 2024;57(1):154–173. https://doi.org/10.1525/cpcs.2023.1817401
- Miskova E.V. The Trauma of Stalinist Repression in the Context of Collective Trauma of Genocides. Family Psychology and Psychotherapy. 2019;(4):31–49 (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.24411/2587-6783-2019-10005
- Linchenko A.A. “We are the Time”: the Dynamics of Time and the Sense of the Past in the Narratives of the Family Memory. Pt. 2. Tempus et Memoria. 2022;3(1):29–45. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15826/tetm.2022.3.029
- Hoskins A. Memory Ecologies. Memory Studies. 2016;9(3):348–357. https://doi.org/10.1177/1750698016645274
- Hoskins A., Halstead H. The New Grey of Memory: Andrew Hoskins in Conversation with Huw Halstead. Memory Studies. 2021;14(3):675–685. https://doi.org/10.1177/17506980211010936
- Bull C.A., Hansen H.L. Agonistic Memory and the UNREST Project. Modern Languages Open. 2020;(1):1–7. https://doi.org/10.3828/mlo.v0i0.319
- Letnyakov D.E. The Historical Memory of Russian Society: Towards an Agonistic Model. Universe of Russia. 2023;32(1):109–129. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17323/1811-038X-2023-32-1-109-129
- Olick J.K. Memory is not a Thing, it is not an Object. Memory is an Ongoing Process: Interview with Jeffrey Olick. The Historical Expertise. 2018;(4):11–21. https://doi.org/10.31754/2409-6105-2018-4-11-21
- Ushkin S.G. Not Only Social Networks: Channels of Dissemination of Fake News in the Views of the Population. Galactica Media: Journal of Media Studies. 2024;6(2):162–176. (In Russ.) https://doi.org/10.46539/gmd.v6i2.460
- Bogatova O.A., Dadaeva T.M., Shumkova N.V. Student Youth in the Space of Historical Practices and Narratives (Regional Dimension). Integration of Education. 2024;28(1):98–110. https://doi.org/10.15507/1991-9468.114.028.202401.098-110
- Khlevnyuk D. “Silencing” or “Magnifying” Memories? Stalin’s Repressions and the 1990s in Russian Museums. Problems of Post-Communism. 2023;70(5):508–517. https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1983443
Supplementary files