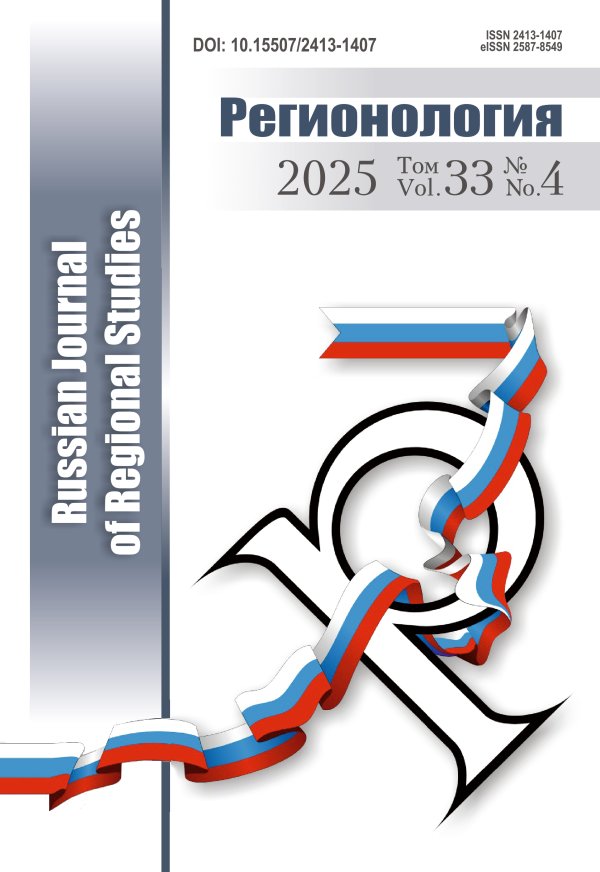Пандемия COVID-19 в России: статистическая оценка прямых и косвенных демографических потерь
- Авторы: Липатова Л.Н.1
-
Учреждения:
- Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
- Выпуск: Том 31, № 1 (2023)
- Страницы: 107-122
- Раздел: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
- Статья получена: 15.10.2025
- Статья одобрена: 15.10.2025
- Статья опубликована: 31.03.2023
- URL: https://journal-vniispk.ru/2413-1407/article/view/328107
- DOI: https://doi.org/10.15507/2413-1407.122.031.202301.107-122
- ID: 328107
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. Как показывает демографическая история, такие события, как пандемия COVID-19, сказываются на развитии народонаселения довольно продолжительное время. Страны по-разному боролись с новой опасной инфекцией. Результаты предпринятых мер тоже кардинально различаются: некоторые страны по продолжительности жизни отброшены на много лет назад, в других этот показатель увеличился. Цель статьи – изучить демографические последствия первого года пандемии COVID-19 для России, что позволит оценить эффективность предпринятых противоэпидемиологических мер и лучше подготовиться к возникновению подобной ситуации в будущем.
Материалы и методы. Исследование базировалось на данных Росстата, материалах авторитетных международных организаций, публикациях ученых, занимающихся исследованием проблем народонаселения. Анализ демографической ситуации проведен на основе системного подхода и специфических методов демографического анализа, контент-анализ был применен для обобщения материалов опубликованных научных исследований, для визуализации результатов использовался табличный метод.
Результаты исследования. В ходе проведенного исследования выявлено, что в первый год пандемии COVID-19 продолжительность жизни городского населения сократилась в большей степени, чем сельского. Рост смертности не затронул детей, подростков и молодых людей до 25 лет. Смертность среди женщин в России возросла в большей степени, чем среди мужчин, и это характерно для большинства возрастных групп. Наиболее уязвимыми перед вирусом оказались женщины 65–69 лет – прирост смертности в этой возрастной группе был самым большим.
Обсуждение и заключение. Кроме прямых демографических потерь от COVID-19, зафиксирован рост смертности от других причин. Миграционный прирост в Российской Федерации в первый год пандемии сократился в 2 раза, но оставался на уровне 2018 г. Вследствие введенных жестких ограничений на перемещение населения процесс урбанизации в стране замедлился, миграционная убыль сельского населения уменьшилась. Результаты проведенного исследования могут быть полезны для ученых, занимающихся вопросами демографического развития, а также использованы при оценке эффективности мер, предпринятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в 2020 г.
Полный текст
Введение.
Демографическое развитие постсоветской России характеризуется естественной убылью населения, начавшейся в 1992 г. Непродолжительный период (2013–2015 гг.) в стране отмечалось небольшое превышение рождаемости над смертностью, но его величина была низкой – суммарно за 3 года численность населения Российской Федерации в результате его естественного движения увеличилась на 86,4 тыс. чел. Уже в 2017 г. этот прирост был значительно перекрыт, а в 2020 г. естественная убыль в России превысила 702 тыс. чел.1.
2020 г. вошел в мировую историю как период жизнедеятельности людей в состоянии высокой степени неопределенности – на планете появился новый и очень опасный вирус; как ему противостоять, никто на начальном периоде не знал, защитные вакцины только начали разрабатывать. Одновременно нужно было лечить заболевших COVID-19, стараясь не пропустить и не запустить и другие опасные заболевания, оказывать помощь находящимся в изоляции гражданам из группы повышенного риска по COVID-19, и кроме этого поддержать экономику, которая тоже сильно пострадала из-за введенных по всему миру ограничительных мер, направленных на рассредоточение населения и перекрытие путей распространения инфекции. Если экономические потери многие страны компенсировали уже в 2021 г., то демографические – невосполнимы. От COVID-19 умерло 6 332 тыс. чел.2.
Поскольку, как предупреждают специалисты, пандемия COVID-19 не последняя и, скорее всего, не самая страшная, то ученым предстоит детально изучить, сравнить и оценить эффективность мер, предпринятых для минимизации последствий пандемии и сохранения жизни людей. В такой ситуации значимость научных исследований, основанных на использовании разных источников и методик, существенно возрастает, поскольку это повышает шансы приблизиться к истине, а значит, более полно представить картину происходящего, что, возможно, позволит выявить закономерности и особенности изучаемых процессов и на этой основе сохранить как можно больше человеческих жизней и минимизировать последствия для экономики, которые тоже отражаются на уровне и качестве жизни людей.
Цель статьи – проанализировать демографические изменения, произошедшие в Российской Федерации в 2020 г., выявить особенности естественного и механического движения населения, что позволит говорить об эффективности мер, предпринятых на начальном этапе пандемии, и оценить целесообразность их применения в последующем при возникновении подобной угрозы.
Обзор литературы.
Как показывает мировая демографическая история, последствия тех или иных событий и решений могут сказываться на динамике народонаселения длительное время: долго не затухают демографические волны, при всем желании невозможно быстро изменить возрастно-половую структуру населения, сложно перенаправить в «нужное русло» миграционные потоки. Многие россияне почти забыли о трудном периоде 1990-х гг., когда вследствие предпринятых очень болезненных мер резко увеличилась смертность, а репродуктивное поведение россиян изменилось настолько, что в мире стали говорить об исчезновении мировой державы3. Однако демографическая история и напомнила об этом «демографической ямой», в которой оказалась Россия, когда в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение граждан, родившихся во второй половине 1990-х гг. Поэтому с особой обеспокоенностью ученые ожидали снижения рождаемости в ковидный период из-за страха перед вызванными пандемией экономическими трудностями и последствиями для беременности [1, с. 698].
На показателях 2020 г. эти опасения будущих родителей сильно не отразились, поскольку в России вирус начал активно распространяться лишь в марте того года. Это значит, что в большинстве случаев при планировании рождения ребенка в 2020 г. пары не принимали во внимание опасность эпидемии. Статистика это подтвердила: снижение рождаемости в стране в целом в 2020 г. в сравнении с предыдущим годом замедлилось, а в 17 субъектах в первый год пандемии общий коэффициент рождаемости увеличился или остался на уровне 2019 г.4. Более того, специалисты выявили рост оценок гражданами ситуации в месте непосредственного проживания, а также небольшое кратковременное снижение оценок ситуации в семье и ближнем окружении с последующим быстрым подъемом до уровня, превысившего допандемийное значение5.
Отсутствие выраженного влияния на рождаемость в первый год пандемии отмечает и Г. Н. Ершова, проанализировавшая влияние COVID-19 на демографическую ситуацию в Республике Татарстан – автор, в частности, отмечает, что сокращение рождаемости в этой приволжской республике, как и в стране в целом, в 2020 г. не было настолько же сильным, как годом ранее6.
Ученые предупреждают, что существенное падение рождаемости может произойти в 2021 г., когда в полной мере проявится специфика репродуктивного поведения населения, характерная для 2020 г.7.
Последствия пандемии, вероятно, также будут сказываться на развитии народонаселения продолжительное время. Первые оценки демографических потерь, сделанные учеными, неоднозначны (есть государства, в которых роста смертности не произошло). Если в большинстве стран мира в 2020 г. ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась, то в ряде стран этот показатель не изменился (например, в Дании, Исландии и Южной Корее) и даже увеличился (в Новой Зеландии, Норвегии и на Тайване) [2].
Поэтому исследования проблем распространения COVID-19 и его последствий проводятся не только медиками, экономистами, социологами, но и с позиции географии [3; 4]. Ученые, представляющие другие отрасли знания, также отмечают разное влияние пандемии COVID-19 на городские и сельские территории [5; 6].
Российские исследователи установили, что в регионах нашей страны сильно различаются и показатели заболеваемости COVID-19, и показатели смертности от коронавируса. Как особенно неблагополучные в части распространения коронавирусной инфекции в 2020 г. учеными были названы обе столичные агломерации и северные поселки вахтовиков [2], а также некоторые регионы Северного Кавказа [7]. Наиболее высокой смертность от COVID-19, по мнению ученых, в 2020 г. была в европейской части России [8].
Особого внимания требует рост COVID-ассоциированной смертности, т. е. смертности от других причин, косвенно связанных с пандемией, – постковидного синдрома (или лонгковида), тяжелого течения хронических заболеваний, несвоевременной диагностики, несвоевременного оказания медицинской помощи и др. [5]. Кроме того, в первый год пандемии Росстат зафиксировал рост числа случаев смерти от случайного отравления алкоголем, прервавший многолетнюю обратную тенденцию8. Специалисты отмечают всплеск и утяжеление последствий употребления наркотиков9. Официальная статистика это подтверждает10.
Для оценки масштабов последствий пандемии COVID-19 ученые проводят демографические расчеты, основываясь на разных источниках и методах. Наиболее часто для оценки демографических потерь от COVID-19 используются показатели «избыточная смертность»11 [9; 10], «число непрожитых лет» [2]. Поскольку эпидемиологический процесс развивается волнообразно, ученые предлагают определять сверхсмертность еженедельно [11]. Конечно, это позволило бы получить более точные данные, а следовательно, лучше подготовиться к подобной ситуации, но в открытых источниках такая информация отсутствует.
Согласно исследованию, проведенному группой ученых под руководством эпидемиолога Н. Ислама (Оксфордский университет), оценивших разницу между ожидаемой и реальной продолжительностью жизни в разрезе возрастных групп, в Российской Федерации продолжительность жизни мужчин уменьшилась на 2,33 года, женщин – на 2,14 года, и наибольшее число потерянных лет жизни в 2020 г. было характерно именно для России [2].
Изучив опубликованные исследования о влиянии пандемии на естественное движение населения, мы пришли к выводу, что достоверно оценить человеческие потери вследствие атаки SARS-CoV-2 практически невозможно. Во-первых, по той причине, что методики счета в разных странах отличаются. Во-вторых, не всегда своевременно и должным образом проводилось тестирование. Нередки случаи, когда диагноз COVID-19 не был установлен даже после пребывания в ковидном стационаре, поскольку проведенное тестирование его не выявило. В-третьих, как отмечают некоторые авторы, точность официальных данных о смертности от COVID-19 во многих странах сомнительна [2]. В-четвертых, кроме летальных исходов непосредственно от COVID-19 необходимо учитывать и потери, косвенно связанные с пандемией, поскольку вследствие перепрофилирования многих лечебных учреждений в инфекционные и большой загруженности звена скорой помощи не все нуждающиеся в медицинской помощи могли ее своевременно получить. В-пятых, необходимо учитывать и участившиеся случаи смертности не только от болезней, но и от внешних причин, связанных с изоляцией и стрессом.
Второй фактор развития народонаселения – миграция. Демографическая ситуация и экономическое развитие ряда стран сильно зависят от внешней миграции, например, Новой Зеландии, Австралии, Канады, Германии и других стран. Различным аспектам международной миграции посвящены исследования таких зарубежных ученых, как А. И. Алеку [12], A. Геддес [13], Л. Грип [14], Д. МакКормак-Джордж [15], K. Нэттер [16], M. Шейн [17].
Зависимость демографической ситуации в нашей стране от внешней миграции не так высока, как в перечисленных странах: если, например, в Канаде коэффициент миграционного прироста в допандемийный период был равен 11,3 на 1 000 чел. населения (2017 г.), то в Российской Федерации он составлял 1,9 на 1 000 чел. населения (2019 г.)12. Однако недооценивать этот фактор формирования населения и рабочей силы России и ее регионов нельзя, о чем предупреждают российские ученые [18–21].
Материалы и методы.
Источник информации – данные Федеральной службы государственной статистики России, публикации периодической научной печати, данные интернет-источников.
Обобщение результатов опубликованных научных исследований проводилось на основе контент-анализа. Критический подход позволил выявить несоответствие между опубликованными материалами и данными официальной статистики; демографические изменения установлены на основе методов демографического анализа; расчет COVID-ассоциированных демографических потерь в результате роста смертности проводился путем определения числа избыточных смертей от других причин, по которым в 2020 г. зафиксирован разворот многолетнего тренда.
Результаты исследования.
По данным Росстата, по показателю продолжительности жизни, который, по сути, отражает общую ситуацию в стране, включая и состояние здоровья населения, и уровень их жизни, и организацию здравоохранения, Россия в 2020 г. была отброшена на несколько лет назад: по продолжительности жизни мужчин – на уровень 2016 г., женщин – 2014 г. (табл. 1)
Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет13
Table 1. Life expectancy at birth, years
Годы / Year | Все население /Total population | Городское население /Urban population | Сельское население /Rural population | ||||||
всего /total | муж. /males | жен. /females | всего /total | муж. /males | жен. /females | всего /total | муж. /males | жен. /females | |
2010 | 68,94 | 63,09 | 74,88 | 69,69 | 63,82 | 75,39 | 66,92 | 61,19 | 73,42 |
2011 | 69,83 | 64,04 | 75,61 | 70,51 | 64,67 | 76,10 | 67,99 | 62,40 | 74,21 |
2012 | 70,24 | 64,56 | 75,86 | 70,83 | 65,10 | 76,27 | 68,61 | 63,12 | 74,66 |
2013 | 70,76 | 65,13 | 76,30 | 71,33 | 65,64 | 76,70 | 69,18 | 63,75 | 75,13 |
2014 | 70,93 | 65,29 | 76,47 | 71,44 | 65,75 | 76,83 | 69,49 | 64,07 | 75,43 |
2015 | 71,39 | 65,92 | 76,71 | 71,91 | 66,38 | 77,09 | 69,90 | 64,67 | 75,59 |
2016 | 71,87 | 66,50 | 77,06 | 72,35 | 66,91 | 77,38 | 70,50 | 65,36 | 76,07 |
2017 | 72,70 | 67,51 | 77,64 | 73,16 | 67,90 | 77,96 | 71,38 | 66,43 | 76,66 |
2018 | 72,91 | 67,75 | 77,82 | 73,34 | 68,11 | 78,09 | 71,67 | 66,75 | 76,93 |
2019 | 73,34 | 68,24 | 78,17 | 73,72 | 68,56 | 78,41 | 72,21 | 67,36 | 77,39 |
2020 | 71,54 | 66,49 | 76,43 | 71,81 | 66,67 | 76,61 | 70,69 | 65,97 | 75,82 |
За первый год пандемии продолжительность жизни российских мужчин уменьшилась на 1,75 года (или 2,6 %), женщин – на 1,74 года (2,2 %). Существенное различие в уровне относительных показателей динамики при примерно одинаковых абсолютных отклонениях измеряемых величин объясняется различающейся базой – продолжительность жизни мужчин в России была и остается меньше, чем женщин. Асимметрия показателя в 2010 г. составляла 11,71 года, в 2019 г. – 9,93 года, в 2020 г. – 9,94 года14. В 2010–2019 гг. произошло заметное сближение показателя, в 2020 г. различия в продолжительности жизни мужчин и женщин в России вновь немного увеличились.
Можно было бы предположить, что это связано с пандемией. Однако подобное наблюдалось в предшествующий непродолжительный, по демографическим меркам, период неоднократно: в 2001 г. асимметрия рассматриваемого показателя усилилась на 0,02 года, в 2003 г. – на 0,08, в 2004 г. – на 0,15, в 2005 г. – на 0,1, в 2014 г. – на 0,01 года15. Это не позволяет с полной уверенностью утверждать, что более существенное сокращение ожидаемой продолжительности жизни мужчин в России в 2020 г. произошло вследствие пандемии.
Городское население России пострадало от COVID-19 в большей степени, чем сельское: продолжительность жизни горожан уменьшилась на 1,91 года (или на 2,6 %), сельских жителей – на 1,52 года (или на 2,1 %). Продолжительность жизни мужчин, проживающих в городской местности, в абсолютных значениях сократилась немного больше, чем женщин, но в относительных из-за более низкой базы уменьшение показателя было более значительным – на 1,89 года (или на 2,8 %) и 1,8 года (или на 2,3 %) соответственно. В сельской местности в абсолютном измерении сильнее пострадала женская часть населения (уменьшение продолжительности жизни на 1,57 года против 1,39 года у мужчин), относительные отклонения по половым группам примерно одинаковы – минус 2,0 % и минус 2,1 % соответственно (табл. 1).
Поскольку у мужчин, по статистике, продолжительность жизни меньше, чем у женщин16, считаем более правильным оценивать абсолютные изменения, а они не подтверждают того, что мужчины в пандемию пострадали сильнее, чем женщины. Об этом говорит тот факт, что асимметрия продолжительности жизни представителей разного пола в Российской Федерации в 2020 г. увеличилась незначительно – на 0,01 года, а также то обстоятельство, что такие и даже более значительные изменения разницы в продолжительности жизни полов в России происходили в допандемийный период довольно часто (2001, 2003, 2004, 2005, 2014 гг.).
Таким образом, на основании анализа данных Росстата о динамике продолжительности жизни в России в период пандемии с уверенностью можно утверждать только то, что продолжительность жизни россиян снизилась. Абсолютные изменения в продолжительности жизни представителей разных полов не позволяют говорить о том, что один из них оказался более подверженным тяжелому течению COVID-19.
Рассмотрим показатели смертности. В последние годы, благодаря реализуемым в стране многочисленным программам, направленным на охрану здоровья россиян, смертность заметно снизилась: с 16,4 умерших на 1 000 чел. населения в 2003 г. до 12,3 промилле в 2019 г. Пандемия COVID-19 нарушила многолетнюю тенденцию почти ежегодного снижения смертности (за исключением небольшого повышения показателя в 2005, 2010, 2014 и 2018 гг.). С началом пандемии коэффициент смертности резко увеличился и составил в 2020 г. 14,6 умерших на 1 000 чел. населения (табл. 2). Это позволяет говорить о том, что прирост смертности в России в 2020 г. в большей степени был прямо или косвенно связан с пандемией.
Таблица 2. Коэффициенты смертности в Российской Федерации в 2000–2020 гг. (умершие на 1 000 чел. населения)17
Table 2. Mortality rates of the Russian Federation in 2000–2020 (deaths per 1000 population)
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
16,4 | 15,9 | 16,1 | 15,1 | 14,6 | 14,5 | 14,1 | 14,2 | 13,5 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
13,3 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 14,6 |
Анализ возрастных коэффициентов смертности показывает, что в первый год пандемии младенческая смертность по обоим полам продолжала снижаться, смертность детей и подростков не увеличилась. Рост смертности мужчин отмечается, начиная с 25–29 лет с усилением в каждой последующей возрастной группе, женщин – с 30–34 лет с волнообразными изменениями в более старших категориях. Это убедительно доказывает, что чем старше человек, тем больше риск тяжелого течения COVID-19 (табл. 3).
Таблица 3. Возрастные коэффициенты смертности (умершие на 1 000 чел. населения соответствующей возрастной группы)18
Table 3. Age-specific mortality rates (deaths per 1000 population of relevant age group)
Возраст /age | Мужчины / Males | Женщины / Females | ||||
2019 | 2020 | 2020 г. к 2019 г., % | 2019 | 2020 | 2020 г. к 2019 г., % | |
Всего / Total | 13,2 | 15,7 | 118,9 | 11,4 | 13,7 | 120,2 |
из них в возрасте, лет / of which at age, years |
|
|
|
|
|
|
0 | 5,3 | 5,0 | 94,3 | 4,4 | 3,9 | 88,6 |
1–4 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 0,2 | 66,7 |
5–9 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
10–14 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
15–19 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
20–24 | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
25–29 | 2,0 | 2,1 | 105,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
30–34 | 3,5 | 3,7 | 105,7 | 1,2 | 1,3 | 108,3 |
35–39 | 5,6 | 5,9 | 105,4 | 2,0 | 2,1 | 105,0 |
40–44 | 7,8 | 8,5 | 109,0 | 2,7 | 3,1 | 114,8 |
45–49 | 9,5 | 10,7 | 112,6 | 3,4 | 4,1 | 120,6 |
50–54 | 13,0 | 14,6 | 112,3 | 4,6 | 5,5 | 119,6 |
55–59 | 18,7 | 21,2 | 113,4 | 6,7 | 8,0 | 119,4 |
60–64 | 28,4 | 32,4 | 114,1 | 9,8 | 12,0 | 122,4 |
65–69 | 39,1 | 46,7 | 119,4 | 15,2 | 18,8 | 123,7 |
70 и более / 70 and over | 81,8 | 99,8 | 122,0 | 65,0 | 75,5 | 116,2 |
в трудоспособном возрасте / at working age | 7,1 | 8,2 | 115,5 | 2,1 | 2,5 | 119,0 |
0–17 | 0,6 | 0,5 | 83,3 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
Смертность среди женщин в Российской Федерации возросла в большей степени, чем среди мужчин (на 20,2 % против 18,9 %). Можно было бы предположить, что это связано с более высокой продолжительностью жизни женщин и различиями возрастных структур, поскольку удельный вес пожилых, которые оказались в зоне повышенного риска тяжелого течения COVID-19, в составе женщин больше, чем среди мужчин. Однако существенные различия в динамике смертности по возрастным группам не подтверждают это предположение: сравнение возрастных коэффициентов смертности показало, что среди женщин прирост смертности был больше, чем среди мужчин, в большинстве возрастных групп; исключение составляют только категории 25–29 лет и 35–39 лет. Подобное соотношение наблюдается также в группе 70 лет и более, но в данном случае уместно напомнить, что продолжительность жизни российских мужчин не достигала в 2019 г. нижней границы этого интервала. Коэффициент смертности в трудоспособном возрасте мужчин, несмотря на то, что верхняя граница трудоспособности у них выше, увеличилась на 15,5 %, женщин – на 19,0 %.
Наиболее уязвимыми перед вирусом оказались женщины 65–69 лет – прирост смертности в этой возрастной группе составил почти 24 %. И это несмотря на то, что для работающих граждан 65 лет и старше в 2020 г. длительное время оформлялись электронные листки нетрудоспособности. По группе мужчин этого возраста прирост смертности тоже был очень большим – 19 %, больше только в самой старшей возрастной группе. Предпринятые в борьбе с коронавирусом меры могли не привести к ожидаемому результату по причине их массового нарушения, и в этом случае речь может идти о недостаточном контроле над соблюдением установленных ограничений. Так, прирост коэффициента смертности женщин 65–69 лет был не только больше, чем в возрастной категории 60–64 лет, на которую запрет не распространялся (т. е. они продолжали работать, а значит, пользоваться общественным транспортом и близко контактировать с коллегами по работе), но и в 1,5 раза превысил этот показатель среди женщин 70 лет и старше. Прирост смертности мужчин в возрасте 65–69 лет тоже был существенно больше, чем в предыдущей возрастной группе. Эта зафиксированная официальной статистикой особенность требует пристального внимания со стороны медицинских работников.
Таким образом, анализ динамики смертности в первый год пандемии COVID-19 показал, что смертность среди женщин увеличилась в большей степени, чем среди мужчин, особенно в трудоспособном возрасте; прирост смертности в возрасте 65–69 лет был очень высоким, а по группе женщин – самым высоким среди всех возрастных групп.
Согласно медицинской статистике, в 2020 г. в нашей стране коронавирусная инфекция, вызванная Covid-19, стала причиной смерти 144,7 тыс. чел. Это в 2,5 раза больше, чем от инфаркта миокарда. Кроме того, 2020 г. характеризуется ростом смертности и от других причин. Вопреки многолетней тенденции снижения смертности от болезней органов дыхания, в 2020 г. по этому классу причин зафиксирован взрывной рост смертности – прирост числа смертей в расчете на 100 000 чел. населения составил 63,5 %.
Значительный рост смертности в первый год пандемии после многолетнего периода снижения отмечался и по таким болезням, как ишемическая болезнь сердца (прирост 15 %), цереброваскулярные болезни (7 %), инфаркт миокарда (прирост 6 %). В 2020 г. более чем на 9 % увеличился коэффициент смертности от болезней органов пищеварения. Хотя увеличение числа смертей, вызванных этими болезнями, отмечалось и в предыдущий год, оно не было столь значительным: в 2019 г. рассматриваемый показатель увеличился на 3 %, а в 2010–2015 гг., характеризующихся значительным ростом смертности от этих болезней, – на 8 %. На 4,5 % возросла смертность от случайных отравлений алкоголем, что тоже нарушило многолетнюю тенденцию (табл. 4).
Таблица 4. Умершие по основным классам причин смерти, на 100 000 чел. населения19
Table 4. Mortality by major causes of death, per 100 000 population
Класс причин смерти /major causes of death | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Умершие от всех причин / All causes of death | 1 605,3 | 1 420,0 | 1 303,6 | 1 245,6 | 1 225,3 | 1 460,2 |
из них / of which: |
|
|
|
|
|
|
от новообразований / neoplasms | 200,6 | 205,2 | 205,1 | 203,0 | 203,5 | 202,0 |
от болезней системы кpовообращения / diseases of the circulatory system | 905,4 | 806,4 | 635,3 | 583,1 | 573,2 | 640,8 |
из них / of which: |
|
|
|
|
|
|
от ишемической болезни сердца / from coronary heart disease | 435,9 | 418,6 | 337,9 | 308,7 | 301,4 | 347,3 |
из них от инфаркта миокарда / | 44,6 | 47,2 | 43,5 | 38,8 | 37,3 | 39,7 |
от цереброваскулярных болезней / from cerebrovascular diseases | 324,1 | 260,6 | 198,3 | 179,5 | 177,6 | 190,2 |
от внешних причин смерти / external causes of death | 220,1 | 151,8 | 121,3 | 98,5 | 93,8 | 95,3 |
из них / of which: |
|
|
|
|
|
|
от случайных отравлений алкоголем / accidental poisoning by alcohol | 28,5 | 13,4 | 10,4 | 7,5 | 6,7 | 7,0 |
от всех видов транспортных несчастных случаев / all types of transport accidents | 28,0 | 20,0 | 17,0 | 13,0 | 12,1 | 11,6 |
от самоубийств / suicides | 32,1 | 23,4 | 17,4 | 12,4 | 11,7 | 11,3 |
от убийств / homicides | 24,8 | 13,3 | 8,2 | 5,4 | 5,0 | 4,7 |
от болезней оpганов дыхания / diseases of the respiratory system | 66,0 | 52,4 | 51,8 | 41,6 | 40,3 | 65,9 |
от болезней оpганов пищеваpения / diseases of the digestive system | 65,4 | 64,4 | 69,6 | 65,0 | 67,0 | 73,3 |
от некоторых инфекционных и паpазитаpных болезней / certain infectious and parasitic diseases | 27,2 | 23,5 | 23,5 | 23,6 | 22,4 | 20,6 |
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) / from the disease caused by the human immunodeficiency virus (HIV) | 1,1 | 4,7 | 10,6 | 14,6 | 13,7 | 12,6 |
Это позволяет говорить о том, что рост смертности населения России от болезней органов дыхания, системы кровообращения и заболеваний органов пищеварения в 2020 г. был связан с пандемией COVID-19. Если бы в 2020 г. от перечисленных причин умерло хотя бы не больше людей, чем годом ранее (хотя статистика фиксирует многолетнюю тенденцию к снижению, что позволяет предположить, что без COVID-19 смертность от этих причин в 2020 г. могла быть и ниже, чем в 2019 г.), то демографические потери были бы на 143,7 тыс. чел. меньше – это примерно столько же жизней, сколько было прервано непосредственно COVID-19. Такие результаты борьбы с заболеванием (когда на каждые 100 чел. умерших от ранее неизвестной инфекции умерло от других заболеваний на 99 чел. больше, чем годом ранее) заставляют усомниться в достоверности данных о причинах смерти.
Специалистам необходимо доподлинно установить, насколько рост смертности в 2020 г. в нашей стране был связан с COVID-19 и насколько эффективными были предпринятые меры, поскольку от этого зависит то, насколько подготовленной окажется отечественная система здравоохранения к новой вирусной атаке. Для такого анализа, в первую очередь, необходима максимально полная и точная статистическая информация, которой, надеемся, специалисты располагают, поскольку те данные, что опубликованы Росстатом, вызывают определенное недоверие. (Хотя понимаем, что эта служба только свела данные, полученные из других источников.) Надеемся также, что специалисты располагают и более оперативной информацией, поскольку в открытых источниках доступны данные только за 2020 г., а информация за 2021 г., согласно графику публикаций Росстата, появится в конце 2022 г.
Второй компонент демографической динамики – миграция – значительного влияния на воспроизводство населения современной России в целом не оказывает: миграционный прирост в последние годы не превышает 0,2 % от численности населения страны. В первый год пандемии, когда практически все страны закрыли свои границы, миграционный прирост в Российской Федерации хотя и был в 2 раза меньше, чем годом ранее, но оставался на уровне 2018 г.20, т. е. сокращение притока мигрантов шоком для страны не стало. Хотя периодически появлялась информация о нехватке рабочей силы, но эти вопросы оперативно решались.
Кроме того, что миграционный прирост в Российской Федерации в 2020 г. резко сократился, большие изменения произошли и в возрастно-половой структуре миграции. Если до пандемии в составе миграционного прироста преобладали мужчины, которых было на 1/3 больше, чем женщин, то в 2020 г. картина кардинально изменилась – женщин стало в 1,5 раза больше, чем мужчин (табл. 5). Это дает основания предположить, что поток сократился за счет трудовых мигрантов, среди которых в основном преобладают мужчины. В пользу этой гипотезы говорят и изменения возрастной структуры миграционного прироста: по обоим полам уменьшился удельный вес трудоспособного возраста и увеличились доли категорий моложе и старше трудоспособного возраста. Подтвердится ли данное предположение, станет известно в конце 2022 г., когда будут опубликованы данные Росстата за 2021 г.
Таблица 5. Миграционный прирост населения. Распределение по полу и возрастным группам, 2019–2020 гг.21
Table 5. Migration population growth. Distribution by sex and age groups, 2019–2020
Пол / Sex Возрастная группа / Age group
| Миграционный прирост (всего) /Migration population growth (total) | |
2019 | 2020 | |
1 | 2 | 3 |
Мужчины и женщины, чел. / Males and females, persons | 285 103 | 106 474 |
Мужчины и женщины по основным возрастным группам, % / Males and females, by age groups, percent: |
|
|
моложе трудоспособного возраста / under working age | 11,1 | 19,9 |
в трудоспособном возрасте / at working age | 77,3 | 59,7 |
старше трудоспособного возраста / over working age | 11,6 | 15,0 |
Мужчины, чел. / Males, persons | 163 090 | 42 478 |
Мужчины по основным возрастным группам / Males by age groups: |
|
|
моложе трудоспособного возраста / under working age | 10,2 | 25,1 |
в трудоспособном возрасте / at working age | 83,7 | 65,9 |
старше трудоспособного возраста / over working age | 6,1 | 9,1 |
Женщины, чел. / Females, persons | 122 013 | 63 996 |
Женщины по основным возрастным группам, % / Females, by age groups, percent: |
|
|
моложе трудоспособного возраста / under working age | 12,3 | 16,5 |
в трудоспособном возрасте / at working age | 68,6 | 64,7 |
старше трудоспособного возраста / over working age | 19,1 | 18,9 |
Положительно следует оценить то, что вследствие введенных жестких ограничений процесс урбанизации в нашей стране замедлился, и миграционная убыль сельского населения уменьшилась с 62 тыс. чел. в 2019 г. до 39 тыс. чел. в 2020 г. 22.
Таким образом, снижение интенсивности механического движения населения в первый год пандемии не стало серьезным негативным фактором для демографического развития Российской Федерации. Более того, возрос интерес горожан к отдыху в сельской местности, что проявилось в спросе и ценах на загородную недвижимость23. К положительному явлению также относится и то, что в 2020 г. в результате перераспределения населения между регионами численность сельских жителей немного возросла – на 15,2 тыс. чел., поддерживая наметившуюся тенденцию (ранее за многолетний период такое отмечалось только в 2018 (+1,2 тыс. чел.) и в 2019 гг. (+21,2 тыс. чел.)24.
Обсуждение и заключение.
Вследствие роста смертности в первый год пандемии COVID-19 продолжительность жизни россиян сократилась на 1,8 года и составила 71,54 года, что меньше, чем в 2017 г. Городская местность понесла большие демографические потери вследствие роста смертности, что проявилось в более существенном уменьшении продолжительности жизни городского населения по сравнению с сельскими жителями. Роста смертности детей и подростков в нашей стране в 2020 г. не произошло, как и молодежи до 25 лет. В каждой последующей возрастной группе мужчин зафиксировано усиление темпа роста показателей смертности, среди женщин это отмечается, начиная с 30-летнего возраста.
Смертность среди женщин в Российской Федерации возросла в большей степени, чем среди мужчин, и это характерно для большинства возрастных групп. Коэффициент смертности в трудоспособном возрасте мужчин, несмотря на то, что верхняя граница трудоспособности у них выше, увеличилась в меньшей степени, чем этот показатель по группе женщин. Наиболее уязвимыми перед вирусом оказались женщины 65–69 лет – прирост смертности в этой возрастной группе был самым большим.
Кроме прямых демографических потерь от COVID-19 (144,7 тыс. чел. в 2020 г.), зафиксирован нарушивший многолетнюю тенденцию рост смертности от других причин – болезней органов дыхания, ишемической болезни сердца, цереброваскулярных болезней, а также от болезней органов пищеварения и случайных отравлений алкоголем. Косвенные демографические потери от COVID-19 в 2020 г., рассчитанные путем оценки прироста смертности от перечисленных причин, составили не менее 143,7 тыс. чел.
Миграционный прирост в Российской Федерации в первый год пандемии сократился в 2 раза, но оставался на уровне 2018 г. Изменения возрастно-половой структуры миграционного прироста дают основания предположить, что сокращение произошло в основном за счет трудовых мигрантов, а значит, при стабилизации эпидемиологической ситуации и открытии границ следует ожидать восстановления потока. Вследствие введенных жестких ограничений на перемещение населения, процесс урбанизации в стране замедлился, миграционная убыль сельского населения уменьшилась.
Результаты проведенного исследования могут быть полезны для ученых, занимающихся вопросами демографического развития, а также использованы при оценке эффективности мер, предпринятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в 2020 г. Исследования в этом направлении должны быть продолжены после публикации данных за 2021 г. и результатов Всероссийской переписи населения.
1 Демографический ежегодник России. 2021 [Электронный ресурс] : стат. сб. M. : Росстат, 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dem21.pdf (дата обращения: 10.04.2022).
2 Коронавирус-монитор [Электронный ресурс]. URL: https://coronavirus-monitor.info (дата обращения: 24.06.2022).
3 Зиверт Ш., Захаров С., Клингхольц Р. Исчезающая мировая держава. Демографическое будущее России и других бывших союзных государств / пер. с нем. Ю. Штраух ; науч. ред. С. В. Захаров. Берлин : Berlin Institute for Population and Development, 2011. 150 с.
4 Регионы России. Социально-экономические показатели : стат. сб. М., 2021. С. 65–66.
5 Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России. М., 2020. 744 с.
6 Ершова Г. Н. COVID-19 как фактор конструирования демографической ситуации в Республике Татарстан : моногр. Казань : Изд-во «Познание» Казан. инновацион. ун-та, 2021. 178 с. doi: https://doi.org/10.51285/978-5-8399-0787-4
7 Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, противодействие : моногр. / А. В. Торкунов [и др.] ; под ред. А. В. Торкунова, С. В. Рязанцева, В. К. Левашова. М. : Аспект Пресс, 2021. С. 159.
8 Здравоохранение в России. 2021 : стат. сб. M. : Росстат, 2021. С. 21–22.
9 Смертность от наркотиков в России возросла на 60 % на фоне пандемии [Электронный ресурс] // РБК : сайт. URL: https://www.rbc.ru/economics/18/07/2021/60f1b7cc9a79472c99206f4d (дата обращения: 18.05.2022).
10 Здравоохранение в России. С. 46.
11 «Черный лебедь» в белой маске. Аналитический доклад НИУ ВШЭ к годовщине пандемии COVID-19 / под ред. С. М. Плаксина, А. Б. Жулина, С. А. Фаризовой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. С. 55–83.
12 Россия и страны мира. 2020 : стат. сб. M. : Росстат, 2020. С. 54.
13 Таблица составлена автором по: Российский статистический ежегодник : стат. сб. M. : Росстат, 2021. С. 101.
14 Там же. С. 90.
15 Там же. С. 101.
16 Россия и страны мира. 2020 : стат. сб. M. : Росстат 2020. С. 50–51.
17 Таблица составлена автором по: Демографический ежегодник России. 2021.
18 Таблица составлена автором по: Здравоохранение в России. С. 20.
19 Таблица составлена автором по: Здравоохранение в России. С. 21–22.
20 Российский статистический ежегодник : стат. сб. М. : Росстат, 2021. С. 90.
21 Таблица составлена автором по: Демографический ежегодник России : стат. сб. М. : Росстат, 2021. 7.5.
22 Демографический ежегодник России. 7.1.
23 Коронавирус вызвал рост спроса к загородному жилью в России [Электронный ресурс] // РБК : сайт. URL: https://realty.rbc.ru/news/5f855f6b9a79476336e30ae0 (дата обращения: 10.05.2022).
24 Демографический ежегодник России. 7.1.
Об авторах
Людмила Николаевна Липатова
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Автор, ответственный за переписку.
Email: ln.lipatova@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9357-6708
доктор социологических наук, кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний проспект, д. 57/43Список литературы
- Ибрагимова А. А., Ильдарханова Ч. И. Естественное воспроизводство российского населения в период пандемии коронавирусной инфекции: риски и последствия (на примере Республики Татарстан) // Регионология. 2021. Т. 29, № 3. С. 686–708. doi: https://doi.org/10.15507/2413-1407.116.029.202103.686-708
- Effects of COVID-19 Pandemic on Life Expectancy and Premature Mortality in 2020: Time Series Analysis in 37 Countries / I. Nazrul [et al.] // BMJ. 2021. Vol. 375. doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2021-066768
- Земцов С. П., Бабурин В. Л. COVID-19: пространственная динамика и факторы распространения по регионам России // Известия Российской академии наук. Серия географическая.2020. № 4. С. 485–505. doi: https://doi.org/10.31857/S2587556620040159
- Панин А. Н., Рыльский И. А., Тикунов В. С. Пространственные закономерности распространения пандемии COVID-19 в России и мире: картографический анализ // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2021. № 1. С. 62–77. URL: https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/810 (дата обращения: 10.04.2022).
- Сабгайда Т. П. Структура избыточной смертности, обусловленной пандемией новой коронавирусной инфекции, у городских и сельских жителей // Социальные аспекты здоровья населения. 2021. № 5. doi: https://doi.org/10.21045/2071-5021-2021-67-5-1
- Липатова Л. Н. Особенности демографического развития сельских территорий в условиях пандемии // Регионология. 2022. Т. 30, № 1 (118). С. 155–177. doi: https://doi.org/10.15507/2413-1407.118.030.202201.155-177
- Хасанова Р. Р., Зубаревич Н. В. Рождаемость, смертность населения и положение регионов в начале второй волны пандемии // Экономическое развитие России. 2021. Т. 28, № 1.С. 77–87. URL: http://www.edrussia.ru/images/pdf/2021/01/red_0121_Khasanova_Zubarevich.pdf(дата обращения: 12.05.2022).
- Щепин В. О., Хабриев Р. У. Особенности смертности населения Российской Федерации,Центрального округа и города Москвы в 2020 г. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021. Т. 29, № 2. С. 189–193. doi: https://doi.org/10.32687/0869-866X-2021-29-2-189-193
- Excess Mortality: The Gold Standard in Measuring the Impact of COVID-19 Worldwide? /T. Beaney [et al.] // Journal of the Royal Society of Medicine. 2020. Vol. 113, issue 9. Pp. 329–334.doi: https://doi.org/10.1177/0141076820956802
- Кашепов А. В. Избыточная смертность населения в 2020–2021 гг. // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 5, ч. 2. С. 200–207. doi: https://doi.org/10.17513/vaael.1706
- COVID-19: A Need for Real-Time Monitoring of Weekly Excess Deaths / D. A. Leon [et al.] //The Lancet. 2020. Vol. 395, issue 10234. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30933-8
- Alecu A. I., Drange I. Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation // Nordic Journal of Migration Research. 2019. Vol. 9, issue 1. Pp. 37–59. doi: http://doi.org/10.2478/njmr-2019-0001
- Geddes A., Scholten P. The Politics of Migration and Immigration in Europe. SAGE Publications Ltd, 2016. 288 р. doi: https://doi.org/10.4135/9781473982703
- Grip L. Knocking on the Doors of Integration: Swedish Integration Policy and the Production of a National Space // Journal of International Migration and Integration. 2020. Vol. 21, issue 3. doi:https://doi.org/10.1007/s12134-019-00691-y
- McCormack-George D. Equal Treatment of Third-Country Nationals in the European Union:Why Not? // European Journal of Migration and Law. 2019. Vol. 21, issue 1. Рp. 53–82. doi: https://doi.org/10.1163/15718166-12340042
- Natter K. Rethinking Immigration Policy Theory Beyond “Western Liberal Democracies” //Comparative Migration Studies. 2018. Vol. 6, no. 4. doi: https://doi.org/10.1186/s40878-018-0071-9
- Schain M. The Border: Policy and Politics in Europe and the United States. Oxford :Oxford University Press, 2019. 299 p. URL: https://global.oup.com/academic/product/the-border-9780199938698?lang=en&cc=ru (дата обращения: 15.05.2022).
- Абашин С. Н. Среднеазиатская миграция: практики, локальные сообщества, транснационализм // Этнографическое обозрение. 2012. № 4. С. 3–13. EDN: PCPDNV
- Гудков Л. Почему мы не любим приезжих? // Мир России. 2007. Т. 16, № 2. С. 48–82.URL: https://mirros.hse.ru/index.php/mirros/article/view/5178 (дата обращения: 12.05.2022).
- Денисова Г. С. Социологическая оценка влияния международной миграции на социально-экономическое развитие Ростовской области // Регионология. 2021. Т. 29, № 1. С. 126–151.doi: https://doi.org/10.15507/2413-1407.114.029.202101.126-150
- Зорин В. Ю. Миграционная обстановка в Российской Федерации: проблемы и решения // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2019. № 9 ( 3). С. 40–50. doi:https://doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-3-40-50
- Рязанцев В. С. Внешняя миграционная политика России: концептуальное обоснование и инструменты реализации // Международные процессы. 2016. Т. 14, № 4 ( 47). С. 22–29. doi:https://doi.org/10.17994/IT.2016.14.4.47.2
Дополнительные файлы