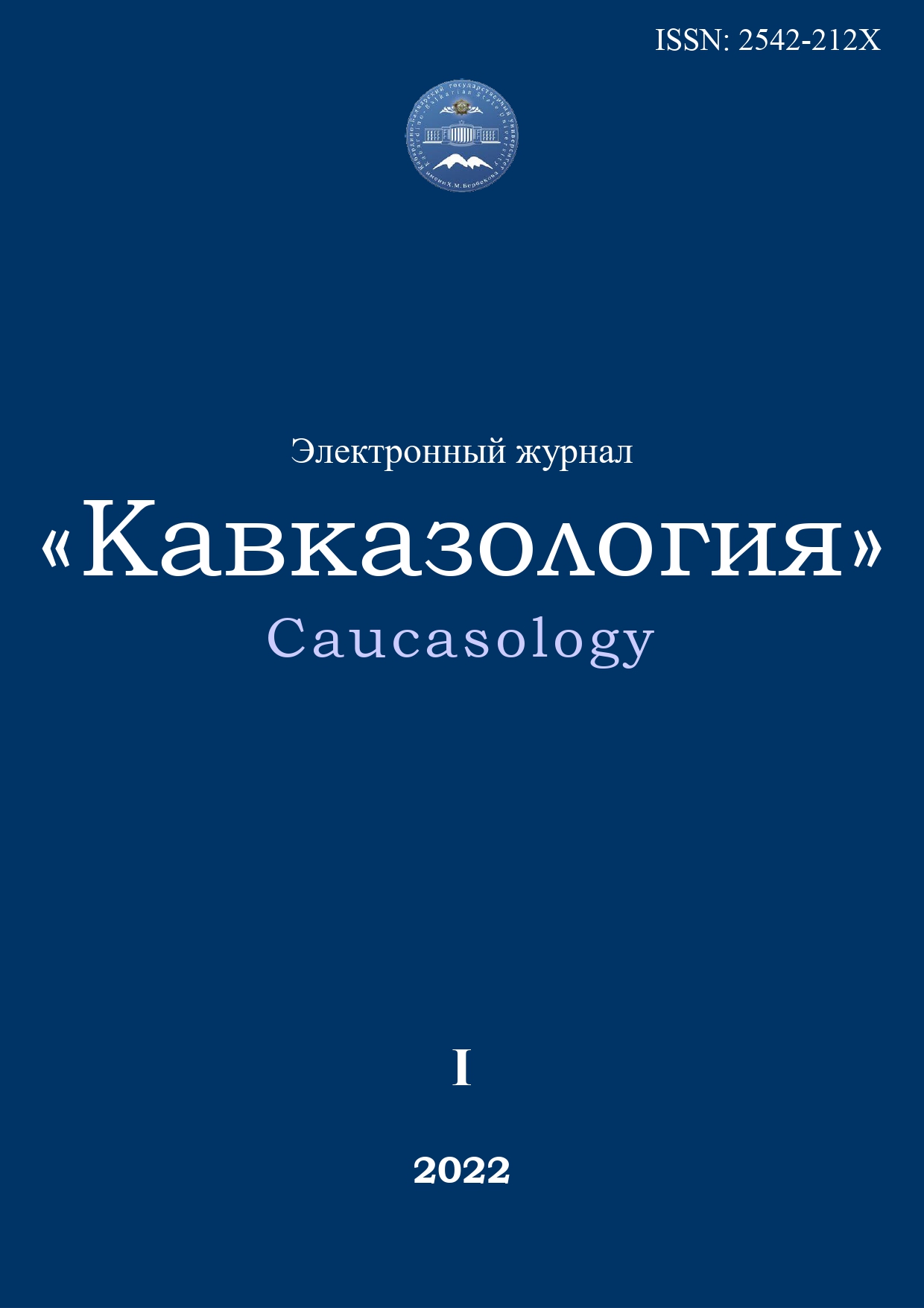Methods of portraiture in the story of B. Mazikhov "It's time for leaf fall"
- Авторлар: Urusov R.K.1, Shetova R.A.1
-
Мекемелер:
- Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov
- Шығарылым: № 1 (2022)
- Беттер: 140-152
- Бөлім: Literature of the peoples of the Russian Federation (literature of the peoples of the North Caucasus)
- ##submission.dateSubmitted##: 13.05.2025
- ##submission.datePublished##: 15.12.2022
- URL: https://journal-vniispk.ru/2542-212X/article/view/291562
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2022-1-140-152
- EDN: https://elibrary.ru/ASVOOA
- ID: 291562
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
Негізгі сөздер
Толық мәтін
Творчество Бориса Беслановича Мазихова (1940–2020) составило одну из интересных глав истории кабардинской литературы и журналистики. Его достижения в области прозы выходят за региональные пределы. В этом смысле наиболее близко к определению творческой «принадлежности» Б. Мазихова подошла универсальная интернет-энциклопедия «Википедия», назвав его «русский советский и кабардинский писатель, прозаик и журналист».
Библиографию о творчестве писателя составляет немало статей, написанных его собратьями по перу, но в основе этого перечня труды публицистического характера [Хашукоева 2013: 223-224]. Безусловно, преломившее лучшие традиции советской многонациональной прозы, творчество Б. Мазихова сконцентрировало в себе множество приемов и смыслов, достойных аналитического рассмотрения. Мы остановимся на способах портретирования его героев. Материалом для наших наблюдений послужит широко известная повесть «Пора листопада». В 1982 г. она была представлена на кабардинском языке, а в 1988 г. озаглавила опубликованный издательством «Советский писатель» сборник переводных произведенийБ. Мазихова.
Манера портретирования – один из способов высказывания писателя о человеке. Принято считать, что в формальном отношении портрет реализуется через прием описания. Словарь «Поэтика…» так его и трактует – «одна из разновидностей описания» [Поэтика… 2008: 176], в то же время «Литературная энциклопедия терминов и понятий» избегает подобной однозначности, указывая на возможность альтернативных средств изображения внешности: «Портрет в литературе – описание либо создание впечатления от внешнего облика персонажа, прежде всего лица, фигуры, одежды, манеры держаться…» (курсив наш. – Р.У., Р.Ш.) [Литературная… 2001: 762].
Семантическое разнообразие, обусловливающее собственный стиль в создании портретатем или иным писателем, обнаруживается благодаря целому ряду аспектов. Наиболее заметными и теоретически разработанными среди них являются: точка зрения, с которой оценивается внешность героя [Габель 1964: 150-166; Успенский 2005: 142-152], динамика и статика в его изображении; статус внешнего и духовного; проявленная через соотношение внешнего и духовного эволюция, которую претерпел портрет в истории литературы [Башкеева 2008: 140-142; Юркина 2006: 256-263]. Не менее функциональной является, по выражению В.В. Башкеевой, «примыкающая к портрету категория – имя» [Башкеева 2008: 141]. В частности, «предопределенность духовной трансформации главного героя семантикой его имени, а также раскрытие посредством интерпретации имен отдельных персонажей их функций, скрытых в подтексте произведения» [Шетова, Урусов 2017: 58] уже были прослежены нами на примере классического произведения кабардинской литературы.
Если эволюция портрета в европейской и русской литературе предстает как продвижение от нормативной заданности к изобразительной и психологической убедительности, со всеми сопровождающими данный процесс модификациями художественных средств [Юркина 2006: 263], то портрет в кабардинской литературе подчиняется примерно той же логике, но, разумеется, происходит это в собственных временных границах и качественных акцентах. В творчестве писателей-просветителей дореволюционного периода заметно влияние традиций романтизма в изображении человека. Однако это влияние нельзя назвать тотальным, и говорить о нормативности здесь не приходится. Равнение на образец становится нормативным лишь в послереволюционную эпоху.«Так называемые новописьменные литературы, в большинстве своем формировавшиеся на гребне социалистического строя, в реализацию нормативных идеалов включались активно» [Кажарова 2012: 84], и на этом этапе детерминированность наблюдается не только в выборе тем, но и человеческих типажей, а также средств их изображения. Основное внимание уделяется изображению общественных и социальных проблем времени. Литературный герой должен быть образцом для подражания. Это далеко уже не герой фольклора, хотя с ним нового героя сближает то, что они являются носителями народной мечты о лучшей жизни.
Однако с течением времени литературный герой становится более реалистичным, он несет в себе реальные черты современности. Писатели, обращаясь к историческим или современным темам, проникают в сущность событий, в психологию героя нового времени, стремятся к созданию развёрнутых художественных картин новой жизни [Шетова 2015b: 144]. Можно сказать, что уже в 1960-80-х гг. кабардинская проза совершает поворот к внутреннему миру героя (особенно ярко это проявляется в творчестве А. Кешокова, Х. Теунова, Ад. Шогенцукова), и отражение исторических событий становится неотделимым от психологического исследования характера героя [Шетова 2015a: 71].
Б. Мазихов приходит в литературу в середине 1960-х гг., когда в советской прозе начинает постепенно завоевывать позиции метод, который исследователи справедливо назовут «соцреализм с человеческим лицом». Культурные сдвиги, которыми отмечен период «оттепели», дают свободу отойти от героя-носителя нравственного максимализма и повернуться к человеку без прикрас, со всеми его противоречиями и сомнениями. В произведениях С. Залыгина, Б. Можаева, Д. Гранина, Ч. Айтматова, Г. Полонского, А. Гельмана и целого ряда других писателей типы положительного героя, утвердившиеся на предыдущем этапе развития советской литературы, либо подвергаются эстетической ревизии, либо претерпевают существенную трансформацию [Лейдерман, Липовецкий 2003: 30]. Разумеется, с отказом от пафосности меняется и манера изображения человека. Образно выражаясь, «парадный портрет» героя становится не актуален. «Тихая лирика», определяющая поэзию этого периода, не минует и прозу, придавая ей философское звучание, направляя русло читательского внимания к вопросам человеческой духовности.
Не ошибемся, если скажем, что самое заметное качество повести Б. Мазихова, проявленное уже на первом уровне ее восприятия – это философичность. Осеннее время года и «осенняя пора» в жизни героя составляют прямую аналогию, проходящую через все повествование, определяющую его заглавие и финал. К размышлениям о смысле жизненного пути, его итогах, будут подводить разные эпизоды.
Сюжетная линия повести выстроена вокруг поездки главного героя, Кургоко, к недавно обнаруженной могиле сына, погибшего в войну. Конечно, все, что связанос таким событием, преисполнено драматизма и высокого смысла, но в целом писатель показывает вполне стандартную для своего времени ситуацию. То же касается и внешности героев. Они изображены в этой ситуации вполне типично. Очень тонко эту типичность подметила и оценила С.М. Моттаева, увидев в сюжете и герое повести близость к фильму С. Закариадзе «Отец солдата». Главный герой повести, говорит она, продолжает «галерею канонических отцов, воспитавших в своих сыновьях любовь к земле, своему народу, к родине, наконец» [Моттаева 2011: 51]. Слагаемые подобного рода типичности и емкость транслируемого ею смысла проясняются в контексте наблюдений Е. Фарино над способами изображения человеческого облика в литературе: «Внешний вид персонажа свидетельствует об обществе в целом, о той концепции человека в нашем обществе, которой мы руководствуемся, но которую мы сами вряд ли осознаем» [Фарино 2004: 167]. В своем совпадении с актуальной на период появления повестиконцепцией человека, Кургоко, действительно, - канонический отец советского солдата, но, помимо этого, он воплощает универсальную идею стойкости духа перед разрушительной силой времени. Причем манера портретирования играет не последнюю роль в передаче этой идеи.
Необходимый модус восприятия главного героя задается сразу же, с первых строк повести. «Признаки» старости (рассеянность и растерянность, покряхтывание) переплетены с тем, что им противоречит (быстрые движения): «Кургоко проснулся от стука в дверь, как-то не сразу сообразив, что его разбудило, и сонно озирался. Вскрикнув: «Ой, проспал!» выскочил из постели и не по возрасту шустро засеменил босыми ногами по дощатому полу. Зябко поеживаясь и покряхтывая, откинул крючок, на который была заперта дверь» [Мазихов 1988: 4]. Передающий движения и внутренние состояния набросок в дальнейшем будет дополняться иными деталями, однако мелькнувшее было в самом начале качество – бодрость, вроде как еще не покинувшая отягощенного годами человека, – будет лишь спадать, ослабляться, вызывая у читателя сочувствие к герою. Этот спад изображен с двух точек зрения: внутренней – это взгляд самого Кургоко – его предчувствия, сны, воспоминания, и внешней – взгляд на Кургоко его внука, Алихана, и самого повествователя. В том и другом случае преобладают черты, усиливающие впечатление немощи, близкого конца. Продемонстрируем сказанное рядом примеров: ««А я-то хорош, заснул мертвецким сном…» Мрачное это сравнение испугало его: «Валлахи, что бы это значило? В народе говорят, с приближением смерти у человека появляется аппетит и крепкий сон» [Мазихов 1988: 5]; «Вернувшись, парень ужаснулся безжизненной бледности, покрывавшей лицо старика. Тот сидел с открытыми глазами, но, вероятно, ничего не замечал вокруг. Губы у него посинели, жидкие усы уныло обвисли, и, если бы не поза, в которой он сидел, его можно было бы принять за покойника» [Мазихов 1988: 7]; «Кургоко утомился, глаза его непроизвольно закрылись, нижняя челюсть слегка отвисла, и маленькая, покрытая белым пухом голова упала на высохшую грудь. Так, сидя на вагонной койке, он и заснул» [Мазихов 1988: 27]. Состояние Кургоко в заключительном эпизоде, где он показан стоящим у могилы сына, как бы доводит до логического завершения этот образ нисходящих жизненных сил: «Дрожащие руки отца коснулись холодного камня надгробия, и силы оставили его. Если бы не поддержка, он бы рухнул возле памятника братской могилы, где покоился прах его единственного сына» [Мазихов 1988: 32]. Седая голова, облезлые усы, бледная, безжизненная улыбка, семенящая походка, дрожащие руки – внешние признаки, которые упоминаются в разных эпизодах повести, подчеркивая в облике главного героя «возраст осени». При этом писатель всего лишь отмечает отдельные детали, но этого достаточно для того, чтобы остальное было легко «дорисовано» читателем. Как замечает в этой связи И.А. Кажарова, «детали, как правило, выполняют вспомогательную функцию, подчиняются чему-то большему, отчего их рассмотрение нуждается в движении от уже обозначенного смыслового целого, в процессе чего значения вспомогательных элементов «вылепливаются» контекстом» [Кажарова 2003: 50]. В минимуме деталей – худые, натруженные руки, морщинистое лицо – представлена и внешность Дадух, покойной супруги Кургоко. Но в изображении обоих смысловой упор делается на то, что старость и кончина отнюдь не равнозначны небытию. Это и есть смысловое целое, которому подчиняются высвечиваемые автором детали. Для выражения этого индивидуализация внешности героев не нужна, и писатель ограничивается лишь отдельными штрихами.
Сложилось так, что долгожданная весть о сыне застала Кургоко на последнем отрезке земного пути. За плечами целая жизнь, и важное событие, что случилось под ее занавес, воспринимается через призму прожитого, раскрывая внутренний мир героя, те завоевания духа, с которыми он подходит к рубежу, за которым уже ничего не разглядеть. Кургоко постиг в этой жизни что-то очень важное, и в прерывистых высказываниях будто силится облечь это важное в слово, сообщить своему внуку Алихану. Ради этого он пересказывает разные эпизоды жизни, обнажая и свои нравственные убеждения. Но, пожалуй, квинтэссенцией его духовных завоеваний становятся размышления о прочности жизненных основ, и о том, как порой необъяснимо эти основы проступают во внешнем облике человека.
Внешность, портрет, во всем многообразии своего выражения – это, в конечном счете, частность, включенная в целое более высокого уровня. Все эпизоды и обслуживающие их образы «Поры листопада» приводит к единству идея возрождения, распознанная героем в цикличности жизни.
Надо сказать, что более интенсивно осень жизни Кургоко предстает на контрасте с образом внука, Алихана. Этот контраст существует как на уровне внешних, так и на уровне духовных черт героев. Здоровье, молодость, воодушевление Алиханаподчеркиваются в повести неоднократно. При этомиспользован примерно тот же тип изобразительности, что и в образе Кургоко: Алихан показан в основном через жесты и движения. Примечательно, что черты его лица так и остаются неизвестными для читателя, однако к ним приковано внимание Кургоко, для него в этих чертах таится особый смысл. Лицо Алихана «охарактеризовано» лишь раз, причем в момент, когда тот погружен в сон. В отличие от того, как запечатлено лицо Кургоко, здесь не упомянуты никакие детали, Б. Мазихов ограничивается только передачей общего впечатления: «Лицо его было безмятежным и дышало здоровьем. Старик любовно его разглядывал и тихо радовался этой крепкой надежной поросли, которая сулила вырасти в красивое могучее дерево» [Мазихов 1988: 15]. Для старика важно читаемое в лице внука сходство с погибшим на войне сыном, Хабилой. Именно это сходство символизирует для Кургоко беспрерывность рода и собственной жизни. Но поразителен прием, который использует автор, воссоздавая этот символ. Этот прием можно определить как «стертость черт». Дело в том, что на самом деле Кургоко уже трудно припомнить лицо своего сына. Он уже не может уверенно сказать, «не переносит ли черты внука на воображаемое лицо сына» [Мазихов 1988: 9]. Есть увеличенная и отретушированная фотография, которая висит на видном месте в доме Кургоко, но понять, каков на самом деле был Хабила, по ней невозможно: «А от него только и осталось, что фотография, так его и тогда было трудно на ней признать – до того шельмец-фотограф перестарался.
– Верно, нарядили его тогда, волосы прилизали, а потом еще, знать, подкрасил чем, скаженный, что б ему пусто было, хвотографу тому» [Мазихов 1988: 18]. Однако парадоксальным образом Кургоко усматривает в лице Алихана черты лица Хабилы: «И впрямь похож на Хабилу, – в который уже раз отмечает он, – и еще на своего прадеда, на моего отца. Наша кровь, наш род. Нет, не суждено ему угаснуть. Бог даст, народится новое поколение, дети моих внуков, а у них еще другие – и так до окончания веков… Будет ли кто-нибудь похожий на меня? В точности, может, и не будет, а все же повторятся мои черты, что-то от меня самого, от характера, от сердца, от души» [Мазихов 1988: 14]. Сходство, в которое свято верит Кургоко, дает опору его вере в бесконечность жизни, своей в том числе. Но если бы дело заключалось лишь в привычной смене и преемственности поколений, философский подтекст «Поры листопада» опасно приблизился бы к констатации банальных истин.
В сходстве, которое так упорно отмечает Кургоко, задействовано несколько необычное обстоятельство. Дело в том, что Алихан, для которого, по словам повествователя, Кургоко «не только дед, но как бы еще и отец», приходится сыном не Хабиле, а его двоюродному брату –Хажисмелу. Одинокий, оставшийся без собственного крова Хажисмел волей судьбы и по согласию родителей Хабилы стал мужем их овдовевшей невестки, Хафисат. За плечами Хажисмела война, концлагерь, тюрьма, однако все это словно гасится некоей призрачностью его образа. Не только внешний облик Хажисмела, но и его личность сильно затушеваны. Вроде он есть, а вроде и нет его; вроде нашел свое место в жизни, а вроде и проживает чужую жизнь: «Хажисмел всегда молчалив, скрытен, ни во что не вмешивается, и меньше всего в воспитание детей; То ли уж слишком поломали Хажисмела, помудрили над ним во времена его молодости, но был он в чем-то ущербный, как бы придавленный. Деда стеснялся, так и не сумев почувствовать себя его приемным сыном; с женой был всегда насторожен, будто вот-вот откроется дверь и появится ее законный муж, а его прогонят. Ощущение это не покидало его всю жизнь, все мнилось ему, что он чужой, занял чье-то место не по праву. Даже для детей своих он оставался как бы дядей, не чужим, но и не родным [Мазихов 1988: 22]. Причем никакой альтернативы, в которой Хажисмел смог бы себя проявить (а судя по его биографии, это было бы логично), в повести нет, герои и повествователь в восприятии его образа единодушны: внешний облик Хажисмела не отмечен и намеком на индивидуализацию, характер, попросту говоря, никакой. Как замечает В.В. Башкеева, проблема портрета в том, чтобы понять момент встречи внутреннего человека с внешним. Только тогда возможен портрет как эстетическая категория [Башкеева 2008: 141]. В данном случае автор настолько тщательно стирает черты Хажисмела, что даже не показывает их в отражении Хафисат, которой тот когда-то сумел приглянуться. В то же время образ самой Хафисат показан через комплементарное соотношение телесного и духовного.
«В разные времена составляющие оппозиции «душа/тело» оценивались по-разному, но, наверное, не будет ошибочным утверждение, что душа в культурной рефлексии гораздо чаще оказывается «положительнее» тела [Кажарова 2013: 46]. В согласии с этими предпочтениями Хафисат изначально показана через внешнюю красоту, и следом же эта красота экстраполируется на область духа. Сначала Хафисат отражается в глазах своего свекра, Кургоко, который воспринимает ее облик в понятиях, одухотворяющих ее как потенциальную носительницу ростков будущей жизни: «Она была молода, свежа и как бы создана для того чтобы рожать и растить детей, а ей приходилось выполнять тяжелую мужскую работу да еще тащить на себе весь дом. Глядя на нее, Кургоко думал, сколько здоровых, красивых внучат могла бы она нарожать, но вот осталась бесплодной, точно покинутая и заросшая бурьяном пашня» [Мазихов 1988: 10]. Ее внешняя привлекательность (по поводу которой она сама уже сильно сомневается) не иссякает, поскольку дополняется красотой ее души:
«– Много ли в прошлом-то у тебя, красавица ты моя ненаглядная!
– Уж какая там красавица, одни кости да кожа!
– А душа?
– Про что это вы?
– Душа-то, говорю, у тебя какая – сокровище!» [Мазихов 1988: 11].
О привлекательности Хафисат говорит также и то, что многие в селе заглядываются на нее. Среди них даже намечаются претенденты на ее руку. Она красива, любима и оберегаема родителями своего погибшего мужа. Ей не приходится особо роптать на судьбу и искать для себя лучшей доли. Потому резонно предположить, что столь гармоничная женщина вряд ли решилась бы принять в спутники жизни ничего не представляющего из себя человека.
Хажисмел не привлекает внимания даже самых близких ему людей, и манера, в которой он изображен, такова, что не позволят задержаться на нем вниманию читателя. Писатель словно нарочно затушевывает облик Хажисмеладля того, чтобы не было никаких помех для веры Кургоко в ту мудрость бытия, которая ему открылась. Ведь при всей ее кажущейся отвлеченности в ней должно найтись место для доказательства того, что побег новой жизни, который некогда пустил именно он, Кургоко, не погиб: «Любопытная штука – жизнь. У иного родные дети ни в мать, ни в отца, и вдруг вынырнет в роду точная копия дедушки или прабабушки. А то еще случается: у жены, потерявшей мужа, родится от другого мужчины точная копия первого, хоть его и нет в живых; как так – не понятно. Косят ее, калечат, бьют, рубят под корень, а она все множится и ширится, человечья рать. И нет такого горнила, через которое она не прошла бы, нет такой пропасти, какую бы ни одолела – это уж точно!» [Мазихов 1988: 15].
Наибольшей живописностью выделяются портретные характеристики двух второстепенных персонажей – кладбищенского сторожа Хамида и дворника Алхаса. Образ Хамида возникает спонтанно, он никак не связан с сюжетной линией произведения, но его портрет, в отличие от других, самый подробный. Хамид показан в полусне Кургоко. Сначала набрасывается несколько черт, касающихся его образа жизни, а по сути, характеризующих его натуру. Хамид не просто следит за состоянием сельского кладбища, а, как выражается автор, «опекает» его, не дает зарасти бурьяном, знает и помнит о тех, кто покоится на его территории, следит, чтобы все было в порядке. Денег ему не платят, да он и не взял бы. Хамид живет честным трудом, возделывая окрестные земли. Немало о его внутреннем мире говорит и то, что он по собственному почину и с помощью школьников разбил парк на сельском пустыре. Причем «должность» Хамида, как, наверняка и отношение к миру, у него наследственные. «И отец и дед его были сторожами». Очень подробно представлена неординарная внешность Хамида. «Хамида трудно спутать с кем-либо из сельчан, есть в нем что-то особенное, возможно отпечаток его близости к делам печальным. Длинен он невероятно и столь же удивительно худ, лицо его – кожа да кости, а выражение всегда грустное. Улыбаться он не умеет. Голову носит понуро, будто стесняется своей должности и хочет казаться незаметнее. Когда-то рыжая бороденка его вылиняла, а усы стали на изумление похожи на два пучка высушенной травы. Но человек он хороший, в селе его уважают, даже слегка побаиваются по причине странных его занятий и близости к покойникам.
Но что самое удивительное – хмурая его внешность не мешает Хамиду быть большим шутником» [Мазихов 1988: 27-28]. Подмеченная в конце этого описания черта, как кажется, создает контраст между хмурой внешностью и веселым нравом персонажа, однако, передавая одну из сцен, в которой проявляется эта «веселость», повествователь дает понять, что контраст вообще-то мнимый. На самом деле Хамид и не думает шутить, «говорит серьезно и вроде дело, а все за бока хватаются» [Мазихов 1988: 29].
Хамид, как мы уже сказали, персонаж второстепенный, с ним никак не связан ход событий, однако он оказывается антиподом другого колоритного персонажа. Тот упомянут в повести вслед за Хамидом – дворник Алхас, первый человек, которого Кургоко и Алихан видят по приезде в город, где находится памятник погибшим солдатам. Формальное сходство есть. Поначалу может представиться, что наводящий уличную чистоту великан Алхас сродни долговязому Хамиду, который «следит, чтобы все было в порядке»: «В этот момент из-за угла появился дюжий мужчина в фартуке и с огромной метлой на палке, которой он принялся ретиво ерзать по асфальту, и без того омытому дождем до блеска» [Мазихов 1988: 29]. Но выясняется, что это усердие вовсе не из любви к порядку, просто «так положено» согласно установленному расписанию. Алхас получает заработок и тратит его, главным образом, на выпивку. Полный тоски и безысходности внутренний мир персонажа раскрывается в его повествовании о своем житье-бытье. Унылое жилище Алхаса, в которое он радушно приглашает Кургоко и Алихана, будто психологический этюд его внутреннего бытия: неприбранная постель, куча нестиранного белья, остатки еды и грязная посуда. Так же, как и в изображении Хамида, духовный портрет Алхаса отпечатывается на его микромире. Примечательно, что реалистичность этого микромира, равно как и внутреннего состояния персонажа, обеспечивается не только зрительными, но и обонятельными деталями: «Воздух был затхлым, с сильным чесночным духом. На полу возле кровати стояла пепельница со зловонными окурками» [Мазихов 1988: 30]. Портрет дворника Алхаса – тоже в своем роде метафора поры листопада, только его осень не способна утешить урожаем, Алхас сам раньше времени подтолкнул себя к ней.
У каждого художника свой диапазон изобразительности портретных черт, Судить о нем позволяет взаимодействие визуальных и психологических характеристик, а также степень полноты, с которой изображается облик героя. В небольшом по объему произведении Б. Мазихова можно наблюдать использование различных приемов портретирования, но чертой, объединяющейих, можно назвать эскизность внешнего облика, склонность к изобразительному лаконизму. Полное описание внешности дается в повести лишь раз, и выделяет оно второстепенного героя. Во всех остальных случаях Б. Мазихов использует детали, количество которых может постепенно нарастать (образ Кургоко), или ограничиваться абсолютным минимумом (Алихан). Портрет, либо его беглый набросок (Дадух, Хафисат, Хажисмел) создается при помощи отдельных и, в основном, характерных деталей. Так, портрет главного героя, Кургоко, визуально и психологически представляет собой совершенно традиционный образ старца. Но наряду с этим можно наблюдать и необычные приемы портретирования. Такова «стертость черт» Хабилы и Хажисмела. Искаженность фотографии давно погибшего Хабилы и почти призрачный образ Хажисмела обнаруживают разное смысловое наполнение, но их объединяет то, что отсутствие четкости обоих усиливает отчетливость того, что хочет видеть и во что верит Кургоко. Облик, его способность повторяться в представителях разных поколений одного рода, выступает важным аргументом веры Кургоко в бесконечность жизни.
Характерно, что значительная семантическая нагрузка ложится на образы, прорисованные с наибольшей полнотой. Поступательность в изображении старца Кургоко смыкается с мотивом достойной встречи конца земного пути, в то же время представленный в развернутом описании Хамид символично сводит концы («опекаемое» им кладбище) и начала (возделываемые им земли, очищаемый для будущего парка пустырь), тем самым усиливая смысловую глубину «Поры листопада».
Авторлар туралы
Ruslan Urusov
Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov
Email: urkbr07@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8485-1838
Rimma Shetova
Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov
Email: rshetova55@mail.ru
Әдебиет тізімі
- Башкеева 2008 – Башкеева В.В. Портрет как проблема // Вестник Бурятского государственного университета. – 2008. –№ 10. – С. 139-143.
- Габель 1964 – Габель М.О. Изображение внешности лиц // Белецкий А.И. Избранные труды по теории литературы. – М.: Просвещение, 1964. – С. 149-169.
- Кажарова 2013 – Кажарова И.А. Оппозиция «душа/тело» в адыгской поэзии // Человек. – 2013. – № 1. – С. 46-62.
- Кажарова 2012 – Кажарова И.А. Противоречивость идеала в эстетической рефлексии 1940-50-х гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 12-2 (26). – С. 84-88.
- Кажарова 2003 – Кажарова И.А. Художественно-философское осмысление человека и истории в адыгской поэзии (1970-90 гг.). Дисс. … канд. филол. н. – Нальчик, 2003. – 146 с.
- Лейдерман, Липовецкий 2003 – Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. Том 2: 1968–1990. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 688 с.
- Литературная… 2001 – Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 с.
- Мазихов 1988 –Мазихов Б. Пора листопада. Повести, рассказы. – М.: Советский писатель, 1988. – 271 с.
- Моттаева 2011 – Моттаева С.М. Под сенью муз: Статьи, эссе, интервью. – Нальчик: Эльбрус, 2011. – 216 с.
- Поэтика 2008 – Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. – М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. – 358 с.
- Успенский 2005 – Успенский Б.А. Семиотика искусства: Поэтика композиции. Семиотика иконы. Статьи об искусстве. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 360 с.
- Фарино 2004 – Фарино Е. Введение в литературоведение. – СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 639 с.
- Хашукоева 2013 – Хашукоева Ф.М. Черкесское (адыгское) литературоведение (на материале Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и черкесского зарубежья): библиографический указатель. – Нальчик: ООО «Тетраграф», 2013. – 424 с.
- Шетова 2015a – Шетова Р.А. О специфике жанра исторического романа в кабардинской литературе (Х. Теунов «Род Шогемоковых») // Наследие веков. – 2015. – № 2. – С. 68-71.
- Шетова 2015b – Шетова Р.А. О художественном своеобразии литературного героя в прозе ХачимаТеунова // Литературное обозрение: история и современность. – 2015. – № 5 (5). – С. 143-145.
- Шетова, Урусов 2017 – Шетова Р.А., Урусов Р.Х. Символика и номинология повести Х.И. Теунова «Аслан» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 2-2 (68). – С. 56-58.
- Юркина 2006 – Юркина Л.А. Портрет // Введение в литературоведение: Учебное пособие / Ред. Л.В. Чернец. – М.: Высшая школа, 2006. – С. 251-263.
Қосымша файлдар