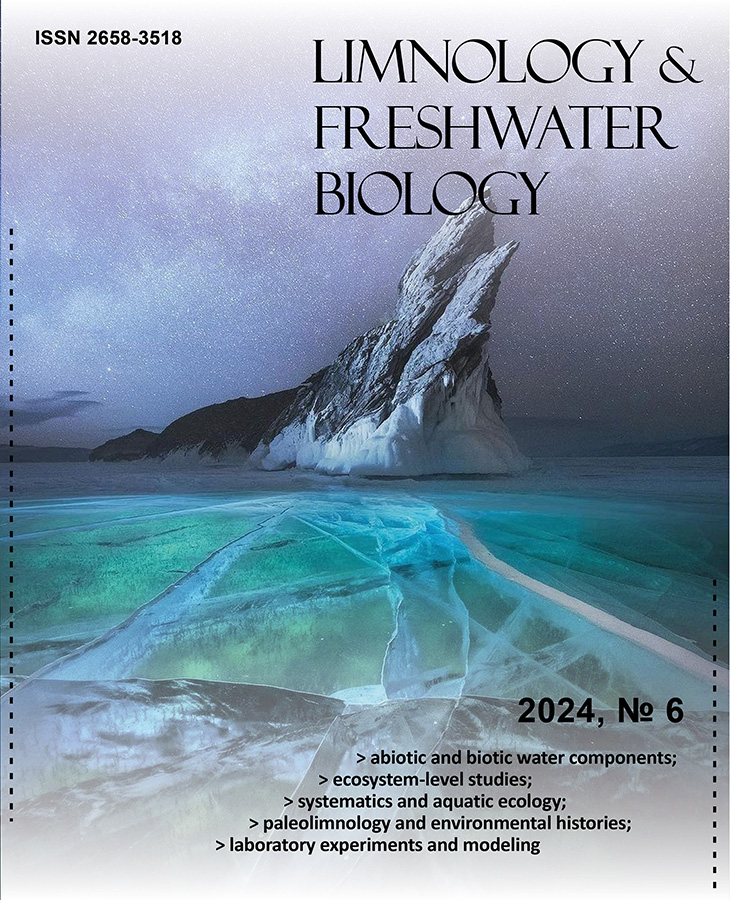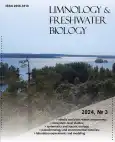Современный прибрежный комплекс остракод Каспийского моря
- Авторы: Ткач А.А.1
-
Учреждения:
- МГУ им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 142-156
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/2658-3518/article/view/282598
- DOI: https://doi.org/10.31951/2658-3518-2024-A-3-142
- ID: 282598
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Работа основана на материалах изучения коллекции современных остракод Е.А. Гофман. В статье представлено обобщение результатов исследования проб из 45 точек в прибрежной части Каспия и ранее опубликованных данных из работ, положивших начало изучению современных сообществ остракод в Каспийском море и их связи с типом донных отложений, температурой и соленостью воды. Также приведены сведения об экологии видов остракод, раковины которых наиболее часто встречаются в изученных пробах. В целом современный состав фауны остракод Каспийского моря изменяется по мере удаления от берега с возрастанием глубины. Прибрежный комплекс остракод Каспия, главным образом, представлен мелководными видами, которые хорошо переносят сезонные изменения температуры и солености. В северной области в комплексе доминирует Cyprideis torosa и присутствуют эвригалинные виды, способные переносить перепады температуры и существенное опреснение – тем самым комплекс отражает влияние впадающих рек и нестабильный гидрологический режим. В Среднем и Южном Каспии в комплексе доминирует Tyrrhenocythere amnicola donetziensis и преобладают стеногалинные виды. В целом, проведенный анализ состава прибрежных сообществ Каспийского моря позволяет заключить, что соленость воды наряду с глубиной моря являются ведущими параметрами, определяющими состав комплексов остракод.
Ключевые слова
Полный текст
1. Введение
Каспийское море является крупнейшим в мире замкнутым водоемом. Предполагается, что многие виды остракод, населяющие Каспийское море являются наследием Паратетиса (Boomer et al., 2005), однако они значительно отличаются от своих океанических предков – в основном фауну остракод морского происхождения в Каспии составляют представители семейств Leptocytheridae, Hemicytheridae, Loxoconchidae и Xestoleberididae, которые однако не могут быть обоснованно отнесены к оригинальным родам этих семейств, поскольку на родовом уровне сформировались эндемичные таксоны (исключение составляет лишь вид C. torosa) (Schornikov, 2011b), что объясняется существенными палеогеографическими перестройками, периодами длительной географической изоляции и установлением уникального солоноватоводного режима (Мандельштам и др., 1962; Свиточ, 1991; Рычагов, 1997; Янина, 2012 и др.). Несмотря на высокоамплитудные изменения уровня Каспийского моря в четвертичное время, его глубоководные районы сохраняли определенный объем воды даже в периоды самых глубоких регрессий, тем самым выступая в роли рефугиумов (Boomer, 2012). Однако в периоды высокого стояния уровня Каспия происходил обмен фауной – например, в результате установления связи с Чёрным морем по Манычскому проливу (Jones and Simmons, 1996; Rögl, 1999; Popov et al., 2006). Одни исследователи (Шорников, 2017) придерживаются мнения, согласно которому экземпляры глубоководной популяции Каспийского моря не могли проникать через мелководные проливы, существовавшие в разное время четвертичной истории Каспия (Свиточ и др., 2011; Семиколенных, 2022), в то время как прибрежные мелководные популяции мигрировали в Азово-Черноморский бассейн через Манычский пролив (Шорников, 2017). Другие (Boomer, 2012) обнаруживают большее сходство мелководных комплексов Каспийского моря с фауной Арала, а глубоководных комплексов Каспия – с Черным морем, объясняя это общностью палеогеографического развития последних. Всего Е.И. Шорниковым (2011а) было выделено 26 видов остракод каспийского генезиса в рамках работы с плейстоценовыми и голоценовыми отложениями Азово-Черноморского бассейна, только 17 из которых обнаружены им живыми в современных условиях, как правило, в дельтах рек, заливах и лиманах. В той же работе отмечается, что три каспийских инвазивных вида также обнаруживались в Аральском море в 60-х годах XX столетия, где сегодня сохранился лишь эвригалинный вид C. torosa.
Формирование целостной картины распространения остракод и их экологии в Каспийском море крайне важно для палеогеографической интерпретации материалов бурения, но сопряжено с серьезными трудностями. Одной из наиболее важных проблем является отсутствие единства мнений относительно систематики остракод Каспийского моря. Из плиоцен-плейстоценовых отложений Каспийского региона известно около 350 видов остракод, большинство из которых определить затруднительно, поскольку зачастую неясно, какой в действительности таксон авторы различных публикаций имели в виду под тем или иным названием (Schornikov, 2011b). Обилие таксономических ошибок подробно рассмотрено в работе Е.И. Шорникова (2017), в качестве их основных причин отмечены следующие факторы: многие виды описывались повторно разными исследователями и независимо публиковались; различия в степени развития структур, выраженности макроскульптуры раковин у отдельных особей принимались за видовые признаки, то есть различные формы описывались как разные виды. Ревизовать большинство видов остракод Каспийского бассейна на текущем этапе изучения крайне затруднительно, поскольку отчеты и коллекции, на основании которых были составлены первоначальные описания, утрачены или труднодоступны. Отбор новых образцов осадка со дна Каспийского моря без снаряжения крупных междисциплинарных экспедиций, закрытость и разрозненность имеющихся материалов бурения в силу разных причин, будь то реализация коммерческих проектов, поиск полезных ископаемых, конфликт интересов разных стран Каспийского региона, по сей день сковывают работы в этом направлении, в особенности, для малых исследовательских групп. На этом фоне особую ценность представляет имеющаяся в распоряжении автора коллекция микрофауны Каспийского моря Е.А. Гофман, которая является результатом работ сотрудников Института геологии и разработки горючих ископаемых, посвященных изучению экологии остракод и фораминифер в солоноватоводных и пресноводных бассейнах. В связи с изменением тематики работ Е.А. Гофман была вынуждена приступить к изучению стратиграфии юрских отложений Мангышлака, раньше времени оставив работу по Каспию и предоставив отчет (Гофман, 1966), сосредоточенный на выявлении условий, являющихся наиболее благоприятными для расселения того или иного вида, а также на определении ареалов обитания различных видов остракод. В результате, работа с уникальным фактическим материалом не была полностью завершена, остались пробы, которые нуждались в дополнительной проработке. В частности, в искомой публикации неосвещенным оказался вопрос распространения пресноводных остракод (Гофман, 1966). Из-за нехватки времени Е.А. Гофман также не удалось изучить остракод, живущих в зоне мелководья вдоль восточного берега Каспия (Гофман, 1966).
Сегодня, по последним оценкам (Schornikov, 2011b), в Каспийском море живет порядка 70 видов остракод, лишь у 16 из которых были описаны мягкие ткани. Х.М. Саидовой (2014) в современных осадках Каспия обнаружен 61 вид. Согласно более ранним работам Н.Н. Найдиной (1968), 23 вида остракод было обнаружено в Каспийском море в живом состоянии. По данным Е.А. Гофман (1966) в Каспийском море живет более 80 видов остракод, 57 из них были определены в работе (Гофман, 1966), и 39 – детально описаны. Также в вышеупомянутой работе отмечено, что для составления отчета использовались данные по 300 точкам со всей акватории Каспийского моря, в которых были обнаружены живые остракоды, однако в рамках данного исследования наличия мягких тканей установлено не было. К сожалению, ввиду отсутствия иллюстраций, определить, какие таксоны в действительности были описаны, порой затруднительно. Кроме того, с момента публикации видовые и родовые названия в некоторых случаях были изменены. Например, Е.И. Шорников показал, что живые экземпляры Graviacypris elongata имеют признаки рода Candona, и переименовал вид в Candona schweyeri Schornikov, 1964 (Boomer et al., 2010; Spadi et al., 2019).
В настоящем исследовании предпринята попытка расширить существующие к настоящему моменту представления о распространении и экологии современных видов остракод в Каспийском море, однако в силу отмеченных выше сложностей и ограничений, в фокусе работы оказались лишь виды, наиболее широко представленные в изученных пробах, и те виды, которые удалось однозначно определить. Таким образом, представленное обобщение основано на результатах авторского изучения коллекции Е.А. Гофман и анализа ряда публикаций, посвященных остракодам Каспийского бассейна. Следует отметить, что проведенная работа, в первую очередь, отвечает палеогеографическим интересам изучения Каспийского региона, поскольку приведенные сведения могут быть использованы для понимания природных обстановок, соответствующих времени накопления толщ осадков, в которых встречаются описанные виды остракод.
2. Материалы и методы
В основу работы положено изучение раковин и створок остракод из коллекции Е.А. Гофман, собранной весной 1964 г. и в настоящий момент находящейся на хранении в научно-исследовательской лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Аналогов данной коллекции, содержащей раковины и створки остракод со всего Каспия, на сегодняшний день не было создано.
Согласно данным отчета (Гофман, 1966), всего изначально было отобрано 900 проб из 300 точек их отбора (по три пробы из каждой точки), однако в распоряжение автора коллекция попала в значительно сокращенном виде. За прошедшие с момента сбора коллекции Е.А. Гофман десятилетия часть проб была частично или целиком утеряна, поэтому за неимением достоверно установленной выборки количественный анализ в рамках данного исследования заменен качественным. Поскольку значимая часть акватории Каспийского моря мелководна (особенно Северный Каспий), фокус данного исследования направлен на изучение прибрежной территории, в которую включен анализ видового состава остракод из тех точек отбора проб, глубина моря в которых составляет менее 50 м. Для этого были отобраны пробы наилучшей сохранности – те, в которых сохранилось наибольшее число раковин остракод. Всего было изучено 45 прибрежных точек отбора проб (Рис. 1, 2).
Рис.1. Местоположение изученных точек отбора проб.
Рис.2. Глубина воды в точках отбора проб.
Поверхностные отложения дна Каспийского моря (верхний ~0–5 см слой, из которого впоследствии была собрана коллекция современных остракод, изучавшаяся в данной работе) были отобраны преимущественно дночерпателями или грунтовыми ударными трубками в летние сезоны 1961–1963 гг. Микрофаунистический анализ Е.А. Гофман проводила на 100 г сухого осадка. В случаях, когда навеска по какой-либо причине отличалась, производился перерасчет на 100 г. После взвешивания образца осуществлялась промывка водопроводной водой на ситах 63 мкм, полученный осадок полностью высушивался, после чего при помощи бинокуляра раковины и створки остракод вручную отобраны из осадка с помощью кисточки с тонким концом в камеры Кранца (Krantz-Cells, microcells) для последующего их изучения и хранения. К сожалению, как было упомянуто ранее, не весь исходный материал, с которым работала Е.А. Гофман, вошел в коллекцию и имелся в распоряжении автора. В рамках данной работы изучались раковины и створки, сохранившиеся в коллекции.
Для каждой точки отбора проб имеются среднегодовые показатели температуры и солености придонного слоя воды в момент отбора проб, а также данные о глубине моря. Для 45 точек, изученных в настоящем исследовании, эти сведения представлены на Рис. 2, 3, 4.
Рис.3. Среднегодовая соленость придонного слоя воды в точках отбора проб.
Рис.4. Среднегодовая температура придонного слоя воды в точках отбора проб.
3. Результаты и их обсуждение
В соответствии с физико-географическими параметрами (Рис. 2, 3, 4) пробы объединены в три группы – Северный Каспий (Рис. 1, точки 1-24, 28, 31, 41, 46-47), Западный Каспий (Рис. 1, точки 25, 32-40, 42-44), Восточный и Южный Каспий (Рис. 1, точки 26-27, 29-30, 45). Поскольку точной количественной оценки привести невозможно, для обозначения частоты встречаемости раковин тех или иных видов в пробах из трех физико-географических регионов использованы условные характеристики (а – от англ. «abundant» многочисленные находки раковин вида, c – «common» частые, r – «rare» редкие, s – «single» единичные). Выявлено три прибрежных сообщества остракод (Таблица 1).
Таблица 1. Состав изученных прибрежных комплексов остракод
Cyprideis torosa (Jones, 1850) | Bakunella dorsoarcuata (Zalanyi, 1929) | Candona schweyeri Schornikov, 1964 | Cryptocyprideis bogatschovi (Livental, 1929) | Hemicytheria? azerbaidjanica (Livental in Agalarova et al., 1940) | Paracyprideis ? naphtatscholana (Livental, 1929) | Tyrrhenocythere amnicola donetziensis (Dubowsky, 1926) | Loxoconcha gibboides (Livental in Schweyer, 1949) | Loxoconcha immodulata (Stepanaitys, 1958) | Loxoconcha lepida (Stepanaitys, 1962) | Loxoconcha petasa (Livental, 1929) | Xestoleberis sp. | Camptocypria gracilis (Livental, 1929) | Camptocypria sp. | Euxinocythere baquana (Livental, 1938) | Euxinocythere bosqueti (Livental, 1929) | Euxinocythere relicta (Schornikov, 1964) | Euxinocythere virgata (Schneider, 1962) | Amnicythere caspia (Livental, 1938) | Amnicythere cymbula (Livental, 1929) | Amnicythere longa (Negadaev, 1955) | Amnicythere martha (Livental in Agalarova et al., 1940) | Amnicythere pirsagatica (Livental in Agalarova et al., 1940) | Amnicythere? quinquetuberculata (Schweyer, 1949) | Amnicythere reticulata (Schornikov, 1966) | Amnicythere striatocostata (Schweyer, 1949) | Amnicythere stepanaitysae (Schneider, 1962) | Amnicythere volgensis (Negadaev, 1957) | Amnicythere sp. | Leptocythere sp. | Darvinula stevensoni (Brady et Robertson, 1870) | Candoninae spp. | Cypridopsis sp. | Ilyocypris bradyi (Sars, 1928) | Limnocythere inopinata (Baird, 1843) | Limnocythere sp. | |
Северный Каспий | a | s | r | s | s | c | c | r | c | s | c | c | c | r | c | r | c | r | c | c | c | r | r | r | r | c | r | c | r | r | r | r | r | |||
Западный Каспий | a | s | c | c | a | r | c | s | s | c | r | r | c | c | s | c | c | r | ||||||||||||||||||
Восточный и Южный Каспий | r | r | c | c | a | c | r | r | c | s | r | r | r | s | c |
Сообщество C. torosa выявлено в акватории Северного Каспия. Вблизи дельты Волги (в точках 7, 10, 13) ярко прослеживается влияние на сообщество пресных вод. Здесь особенно многочисленны находки раковин вида D. stevensoni. Этот вид космополит, на изученной акватории приурочен преимущественно к устьям рек, населяет глубины до 8 м при солености до 7‰ (Рис. 3). В целом D. stevensoni отличается повышенной устойчивостью к изменениям температуры и солености воды в широком диапазоне (Gandolfi et al., 2001), что, вероятно, и объясняет ее широкую встречаемость в точках отбора проб, где сезонные изменения температуры воды могут достигать 24 ˚C (Гофман, 1966). Также в указанных точках отбора проб встречены раковины пресноводных видов I. bradyi, L. inopinata, Cypridopsis sp. и Candoninae spp. По данным З.С. Бронштейна (1947), описавшего местообитания представителей пресноводных и слабосолоноватых сообществ, I. bradyi предпочитает лужи и старицы, откуда зачастую распространяется в реки. В свою очередь, L. inopinata также населяет пресноводные и солоноватоводные водоемы. По мере удаления от придельтовых участков встречаемость раковин D. stevensoni сокращается, в комплексе доминирует C. torosa. Чуть менее выражена эта тенденция вблизи устья р. Урал (точки 1, 9, 14). Похожая закономерность изменения состава остракод отмечалась ранее Н.Н. Найдиной (1968).
Наиболее многочисленны в Северном Каспии находки раковин вида C. torosa. Это широко эвригалинный вид, встречающийся от пресных до гипергалинных вод Европы, Западной Азии и Северной Африки. По данным разных исследователей (Гофман, 1966; Yassini, 1986; Boomer et al., 2005; Chekhovskaya et al., 2014; Berdnikova et al., 2023 и др.) в Каспийском море этот вид отмечен во многих точках отбора проб на глубинах от 0.2 до 250 м (по данным автора, обычно менее 50–60 м) по всей акватории, однако максимальная численность достигается на глубинах порядка 3–5 м, где достигает наибольшей численности (иногда до 90% всего комплекса), уменьшающейся с глубиной. Благодаря способности к гипоосмотической регуляции вид многочислен в таких переходных условиях, где морские остракоды не могут выжить из-за слишком низкой для них солености, а пресноводные – из-за слишком высокой. В Аральском море является доминирующим видом ракушковых ракообразных (Шорников, 1973). Исследования Н.В. Аладина (1993) показали, что существует две формы C. torosa: из Белого и Баренцева морей имеет морское происхождение, а форма из Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей – пресноводное.
Высокая численность C. torosa в изученных пробах на участках высокой температурной изменчивости (до 24 ˚C), где среднегодовые показатели солености отличаются на 10‰ и более (Рис. 3), может быть связана с тем, что зона смешения солоноватых и пресных вод, богатая зоо- и фитопланктоном, является наиболее продуктивной. По данным Е.И. Шорникова (1973), вид C. torosa особенно успешно заселил водоемы, по условиям сильно отличающиеся от морских. Однако конкурентное преимущество было утеряно в морских бассейнах, где морская фауна представлена в более или менее полном объёме. Массовые находки C. torosa приурочены преимущественно к акватории Северного Каспия с его нестабильным гидрологическим режимом. По-видимому, наибольшая численность вида достигается при сильно изменчивых условиях среды, к которым другие виды так хорошо не приспособлены. C. torosa практически исчезает у восточного побережья, где наблюдается более высокое среднее значение солености (Рис. 3).
Большинство видов сообщества Северного Каспия (Таблица 1) толерантны к изменению солености в широком диапазоне – они способны обитать как в типичных морских условиях, так и при крайне низкой солености, например, в лиманах при солености до 5‰ в ассоциации с пресноводными видами. Например, раковины A. longa и A. cymbula, также были обнаружены в эстуариях Черного моря на глубинах до 5 м (Zenina et al., 2017). Также указанные виды хорошо приспосабливаются к изменениям температурного режима, что и позволяет им обитать на мелководье. Частые находки таких видов, как C. gracilis, E. baquana или L. gibboides только в удаленных от устьев крупных рек точках отбора проб (например, 12, 15, 22 и др.) позволяет заключить, что хотя виды в целом хорошо переносят сезонные изменения температуры воды, они предпочитают соленость порядка 10–13‰. В сообществе также распространены представители рода Loxoconcha, не опускающиеся на большую глубину. Состав комплекса остракод в целом демонстрирует масштабы влияния Волги на Северный Каспий, а также сезонной изменчивости водной среды.
В сообществе T. amnicola donetziensis, обнаруженном в акватории Западного Каспия, широко представлены также вид C. torosa (Таблица 1). Вид T. amnicola donetziensis крайне широко встречается в Каспийском море на глубинах менее 90–100 м и формирует сообщества на глубинах менее 30 м при солености от 4 до 13.5‰ (Tkach et al., 2024). Помимо Каспия, он отмечался в Черном и Азовском морях при солености менее 5‰, а также в солоноватых и пресноводных озерах Прикаспийской низменности и в районе Манычского пролива (Шорников, 1973; Zenina et al., 2017). Данный вид хорошо переносит сезонные изменения температуры и солености. В Северном и Среднем Каспии встречены как взрослые особи, так и ювенильные экземпляры. Кроме того, практически во всех исследованных пробах обнаружены раковины видов C. bogatschovi, Camptocypria sp., A. striatocostata, A. caspia, A.? quinquetuberculata и E. virgata. Раковины вида E. virgata в целом часто встречаются в пробах коллекции Е.А. Гофман (Таблица 1). На изученных в настоящей работе участках вид населяет литоральную зону и глубины, как правило, менее 30 м, то есть зону, для которой характерны наибольшие сезонные колебания температуры воды и солености. Живые виды были обнаружены М.А. Зениной в Северном Каспии в 2013 году при температуре воды 25.4–27 ˚C, солености 10.02–12.01‰ и pH 7.30–8.33. На илистых осадках вид, как правило, немногочисленен, преобладает на песчаных субстратах (Tkach et al., 2024). Также вид E. virgata был обнаружен в Азово-Черноморском регионе в устьях рек, лиманах и озерах с соленостью менее 5‰ (Zenina et al., 2017).
Реже в рассматриваемом сообществе (Таблица 1) встречаются E. bosqueti и E. baquana (хотя находки последнего вида часты в точках 32, 37 и 39), а также H.? azerbaidjanica. В Западном Каспии также были обнаружены единичные экземпляры A. longa и C. schweyeri (в точках 32, 33, 34), C. gracilis (в точках 36, 38, 42) и L. gibboides (в точках 32, 33) – вид, характерный для глубин до 90–100 м, предпочитающий грубые грунты, соленость 10.5–13.5‰ и температуры от 4.5 до 15 ˚C, выдерживающий динамичные гидрологические условия и опреснение до 7‰ (Гофман, 1966; Yassini, 1986).
Сообщество T. amnicola donetziensis, выявленное в акватории Восточного и Южного Каспия, несколько отличается от охарактеризованного выше сообщества на западе (Таблица 1). Здесь практически исчезает C. torosa и комплекс, помимо T. amnicola donetziensis, представлен преимущественно стеногалинными видами вроде P.? naphtatscholana, L. gibboides, Camptocypria sp. и C. bogatschovi. Первый в целом широко распространен в Среднем и Южном Каспии, особенно его восточной периферии (Yassini, 1986), а последний, как правило, населяет воды с соленостью около 12.5–13.25‰, в целом вид предпочитает шельфовые обстановки с глубинами порядка 60–200 м (редкие находки отмечены на глубинах менее 30 м и 200–315 м) (Гофман, 1966; Boomer et al., 2005; Chekhovskaya et al., 2014). В свою очередь, вид L. gibboides, часто встречаемый в пробах из Восточной акватории Каспия, в Северном Каспии был обнаружен лишь на глубинах свыше 15 м (Рис. 2), что, вероятно, обусловлено тем фактом, что этот вид предпочитает большие глубины и/или более соленую воду. Нередки и находки различных Leptocythere sp. В изученных пробах из Восточной акватории также отмечены редкие находки раковин A. caspia, E. bosqueti, E. virgata и Xestoleberis sp. Единичные E. baquana и A.? quinquetuberculata были обнаружены в Южном Каспии в точке 45 (Рис. 1). Н.Н. Найдина (1968) отмечала ранее их повсеместное присутствие в Каспийском море, а также в Днестровском лимане и дельте Дона, однако по данным автора эти виды чаще встречаются в солоноватоводной среде.
В целом вдоль восточного побережья Среднего Каспия отмечены виды с уплотненной, практически не скульптурированной раковиной, что может объясняться характером грунта, более интенсивными волновым воздействием и придонными течениями, а также частыми сильными штормами в этом регионе. В комплексе отсутствуют пресноводные виды, преобладают остракоды, характерные для солоноватоводных условий Каспия, главным образом, из-за отсутствия здесь крупных рек, оказывающих опресняющее воздействие. Однако следует отметить, что в указанной части акватории изучено меньшее количество точек отбора проб по сравнению с Северным и Западным Каспием.
Приведенные результаты позволяют заключить, что современный состав фауны остракод Каспийского моря изменяется по мере удаления от берега с возрастанием глубин в соответствии с изменениями температуры и солености придонной толщи воды. В мелководном Северном Каспии, замерзающим зимой и прогревающимся до 24 ˚C летом (Гофман, 1966), где пробы отобраны с глубин до 20 м (Рис. 2), среднегодовая соленость, как правило, не превышает 10‰ (Рис. 3) и существенно изменяется по мере ослабления влияния пресных вод речного стока, сообщество остракод представлено видами, которые хорошо приспосабливаются к изменениям температурного режима и в большей или меньшей степени толерантны к изменению солености. Несмотря на преобладание в сообществах Западного, Восточного и Южного Каспия вида T. amnicola donetziensis, их состав, как и характеристики водной среды в точках отбора изученных проб, отличаются. Восток и юг Каспия – это участки наиболее высокой солености, достигающей 13–14‰ (Рис. 3), хотя среднегодовые температуры здесь ниже, чем на западном участке (Рис. 4), порядка 11–13 ˚C (до 5 ˚C зимой и 19 ˚C летом в Среднем Каспии, до 11 ˚C зимой и 25 ˚C летом в точке 45 (Гофман, 1966)). Это также область обнаружения наибольшего числа раковин более теплолюбивых и стеногалинных видов. Более того, в силу большей глубины отбора проб (25–50 м, Рис. 2) здесь отмечены единичные находки глубоководных Каспийских видов, например, B. dorsoarcuata, которые населяют глубины свыше 50 м (Гофман, 1966; Yassini, 1986; Boomer et al., 2005; Tkach et al., 2024). В свою очередь, сообщество, описанное для западного участка Каспийского моря, хотя незначительно отличается по составу некоторых компонентов к северу и югу от Апшеронского полуострова, содержит как представителей сообщества Северного Каспия (особенно, на мелководных участках), так и виды, чаще всего присутствующие в пробах из восточной акватории. Вероятно, это обусловлено большим глубинным диапазоном отбора проб в Западном Каспии: с глубин от 0–5 до 35 м, а также разной удаленностью точек отбора проб от мест впадения крупных рек. В целом, проведенный анализ состава прибрежных сообществ Каспийского моря позволяет заключить, что соленость воды наряду с глубиной моря являются ведущими параметрами, определяющими состав комплексов остракод.
4. Заключение
Анализ многочисленных проб из коллекции Е.А. Гофман позволяет проследить характер изменений в составе современного микрофаунистического комплекса остракод в Каспийском море в пространстве – по мере удаления от берега с возрастанием глубины. В целом описаны остракоды, характерные для мелководных условий. Низкая соленость большей части изученной акватории Каспия до глубин 50 м обусловила широкое развитие видов, толерантных к заметному опреснению. Так, в акватории Северного Каспия доминирует вид C. torosa и наблюдается присутствие многочисленных эвригалинных видов, устойчивых к пониженной солености, высоким температурным изменениям и нестабильному гидрологическому режиму. В то же время прибрежные комплексы Среднего и Южного Каспия представлены более стеногалинными видами остракод, отражающими уникальную солоноватоводную среду Каспийского моря.
Благодарности
Работа выполнена в рамках ГЗ «Палеогеографические реконструкции природных геосистем и прогнозирование их изменений» №121051100135-0. Автор глубоко благодарен к.б.н. М.А. Зениной за ее помощь и многочисленные консультации.
Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
А. А. Ткач
МГУ им. М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: alinaberdnikowa@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9391-894X
Лаборатория новейших отложений и палеогеографии плейстоцена, Географический факультет
Россия, Ленинские горы 1а, Москва, 119991Список литературы
- Бронштейн З.С. 1947. Фауна СССР. Т. 2. Вып. 1. Ракообразные. Ostracoda пресных вод. Москва: Изд-во АН СССР.
- Гофман Е.А. 1966. Экология современных и новокаспийских остракод Каспийского моря. Москва: Наука.
- Мандельштам М.И., Маркова Л.П., Розыева Т.Р. и др. 1962. Остракоды плиоценовых и постплиоценовых отложений Туркменистана. Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР.
- Найдина Н.Н. 1968. Отряд ракушковые. Ostracoda. В: Бирштейн Я.А., Виноградова Л.Г., Кондакова Н.Н. и др. (ред.), Атлас беспозвоночных Каспийского моря. Москва, С. 187-213.
- Рычагов Г.И. 1997. Плейстоценовая история Каспийского моря. Москва: Изд-во МГУ.
- Саидова Х.М. 2014. Сообщества остракод Каспийского моря. Океанология 54(3): 349-356.
- Свиточ А.А. 1991. Колебания уровня Каспийского моря в плейстоцене (классификация и систематическое описание). В: Щербаков Ф.А., Свиточ А.А. (Ред.), Палеогеография и геоморфология Каспийского региона в плейстоцене. Москва, С. 5-100.
- Свиточ А.А., Янина Т.А., Макшаев Р.Р. и др. 2011. Роль проливов Маныча в истории Понто-Каспийских бассейнов. В: Геология морей и океанов: Материалы XIX Международной конференции (Школы) по морской геологии, С. 366-368.
- Семиколенных Д.В. 2022. Палеогеография проливов Понто-Каспия в позднем плейстоцене. Кандидатская диссертация, Институт географии РАН, Москва, Россия.
- Шорников Е.И. 1973. Остракоды Аральского моря. Зоологический журнал 52(9): 1304-1313.
- Шорников Е.И. 2017. Таксономические замечания в отношении остракод Понто-Каспийского бассейна. Палеонтологический журнал 5: 56-63.
- Янина Т.А. 2012. Неоплейстоцен Понто-Каспия: биостратиграфия, палеогеография, корреляция. Москва: Изд-во Московского университета.
- Aladin N.V. 1993. Salinity tolerance, morphology and physiology of the osmoregulatory organ in Ostracoda with special reference to Ostracoda from the Aral Sea. In: Jones P.J., McKenzie K.G. (Ed.), Ostracoda in the Earth and Life Sciences. Rotterdam, pp. 87-403.
- Berdnikova A., Lysenko E., Makshaev R. et al. 2023. Multidisciplinary Study of the Rybachya Core in the North Caspian Sea during the Holocene. Diversity 15(2): 150. doi: 10.3390/d15020150
- Boomer I., von Grafenstein U., Guichard F. et al. 2005. Modern and Holocene sublittoral ostracod assemblages (Crustacea) from the Caspian Sea: A unique brackish, deep-water environment. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 225: 173-186. doi: 10.1016/j.palaeo.2004.10.023
- Boomer I., Guichard F., Lericolais G. 2010. Late Pleistocene to Recent ostracod assemblages from the western Black Sea. Journal of Micropalaeontology 29: 119-133. doi: 10.1144/0262-821X10-003
- Boomer I. 2012. Ostracoda as indicator of climatic and human-influenced changes in the late Quaternary of the Ponto-Caspian Region (Aral, Caspian and Black Seas). Developments in Quaternary Science 17: 205-215. doi: 10.1016/B978-0-444-53636-5.00012-3
- Chekhovskaya M.P., Stepanova A.Yu., Khusid T.A. et al. 2014. Late pleistoceneholocene ostracod assemblages of the Northern Caspian Sea shelf. Oceanology 54: 212-221. doi: 10.1134/S0001437014020040
- Gandolfi A., Todeschi E.B.A., Rossi V. et al. 2001. Life history traits in Darwinula stevensoni (Crustacea: Ostracoda) from Southern European populations under controlled conditions and their relationship with genetic features. Journal of Limnology 60(1): 1-10. doi: 10.4081/jlimnol.2001.1
- Jones R., Simmons M. 1996. A review of the stratigraphy of Eastern Paratethys (Oligocene–Holocene). Bulletin of the British Museum (Natural History). Geology 52 (1): 25-49.
- Popov S.V., Shcherba I.G., Ilyina L.B. et al. 2006. Late Miocene to Pliocene palaeogeography of the Paratethys and its relation to the Mediterranean. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 238: 91-106. doi: 10.1016/j.palaeo.2006.03.020
- Rögl F. 1999. Mediterranean and Paratethys, facts and hypotheses of an Oligocene to Miocene Palaegeography (Short Overview). Geologica Carpathica 50: 339-349.
- Schornikov E.I. 2011. Problems of studying Ostracoda of the Caspian basin. Joannea Geologie und Paläontologie 11: 177-179.
- Schornikov E.I. 2011. Ostracoda of the Caspian origin in the Azov-Black seas basin. Joannea Geologie und Paläontologie 11: 180-184.
- Spadi M., Gliozzi E., Boomer I. et al. 2019. Taxonomic harmonization of Neogene and Quaternary candonid genera (Crustacea, Ostracoda) of the Paratethys. Journal of Systematic Palaeontology 17(13): 1-34. doi: 10.1080/14772019.2018.1545708
- Tkach A.A., Tkach N.T., Zenina M.A. 2024. Stable oxygen isotopes in modern ostracods from the Caspian Sea. Journal of Paleolimnology. doi: 10.1007/s10933-024-00321-3
- Yassini I. 1986. Ecology, paleoecology and stratigraphy of ostracods from Late Pliocene and Quaternary deposits of the south Caspian Sea region in north Iran. In: McKenzie K.G. (Ed.), Shallow Tethys 2. Wagga Wagga, pp. 475-497.
- Zenina M.A., Ivanova E.V., Bradley L.R. et al. 2017. Origin, migration pathways, and paleoenvironmental significance of Holocene ostracod records from the northeastern Black Sea shelf. Quaternary Research 87 (1): 49-65. doi: 10.1017/qua.2016.2
Дополнительные файлы