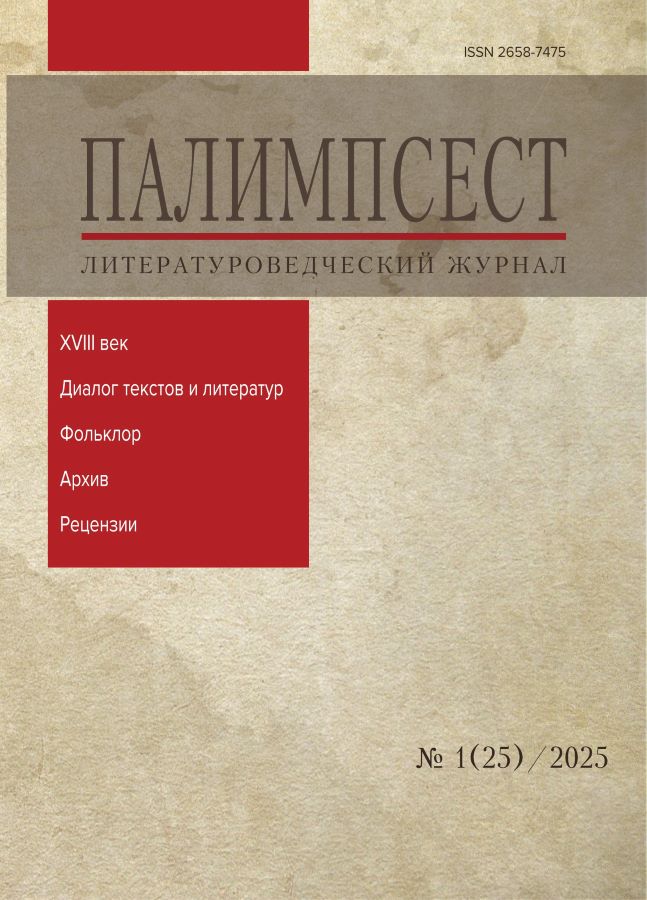СТАНОВЛЕНИЕ ОППОЗИЦИИ АУДИАЛЬНОГО И ВИЗУАЛЬНОГО НАЧАЛ В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ БАТАЛЬНОЙ ОДЫ XVIII СТОЛЕТИЯ (ТРЕДИАКОВСКИЙ И ЛОМОНОСОВ)
- Авторы: Прощин Е.Е.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
- Выпуск: № 1 (25) (2025)
- Страницы: 7-24
- Раздел: XVIII ВЕК
- URL: https://journal-vniispk.ru/2658-7475/article/view/297811
- ID: 297811
Цитировать
Аннотация
Жанр оды является одним из ведущих в поэзии европейского и отечественного классицизма. Примечательно, что для русской литературы он стал одним из самых первых жанров, культивируемых теми авторами, что связали свое творчество с новой культурной парадигмой, которая начала складываться еще во времена правления Петра Великого. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Державин и многие другие постоянно обращались к оде, что обусловлено целым рядом причин. Во-первых, она является одним из ключевых жанров для эстетики классицизма и поэтому так распространена. Во-вторых, внешние, экстраэстетические обстоятельства в XVIII столетии таковы, что российский поэт менее всего зависит от внутреннего выбора, если не сказать произвола, в своем творчестве, а является своеобразным исполнителем заказа, прямо или косвенно транслируемого институтом абсолютной монархии. В-третьих, только к концу века складывается более привычный для России характер отношений поэта и власти, который можно назвать антагонистичным в широком смысле. Но это несвойственно классицистам: они могли иметь свое мнение, однако в целом разделяли идеалы просвещенного монархизма, что также обусловливает актуальность обращения к жанру оды. В рамках нашего исследования мы обращаем внимание на один из самых принципиальных аспектов одической эстетики, а именно соотношение аудиального и визуального начал в образной системе жанра. Это соотношение вызревает в той одической разновидности, которую можно назвать батальной. Мы демонстрируем формирование данной оппозиции в пионерской оде Тредиаковского, упорядочивание принципов взаимодействия двух начал в «Хотинской оде» Ломоносова, а также то, как ода батальная становится преамбулой для основной разновидности жанра – оды похвальной.
Ключевые слова
Полный текст
Соотношение визуального и акустического начал в оде XVIII столетия связано со спецификой как классицизма, так и самого одического жанра. Доминанта акустической установки, выводимая из ораторско-риторического базиса классицистского стиля, соотносится с акцентуацией пространственных категорий текста, и, напротив, визуальные элементы должны быть связаны с феноменом времени в его художественном осмыслении. Объяснение этому таково: образ, аудиальный по преимуществу, требует среды для своего распространения, так как в XVIII столетии под звуком понимается как бы действительный, физический прецедент, а не его ментальная версия. Аудиальное показательно согласовано с установкой на воспроизведение образов и их смыслов, берущихся как бы из готового «банка данных», а именно традиционной античной образности, воспринимаемой классицистами в логике эмблемы или аллегории, то есть элементов с «предустановленной» возможностью истолкования.
Такое истолкование не является произвольным в отличие от интерпретации более поздних романтических образов. Базис романтиков – воображение и фантазия, то есть генерирование «небывалых» ментальных систем, для рецепции которых требуется не сверка с предустановленными значениями, а интуиция конгениального: романтический автор интенционален потенциально бесконечному познанию самой сути искусства и действительности, и потому в данном случае смысл есть не предел, но фронтир. Воображение и фантазия неизбежно связаныс визуальной, а не аудиальной составляющей, роль и авторитет звука в таком случае уменьшаются под натиском письма, а не речи, что предполагает сложно функционирующую в самой себе культуру образных смыслов как противопоставленных, так и сопоставленных в постоянном напряжении области между звуком и письмом. Это и есть одно из объяснений пресловутого романтического парадокса: предназначенный для «глаза», он еще не отрывается от эстетики «слуха» и поэтому открыт интерпретациям, подчас полностью противоречащим друг другу. Потому-то романтикам становится доступно время в режиме памяти, провИдения и т.п. Картины былого или прозрения будущего – это те варианты образности, которые практически недоступны классицисту.
В русской литературе именно жанр оды стал своеобразным полигоном, на котором формировались основные правила соотношения аудиального и визуального начал в их актуальной для XVIII столетия версии. Надо учесть, что русская литература до некоторого времени была практически никак не связана с институцией читателя, поэтому её тексты ориентированы на другие фигуры поля художественной словесности, которые являются читателями по совместительству, а не по преимуществу: «"Публики" как некоего неопределенного, неограниченного психологического фона применения идеологического воздействия литературы в сущности не существовало; потребители литературы были наперечет известны в лицо и по именам, и произведение распространялось в списках с неменьшей легкостью, чем в печатных оттисках. Стимулируя создание придворно-правительственной культуры, вельможи, люди "высшего света", не работали сами ни в искусстве, ни в науке, по крайней мере не работали профессионально. Они, т. е. власть, заказывали культуру специалистам-мастерам этого дела, которых они готовы были обучать за счет казны, так же, как заказывали мастеру мебель и ковры для зал императорского дворца» [Осповат 2020, с. 13]. Это ситуация прецедентных текстов: по логике метапоэтической каузальности, ода не является эстетически самодостаточным произведением, а обусловлена рядом факторов, внеположных художественному измерению. Конечно, основной из них – связь такого произведения с событием государственной значимости и масштаба как реализация принципа каузальности параэстетической. Но когда мы видим первые главы истории одического жанра, надо помнить, что оды Тредиаковского и Ломоносова существуют на тот момент как своеобразные приложения, а точнее, практические примеры новой русской поэзии, где под новизной следует понимать и качество перехода от силлабики к силлаботонике, и разработку стилистических принципов жанра, и формирование одического образного арсенала и тд., и т.п. Поэтому несомненен подчеркнуто сознательный характер поэтической деятельности: авторы од генерируют и применяют новации на самых разных уровнях произведения. Одним из самых любопытных и принципиальных из них кажется именно уровень образности, неодинаково манифестированный аудиальным и/или визуальным способом.
«Ода торжественная о сдаче города Гданска» – один из самых первых опытов Тредиаковского в новой силлабо-тонической форме. Собственно, она и создается в 1734 году как приложение к трактату «Новый и краткий способ…», то есть имеет характер в прямом смысле образцовый, если понимать в данном случае под образцом не позднейшее «совершенство» как категорию авторской поэтики, но технически безупречный механизм функционирования в рамках заданной художественной задачи. То есть это текст, смыслы которого определены ситуацией метапоэтической каузальности как одной из двух разновидностей экстраэстетической причинности, обязательной для нормативной поэтики XVIII столетия вплоть до формирования подлинно авторских систем. Метапоэтическая каузальность определяет причину появления текста не в связи с внешним действительным поводом (хотя это может быть вторичным фактором), но именно с необходимостью презентации «правильно» работающего поэтического механизма. Такой текст демонстрирует свою собственную эстетическую воспроизводимость, предполагая не менее нормативную и правильно функционирующую реакцию на него, что впоследствии совершенно сойдет на нет из-за возникающей в парадигме культуры чувства установки на впечатление от текста как установки интериоризующей, переносящей центр читательской реакции внутрь сознания вместо проявляющейся внешне и открыто этикетной реакции слушателя XVIII столетия.
Ода Тредиаковского впервые в русской поэзии обозначена как торжественная в самом заглавии произведения: «Торжественная ода по существу являлась одой государственной» [Алексеева 2005, с. 7]. Под торжеством следует понимать казус государственной значимости события, явившегося поводом для создания текста, а также восхваляющий, панегирический характер оды, что формирует для нее знаменитый принцип «парения», мотив которого появляется уже во второй строфе [Тухватулина 2019, с. 81]. Принцип парения задает две важные жанровые константы. Во-первых, это рассмотрение темы и предмета оды как бы с большого расстояния, на дистанции. Такая панорамность является как базисом художественного пространства, в котором доминируют крупные планы, а детали практически неразличимы из-за одической дистанции (изначально одическая поэзия вовсе игнорирует их, генерализуя все свои элементы, то есть возводя их к общему и растворяя в отсылках к миру классических эмблем и аллегорий), так и средой для распространения в ней поэтического голоса. Во-вторых, в оде Тредиаковского симптоматично неразличение лирического «я» и лирического «мы». Поэт свободно чередует и соединяет две ипостаси лирического центра, так как еще не знает автопсихологизма, поэтому «я» может заменяться «мы», которое есть как бы индекс сознания, образцово его генерализующего.
Квазиперсональное одическое «я» становится залогом аудиальной напряженности, явной актуализации голосового начала в произведения. Собственно, уже экспозиция, занимающая первые три строфы оды, содержит в себе преимущественно акустическую, а не визуальную образность. Объясняется это тем, что ода традиционно ассоциируется с песней (этимологически и исторически в том числе). И одический поэт манифестируется, прежде всего, как певец, возводимый к традиционной фигуре античности, будь то Орфей или принципиально важный для Тредиаковского Пиндар, упоминание которого во второй строфе носит декларативный характер и объясняет, к какому стилевому лагерю примыкает российский поэт: к умеренно сдержанной манере Горация или к буйству пиндарической стихии. Выбор второго варианта значительно усиливает принцип голосового напряжения, что напрямую отражается в многочисленных аудиальных образах текста.
Характерно, что визуальный потенциал образности так и остается именно потенциалом. С одной стороны, говоря о битве, невозможно не изобразить её картины. С другой стороны, прибегая к аллюзивной технике, Тредиаковский тем самым «затушевывает» эмпирическое начало, и Гданьск становится скорее образцовым олитературенным «градом», а не местом реальной битвы (здесь и далее текст цитируется без указания страниц по: Тредиаковский, 1963):
Сам Нептун что ль строил стены?
Сии при море стоят?
Нет ли Тройским к ним примены,
Что пустить внутрь не хотят
Росско воинство обильно,
И тому противясь сильно?
Вислою там все рекой
Не Скамандру ль называют?
Не за Иду ль принимают
Столнценберг, кой есть горой?
Это показывает, что визуальный аспект образности еще не может обрести своей автономии и доминантности. Пространство конкретное Тредиаковскому неизвестно: оно существует лишь в сопоставлении с образцовыми моделями поэтических топосов, в данном случае оформленное отсылками к троянскому изводу как пространство батальное. И каждый русский воин, пришедший к стенам града, синекдохически сопоставлен с Марсом, а сама российская армия в целом отождествляется с Геркулесом. Однако ход битвы все-таки может быть сопряжен с визуальным началом, но только в согласованности его с аудиальной модальностью:
Тысящами ты атлетов
Тесно всюду окружен,
Грозных молний от полетов
Весь ужасно сокрушен.
Устоять тебе не можно:
Гром готов уже не ложно;
Без защиты твой раскат;
Всяк дол бездну отверзает;
Всяк кров в воздух улетает;
Всех почти лишен оград.
Данная строфа отчетливо репрезентирует принцип акустической доминанты. Образность произведения может быть полноценно функционирующей только в случае вовлеченности звука в изображаемые картины битвы. Кстати, в этой строфе можно отметить еще один прием работы с визуальной составляющей, деформирующий возможную эмпирику при помощи гиперболы: «…всяк кров в воздух улетает». В свою очередь, это лишний раз подчеркивает вторичность визуального начала перед акустическим. «Голосовое» в оде требует напряжения (и даже излишнего напряжения в силу того, что специфика одического пространства связана с его гомогенностью, и это позволяет реализоваться идее голоса как не имеющей преград победительной силе), потому и визуальные элементы в данном случае чрезмерно подчеркнуты и гипертрофированы в силу тесной связи с одическим гласом.
Логично, что абсолютное торжество такого голоса приурочено к моменту батального крещендо – падения Гданьска и незамедлительного появления в тексте аллегории Славы, выкликающей победу русского оружия. Акустическая образность двух отрывков решена в антитетичном ключе. Если падение города есть шум и хаос, то прославление императрицы Анны Иоанновны – величественная песнь, раздающаяся во все концы мыслимого света.
Тем и ценна ода Тредиаковского, что она создает возможности для дальнейшего развития жанра. Её нельзя считать откровенно оригинальным произведением (автор зависит в данном случае и от Пиндара, и от Буало, с его «Одой на взятие Намюра»), но русская поэзия XVIII столетия и не могла быть самостоятельной в современном понимании слова, потому что концепция оригинальности еще попросту не сложилась. Однако в «Торжественной оде о сдаче Города Гданска» реализуется главное: автор, не могущий не изобразить обстоятельства битвы, скорее не видит, а слышит их. Понимание текста как ораторски маркированного феномена выводит на первый план и акустику самого языка, и акустику как базис одической образности. Визуальная же сторона образности вторична: она все время находится в зависимости от аудиального начала, хотя Тредиаковский еще не находит принципа их точного соотношения в композиционном смысле: звуком то открывается картина батального эпизода, то закрывается, порождая ощущение своеобразной каденции, а то и происходит чередование с элементами преимущественно описательного толка. Но визуальная составляющая неизбежно неполноценна, редуцирована либо к классическим аллюзиям (задающим жанрово-поэтическую, условную поэтику пространства), либо к гиперболическому искажению локуса битвы, то есть как таковая, в своей эмпирической определенности, она Тредиаковского не интересует и не может интересовать.
Ставшая знаменитой «Ода на взятие Хотина» создавалась Ломоносовым через несколько лет после оды Тредиаковского и была завершена в 1739 году. В России некоторое время она остается неизвестной, в том числе из-за Тредиаковского и его возможностей «придержать» ломоносовское сочинение в архивах Академии наук. Уже известный поэт, он сразу увидел в Ломоносове опасного соперника, что и подтвердили будущие литературные события. Меж тем Ломоносов, несмотря на все стилистические отличия, продолжал в том числе и дело Тредиаковского, хотя основными образцами для его оды были все же иностранные произведения, как античных (Пиндар), так и современных ему европейских авторов (Фенелон, Буало, Гюнтер). То есть, как и «Ода на падение Гданска», сочинение Ломоносова создано по все той же модели ранней русской поэзии нового типа, базируясь на обширной рецепции прецедентных для того или иного жанра текстов, написанных не на русском языке. Повторимся, что проблема заимствований, могущих поставить под сомнение оригинальность стихотворения, на тот момент еще никак не осмыслена, поэтому Ломоносов ничуть не плагиатен: для поэзии такого типа абсолютно естественна ориентация на образцовые первоисточники.
Однако серьезное расхождение с Тредиаковским заключается в гораздо большей продуманности композиционного плана оды. В основе её все то же пиндарическое «парение», в первой же строфе знаменательным и знаменитым образом маркированное как «восторг». Нам кажется важным, что режим «восторга» как бы принудителен для текста и прослеживается в самом названии: если у Тредиаковского приведен образ «сдачи города», то у Ломоносова именно его «взятия», что сразу задает условия символического возвышения темы за счет самой семантики данного слова.
Ода Ломоносова явно объёмнее оды Тредиаковского. Это позволяет отказаться от некоторой поспешной форсированности реализации темы, которая проявляет себя у автора «Езды в остров любви». Поэтому в произведении Ломоносова гораздо больше системной согласованности. Например, Тредиаковский любит блеснуть своей образованностью в области поэзии и часто перенасыщает текст аллюзиями и реминисценциями, коих у Ломоносова также немало, но манифестирование традиционной образности не становится у него самоцелью. Более того, чтобы упорядочить принцип образности, он опирается в тексте на некоторый ряд бинарий, одна из которых принципиально необходима, чтобы разобраться в интересующем нас аспекте поэтики – в соотношении аудиального и визуального начал.
И это оппозиция звука и тишины, которая работает сразу на нескольких смысловых уровнях. Контраст звука и тишины неизбежен для батальной темы, так как подчеркивает антитезу войны и мира – противоположных состояний, без определения которых невозможно создать оду на заданную тему. Но это и антитеза искусства и реальности. Отметим, что тишина у Ломоносова не предполагает абсолютного, романтического молчания. На самом деле она связана с принципом гармонии, для которой актуален звук, не превосходящий меру, а как бы вписанный в целое и окружающий его одновременно. То есть такое толкование предполагает антитезой тишине не всякий звук, но именно шум, хаотический по своей природе. Подобную тишину можно наблюдать в экспозиции оды, в описании идиллического локуса горы Парнас и её условно-поэтической топографии (здесь и далее текст цитируется без указания страниц по: Ломоносов 1965):
Где ветр в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.
Внимая нечто, ключ молчит,
Которой завсегда журчит
И с шумом вниз с холмов стремится.
Также мотив тишины необходим, чтобы оттенять принудительность аудиального начала в оде Ломоносова. Для этого поэта уже однозначно понимание поэтического мира как обязательно звучащего на разные голоса и лады, что, однако, не приводит к диалогизму и полифонии. Акустический «знак» налагается Ломоносовым на всякий образ с учетом внешнего, внеличностного контекста. Данный контекст связан с гомогенностью имперского пространства в оде и манифестируется как успешное, непрерывно распространяющееся в среде звучание или акустический «гротеск» (шум, хаос, крик и т.п.), то есть всякий сбой, не позволяющий какофоническому звуку «звучать во все концы», но тяготеть к конкретике образа, который его и производит:
Пускай земля как понт трясет,
Пускай везде громады стонут,
Премрачный дым покроет свет,
В крови Молдавски горы тонут;
Но вам не может то вредить.
В данном отрывке, несмотря на гиперболический размах какофонического мотива, мы наблюдаем обязательный для него предел, которым оказывается само росское воинство как своеобразный фронтир, не просто отделяющий имперский топос от турецкого «антимира», но именно расширяющийся в его сторону и за счет динамики своего движения могущий обуздать адские звуки, идущие из лагеря противников императрицы Анны:
Уже ваш к ней усердный жар
Быстро проходит сквозь татар,
И путь отворен вам пространный.
Вернемся к одической экспозиции. В ней сразу заявлена доминанта аудиального аспекта. Сначала поэт формирует акустические характеристики топоса или отдельного образа и только после этого переходит к характеристикам визуальным. Например, музыка «парнасских сестр» предшествует метаморфозе чудесного взгляда, который по своей характеристике – распространение без всяких потерь в гомогенной среде – полностью соответствует специфике распространения звука в той же среде:
Чрез степь и горы взор простри
И дух свой к тем странам впери,
Где всходит день по темной ночи.
Несмотря на то что в данной оде Ломоносова еще не сформировалась свойственная его опытам в данном жанре акустическая триада, о чем нам уже приходилось писать в другой работе [Прощин 2023], «Ода на взятие Хотина» демонстрирует ряд вариантов взаимодействия аудиального и визуального начал, причём с непременной доминантой первого. Первый вариант мы уже указали: аудиальные характеристики предшествуют визуальным. Вот как представлено изображение русского войска, противостоящего своим оппонентам:
Желает всяк пролить всю кровь,
От грозного бодрится звуку.
Как сильный лев стада волков,
Что кажут острых яд зубов,
Очей горящих гонит страхом,
От реву лес и брег дрожит,
И хвост песок и пыль мутит,
Разит извившись сильным махом.
«Грозный звук» предстоит всей остальной образности, переводящей описание битвы из возможного эмпирического режима в риторический режим обильно представленных фигур и тропов: сравнения, синекдохи, метафоры и др. Кажется, что образы льва и окруживших его волков представлены именно визуально, однако на самом деле это пример опосредованной репрезентации аудиального через использование метонимий: из контекста совершенно ясно, что «и острый ряд зубов», и «горящие очи» непрямо связаны именно с ужасными звуками, издаваемыми животными, а сам звук без всякого опосредования возникает в конце строфы: «От реву лес и брег дрожит». То есть это не схема «акустическое – визуальное – акустическое», как может показаться при поверхностном прочтении, а «акустическое, выраженное напрямую, – акустическое, метонимически опосредованное, – акустическое, снова выраженное напрямую». Звук для Ломоносова важен тотально, поэтому он практически никогда не «исчезает из строфы», а именно бывает представлен разными образными модальностями.
Второй вариант соотношения аудиального и визуального начал на первый взгляд инверсивен первому (сначала вводятся визуальные, а лишь потом акустические характеристики). Но если обратить внимание на то, в каких эпизодах встречается инверсивная практика, то мы увидим, что не менее трех раз она связана с описанием именно вражеского войска, и во вполне определенный момент – его унижения и поражения. Вот первый пример:
Скрывает луч свой в волны день,
Оставив бой ночным пожарам;
Мурза упал на долгу тень;
Взят купно свет и дух татарам.
Из лыв густых выходит волк
На бледный труп в турецкий полк.
Иной, в последний видя зорю.
Закрой, кричит, багряной вид
И купно с ним Магметов стыд;
Спустись поспешно с солнцем к морю.
Визуальные характеристики резко ослаблены, так как это описание не дня, а наступления ночи. Такая дефицитность визуального составляет замечательную параллель батальной неудаче турок, тем самым создавая образ мира, окутанного тьмой и какофонически вопиющего, что, в свою очередь, становится антитезой российскому миру, являющемуся в маскимальном блеске и славе победы уже во втором подобном фрагменте (легко догадаться, что в данном случае аудиальные характеристики выведены на первый план в обязательном порядке):
В пещеру скрыл свирепство зверь,
Небесная отверзлась дверь,
Над войском облак вдруг развился,
Блеснул горящим вдруг лицем,
Умытым кровию мечем
Гоня врагов, Герой открылся.
Чуть ниже строгий порядок смены визуальной образности на аудиальную повторяется дважды в подобном же контексте. Сначала мы читаем об окончательном и бесповоротном бегстве врага в характерных «пустых местах» (негативность и дефицитность пространства). Меж тем с россиянами «шумит и бор, и дол», славя их победу, то есть Ломоносов снова акцентирует акустическое тождество человека и мира, если речь заходит об Империи и её победах: врагу остается хаос природы, русское же войско достигает полного согласия и гармония с ней в час «виктории». Чтобы сделать такую антитезу доминантной, в следующих строках Ломоносов дублирует свой прием:
Тогда увидев бег своих,
Луна стыдилась сраму их
И в мрак лице, зардевшись, скрыла.
Летает слава в тьме ночной,
Звучит во всех землях трубой,
Коль росская ужасна сила.
И снова мы видим, как негативно-дефицитная визуальность, обязательная для изображения поверженного врага, ярко контрастирует с аудиальным образом русской победы, для которого даже ночная тьма не становится помехой: напомним, что звук, возводимый и выводимый из идеи Империи, распространяется именно в гомогенной среде, поэтому смена дня и ночи Ломоносова не интересует, так как это пример антитезы психологической, а не тенденциозной, что как раз и важно одическому поэту, который только начал приближаться в те годы к осмыслению проблемы соотношения «я» и «мы» в лирике, но для Хотинской оды «я» примерно и есть «мы» из-за того, что голос поэта как жанровый, а не индивидуальный феномен является именно голосом, изоморфным тотальной идее Империи, а не точкой зрения, то есть обостренным ощущением границы и интенции, постоянно стремящейся выйти за её пределы, как в том же романтизме.
Единственный случай, но все же не концептуальное исключение во всей оде, – это появление в ней образа императрицы, который возникает именно как видЕние:
Великой Анны грозной взор
Отраду дать просящим скор;
По страшной туче воссияет,
К себе повинность вашу зря.
К своим любовию горя,
Вам казнь и милость обещает.
Однако в изображении Анны Иоановны нет ни грана «реализма». Это именно что видЕние, фантастическое по своему масштабу. Кажется, что оно, как минимум, равномасштабно миру как таковому, а не просто топосу битвы, возникая над которой оно олицетворяет победу русских войск. Но обратим внимание на ту характеристику образа императрицы, что опять-таки связана с механизмом распространения звука в однородной среде. Явление Анны подготовлено аудиальными эффектами оды, её лик как бы виден всем и сразу, и, таким образом, зрение, как ранее слух, не находит себе никаких преград, что до этого были так характерны для локуса битвы (туман, ночь, пыль и др.). Принцип открытого горизонта тем самым и есть вариант однородности среды в контексте визуального начала, которое пока еще не получает какой-то более аутентичной характеристики, но зависит от логики манифестирования аудиальной доминаты образной системы.
Далее, ближе к финалу композиционного одического средника, мы видим гармоничное сочетание двух начал в одной эмблематичной картине:
Чинит премену что во всем?
Что очи блеском проницает?
Чистейшим с неба что лучем
И дневну ясность превышает?
Героев слышу весел клик!
Одеян в славу Аннин лик
Над звездны вечность взносит круги;
И правда, взяв перо злато,
В нетленной книге пишет то.
Велики коль ее заслуги.
Перед нами полная согласованность визуального и акустического. Явление Анны невозможно представить только как аналог живописному изображению: имперская епифания процессуальна и сопряжена с кликом славы в честь самодержицы. Более того, очень важным оказывается аллегорический образ правды, записывающей в вечной книге славу императрицы. Образ книги переводит панегирический экфрасис на новый уровень: где, как не в книге, завершается и тотально осуществляется союз визуального и аудиального? Несмотря на риторический, поэтический характер жанра оды, она все же является произведением литературы, то есть культуры печатного слова, для коей характерно понимание акустического уровня текста как внешнего по отношению ко всему произведению, которое поэтому и может быть манифестировано на уровне слова как таковом. Однако, будучи ораторским жанром, ода не может считаться жанром устным, и это не академический трюизм, а именно акцент на идее композиционного согласования, которая осмысляется Ломоносовым главенствующей задачей в попытке создания оды вслед за Тредиаковским, и эта попытка имеет как несомненно агонический, но в самой своей основе и эстетически комплементарный характер.
В завершении оды Ломоносов создает идиллический экфрасис мирной жизни после блестящей русской виктории. Неудивительно, что в данном случае образность по преимуществу визуальна, хотя поэт все равноне может обойтись без ставшего традиционным для его од воспевания мирной жизни, наступающей после эпохи политических бурь:
Пришед, овец пасет где друг,
С ним песню новую заводит.
Солдатску храбрость хвалит в ней,
И жизни часть блажит своей,
И вечно тишины желает
Местам, где толь спокойно спит.
Показательна новая актуализация мотива тишины, о котором мы уже говорили в статье. Если в одической экспозиции он связан с контекстом искусства, то в финале оды тишина есть уже своеобразный имперский «термин», знак, получающий максимально масштабное значение, изоморфное самой концепции империи. Тем самым Ломоносов не просто повторяет мотив, а градуирует его, удостоверяя принципиальное значение мотива для выбранного им жанра.
В заключение скажем, что именно аудиальная доминанта позволяет разрешить противоречие, которое возникает при упоминании барочной поэтики в отношении русской литературы, ведь, как известно, для барокко крайне важна визуальная составляющая, а Тредиаковского и Ломоносова принято называть теми авторами, творчество которых стилистически с ним соотносится. Однако вспомним, что понимание визуального в духе барокко сопряжено с подчеркнуто условной логикой эмблематики, нежели с эмпирической уникальностью поэтического образа, «зримые» элементы которого взяты как самоценность: «Эмблему можно осмыслить как продукт двойной изоляции: образ, лишенный визуального контекста, соединен в ней с высказыванием, лишенным контекста словесного» [Махов 2014, с. 82]. Иными словами, визуальное как эмблематически приоритетное не имеет в себе самостоятельных смыслов, которые создаются исключительно за счет словесного элемента. То есть зримая сторона образа требует дополнительного герменевтического усилия, которое мало связано с визуальным как источником смыслов. Смыслы эти постоянно обнаруживаются на стороне. Так и в поэзии визуальное не самодостаточно, потому что его смыслы порождаются ожиданием искусственных значений. Потому аудиальное начало имеет характер первичный и ключевой, так как оно напрямую связано со словом и как со звуком (базовый момент), и как с «идеей» (момент высший). Мы несколько раз показали в статье, что визуальная компонента одического батального топоса принципиально отвлечена от возможной эмпирической составляющей. Одного названия географических пунктов, расстановки локальных маркеров битвы, равно как и базовой её логистики («враг напал», «враг дрогнул», «враг бежал») совершенно недостаточно, чтобы можно было сказать о некоей живописности. Ода пока еще не тот жанр, в котором может быть актуализирована дескриптивность более глубокого уровня: визуальное у Ломоносова и Тредиаковского, напротив, тяготеет к полюсу аллегории и эмблемы и теряет свою содержательную автономию, так как возводится к исключительно литературным и общекультурным моделям пространства.
Итак, если Тредиаковский находит основные принципы соотношения аудиального и визуального начал в оде, то Ломоносов упорядочивает и систематизирует их, однозначно сопоставляя с основными топосами «своего» и «чужого» миров, неизбежными для батальной логики подобного произведения. То есть подтверждается мысль, которая была высказана не раз: Ломоносов не преодолевает Тредиаковского, не подвергает его безжалостной ревизии, но именно уточняет его положения, делая их тотально и стройно функционирующими. И далее в творчестве он неоднократно воспользуется своими находками, впервые обнаруживающимися в Хотинской оде, создав такую разновидность оды, которую невозможно перепутать с жанровыми моделями других поэтов той эпохи.
Источники
Ломоносов 1965 – Ломоносов М.В. Избранные произведения. М.-Л., 1965.
Тредиаковский 1963 – Тредиаковский В.К. Избранные произведения. М., 1963.
Литература
Алексеева 2005 – Алексеева Н.Ю. Русская ода (развитие одической формы в XVII–XVIII веках). СПб., 2005.
Махов 2014 – Махов А.Е. Эмблематика: макрокосм. М., 2014.
Осповат 2020 – Осповат К. Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века. М., 2020.
Прощин 2023 – Прощин Е.Е. Акустическая триада «мир – автор – текст» в одах М.В. Ломоносова // Филоlogos. 2023. № 1 (56). С. 63–69.
Об авторах
Е. Е. Прощин
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Автор, ответственный за переписку.
Email: filnnovv@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-6993-4077
SPIN-код: 5576-0070
кандидат филологических наук, доцент
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23Список литературы
- Алексеева 2005 – Алексеева Н.Ю. Русская ода (развитие одической формы в XVII–XVIII веках). СПб., 2005.
- Махов 2014 – Махов А.Е. Эмблематика: макрокосм. М., 2014.
- Осповат 2020 – Осповат К. Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века. М., 2020.
- Прощин 2023 – Прощин Е.Е. Акустическая триада «мир – автор – текст» в одах М.В. Ломоносова // Филоlogos. 2023. № 1 (56). С. 63–69.
Дополнительные файлы