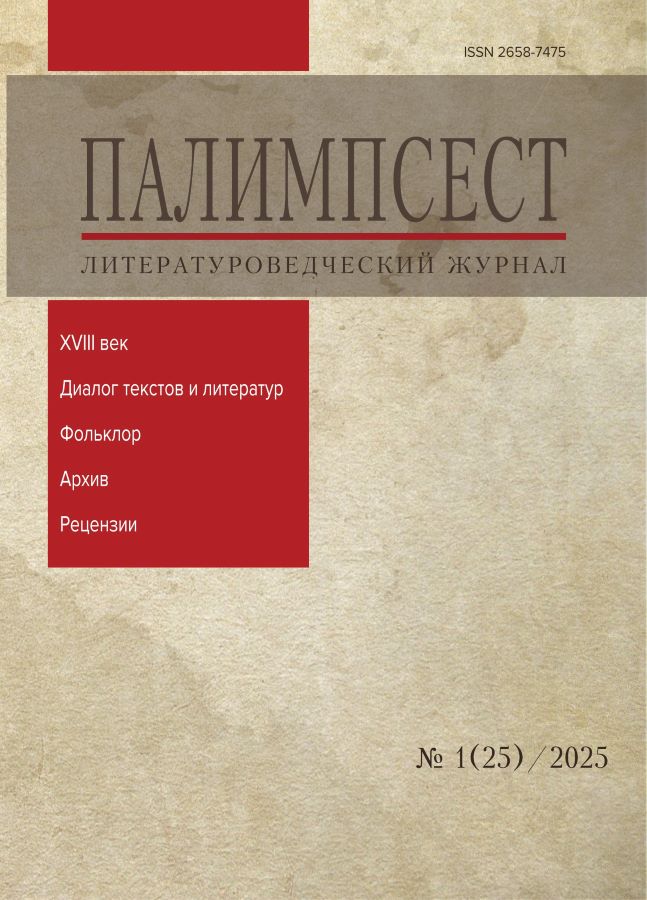ПРОПУСКИ (ЭЛЛИПСИС) В ЧАСТУШКЕ
- Авторы: Корепова К.Е.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
- Выпуск: № 1 (25) (2025)
- Страницы: 83-102
- Раздел: ФОЛЬКЛОР
- URL: https://journal-vniispk.ru/2658-7475/article/view/297817
- ID: 297817
Цитировать
Аннотация
Пропуск (эллипсис) в частушке не стал еще предметом специального рассмотрения, хотя изучение его помогает понять поэтику жанра-миниатюры. В статье исследуются пропуски стилистические и сюжетные. Среди стилистических особое внимание уделено лексическим при субстантивации, позволяющим одновременно обозначить предмет, охарактеризовать его и выразить отношение к нему. Сюжетные рассматриваются в зависимости от сюжетно-композиционной структуры текстов. Некоторые из эллипсисов этого типа возникают, когда расширяется типичное для жанра художественное время: из настоящего следует обращение к прошлому. Малая форма не позволяет показать событие в его временно́м развертывании, и выбирается, кроме настоящего, один фрагмент былого, часть содержания переносится в подтекст. Есть две устоявшиеся модели реализации данной формы: частушки-воспоминания, содержащие формулу «вспомни…, а теперь...», и частушки с формулой «было …, а теперь ...». Прошлое и настоящее в них даются с диаметрально противоположной оценкой, опускается мотивация перемен. Продуктивнее оказалась модель без жесткой формульности, где, кроме временно́го противопоставления, появляются еще другие, не столь прямолинейные. В ней разнообразнее сюжеты, пропуски и подтекст. Пропуски используются также в текстах со сквозным развитием темы, где иногда нарушаются логические отношения между действиями персонажа, обстоятельствами и действием, действием и реакцией на него, что нуждается в пояснении, но оно опускается – создаётся возможность различных толкований, т.е. многозначный подтекст. Характер пропусков усложняется в частушках двухчастных, где переносятся в подтекст отношения, связывающие между собой разные компоненты обеих частей.
Итак, сюжетные пропуски рождают подтекст, создающий художественную ёмкость, позволяющий передать в жанре-миниатюре сложность переживаний человека, глубину проникновения во внутренний мир. Пропуски заслуживают дальнейшего изучения, установления их типологии, что откроет возможности для введения русской частушки в круг жанра лирической миниатюры в мировой культуре.
Ключевые слова
Полный текст
Пропуск (эллипсис) – часто употребляемый прием организации текста в частушке. Особая значимость его в поэтической системе жанра объясняется, во-первых, тем, что частушка пользуется бытовой, разговорной речью, а, как писал в свое время Ф.И. Буслаев, «русская речь отличается опущениями. Как скоро мысль понятна и связь мыслей видна сама по себе, опущение позволяется» [Буслаев 1992, с. 285]. Во-вторых, при малой поэтической площади и повествовательности частушки, хотя и неразвернутой, пропуски в ней вынужденны и неизбежны. Изучение их помогает понять поэтику частушки как жанра-миниатюры.
В частушке пропуски разнообразны: грамматические, лексические, синтаксические, фонетические и событийные, сюжетные.
- Лексические пропуски
Наиболее частыми пропусками в частушках являются лексические, возникающие при метонимических заменах (одного предмета другим) или при субстантивации. Метонимия и особенно ее разновидность синекдоха широко используются в частушках. Они уже привлекали внимание исследователей [Горелов 1965, с. 13–14; Кулагина 2000, с. 218–239]. В одной из последних работ, книге А.В. Кулагиной [Кулагина 2000], дается характеристика особенностей частушечной метонимии и представлена систематизация материала на уровне образов [Кулагина 2000, с. 230–239, 294–296, таб. 8]. Мы дополним круг учтенных метонимических образов примерами, во-первых, выявленными в источниках, не привлекаемых автором книги, во-вторых, возникающими в результате субстантивации, и рассмотрим семантические принципы замен.
А.В. Кулагина справедливо отметила, что замены в частушках связаны преимущественно с мужскими образами. «Обычно в частушечной синекдохе происходит замещение парня (реже девушки) какой-то деталью его внешнего облика», – пишет она [Кулагина 2000, с. 220]. И далее: «В синекдохе обычно речь идет об одежде парня, реже – девушки...» [Кулагина 2000, с. 229]. В ее таблице образов-замен среди предметов женской одежды называется лишь сарафан, а головные уборы представлены только мужские [Кулагина 2000, с. 295]. Дополним ее перечень встретившимися женскими образами: Меня били-колотили / Во́ поле под елочкой; / Приходила, отнимала / Юбочка с оборочкой [Симаков 1913, № 787]. В частушке предмет-замена дан в соответствии со спецификой жанра: не в типовом варианте, а конкретизирован деминутивом (юбочка, а не юбка) и деталью (с оборочкой), что сразу не только называет заменяемое лицо, но и характеризует его с некоторых сторон (мать, например, юбочкой с оборочкой не назовешь). Встретился в частушках в качестве замены персонажа и предмет, используемый как женский головной убор: Не летай, голубь один, / Мы голубушку дадим, / Дадим красненький платок, / Полюби-ка, паренек [Тимин 2025, № 3097]. И: Что кудрявые березки, / Разрослись так хорошо? / Что вы, красные платочки, / Разошлись так далеко? [Тимин 2025, № 3163]. Последний текст, возможно, из самодеятельных куплетов, но создан с учетом традиции.
А.В. Кулагина не рассматривала замены, возникающие в результате субстантивации[1], полной или частичной. Эти замены и пропуски с точки зрения литературных приемов подобны метонимии или синекдохе и, на наш взгляд, могут рассматриваться как ее окказиональные, или ситуативные, проявления. Их в частушках не меньше, чем собственно метонимии – замен предмета предметом. При субстантивации замена лица или предмета позволяет не только обозначить предмет или лицо, назвать его, но еще охарактеризовать со стороны какого-либо качества и напрямую выразить отношение адресата речи, лирического героя, к характеризуемому: милый(ая), желанный(а), (рас)хороший(ая), ненаглядный(ая), дорогой(ая), заветный(ая), любо́й(ая), фартовый(ая) и т.п., то есть концентрированно реализовать лирический потенциал жанра.
В частушках субстантивация используется при наименовании широкого круга лиц и предметов: персонажей-возлюбленных [Гурская 2009, Климкова 2013 I, II, Судаков 2016, Корепова 2025] (кроме упомянутых выше, бедовая, чернобровый и чернобровая, черноглазый и черноглазая, развеселый, усатенький, кудрявенький, супротивный, курносая, крутолобая и т.п.), подруги и товарища (заветная, задушевная и задушевный: Задушевный мой женился, / Я спросил, какая жизнь. / Задушевный мне ответил:/ «Погоди, не торопись» [Тимин 2025, № 3622]), объектов, связанных с деятельностью лирического героя, например:
Трогай, трогая, белоногой,
Я поеду той дорогой
[Елеонская 1914, № 5244];
Голубой, не выгорай
На моей головушке,
Дорогой, не забывай
На чужой сторонушке
[Тимин, № 1634].
Часто субстантиватами заменяются лексемы гармонь (девятиладовая, шестиплашная, сторублевая и др.) и песня:
Сыграй, забава, новеньку;
Развесели бедовеньку
[БРФ, № 1815];
Разведу, я разведу
Двадцатирублевую,
Полюблю я, полюблю
Свою чернобровую.
[Елеонская 1914, № 1810].
Заменам по принципу метонимии, как известно, подвержены достаточно распространенные предметы, легко узнаваемые, кроме того, в тексте обычно содержится какая-либо подсказка для угадывания их нового значения – контекст обеспечивает понимание. Предметами, подверженными заменам, в частушке оказываются те, что задействованы в сфере любовных отношений. К числу таких принадлежат кольцо, символ брачного союза, и носовой платок, достаточно частотный образ в текстах, имеющий в молодежной традиционной культуре, а потому и в частушке, вторичное значение: действия с платком символизируют различные стороны любовных отношений (подарок – признание в чувствах, возвращение подарившей или уничтожение – разрыв отношений и т.п.). Я на речке платье мыла, / Уронила носовой. / Вот те<бе>, миленький, подарок: / Унесло его водой [Елеонская 1914, № 1767]. И: Золотое на руки, / Серебряно в кармани, / Мне подруженька сказала: / «Любит, да обманит» [Зеленин 1905, № 248]. Та же модель замены в частушке: Поглядела в боковое: / По канавам идут двое, / Первый – миленький-то мой, / Второй – подруги дорогой [Симаков 1913, № 74]. Что касается замены лексемы окно, то она вписывается в распространенное в жанре метонимическое гнездо с ключевым понятием дом. Как отметила А.В. Кулагина, дом и его составляющие (конек, крыша и др.) служат заменой парня: дом завлекает, сушит [Кулагина 2000, с. 236, 237, 296]. В последней частушке окно выступает самостоятельным предметом, оно задействовано в ряде сюжетных ситуаций: под окном парень ждет любимую на свидание (Отвори, мама, окошко, / Голова что-то болит. – / Не обманывай, плутовка: / Тебя миленький манит [Тимин 2025, № 931]), стуком в окно вызывают на свидание (Подошла бы я к окошечку – / Туфе́лички скрипят, / Разбудила бы миленочка – / Родители не спят [Тимин 2025, № 939]), девушка ждет парня, глядя в окно (…всю я ночку не спала: / Все в окно глядела [Тимин 2025, № 770]), через него общаются влюбленные (Дай-ка, Господи, снежку / Занести дорожку, / Чтобы не было следку / К милкину окошку [Елеонская 1914, № 3331]) и т.д., поэтому закономерно включение его и в метонимический ряд.
Метонимические замены и соответственно лексические пропуски не всегда являются художественными находками в жанре. Некоторые из них сложились вне жанра в разговорном, бытовом языке (милый, дорогой, (раз)любезный и т.п.) и пришли в частушку вместе с ним. То же произошло и с другими примерами поэтического языка в жанре, например, с эпитетами, устойчивыми тавтологическими повторами и др., что было уже замечено исследователями. Так, И.В. Зырянов писал о постоянных эпитетах: «…эти прилагательные, слившиеся в единое целое с определяемыми существительными, характерны и для живого разговорного языка; эти словосочетания стали чем-то вроде устойчивых словосочетаний, они могут одинаково употребляться и в письменной, и в разговорной речи» [Зырянов 1974, с. 60]. Еще раньше об этом же говорил А.А. Горелов: «Песенная образность, символика за несколько столетий вошли в практическое сознание русского человека, стали неотъемлемым элементом повседневного, а не только специально художественного мышления, – не утратив, впрочем, эстетического оттенка. Для поэтического арсенала частушки они оказались совершенно органичны не только благодаря тому, что частушка нередко возникала в лоне песни, а и потому, что это не противоречило эмпирической реалистичности художественного метода нового жанра, где сознание практическое и поэтическое сделались взаимопроникающими» [Горелов 1965, с. 17]. Создатели частушек в этом случае лишь выбирали из разговорного языка поэтические выражения и продолжили традицию новыми образцами по той же модели уже в рамках жанра.
В то же время бесспорно, что в большинстве случаев использование метонимии, в том числе и путем субстантивации, в частушках преднамеренное – ради художественной выразительности при малой поэтической площади. Об этом свидетельствуют тексты с явно сознательной особой концентрацией замен, например: Выхожу и начинаю / Первую, начальную! / Не могу развеселить / Головушку печальную [БРФ, № 3666], Ты веселая, веселая, / Веселая моя, / За тебя, моя веселая / В остроге сидел я [Елеонская 1914, № 1549] – или употребление лексемы, являющейся в одном тексте заменой наименований нескольких разных предметов и лиц: Я веселая девчоночка, / Веселого люблю, / Веселый сядет, заиграет – / Я веселую спою [БРФ № 4168]. В любом случае эллипсисы, возникающие при заменах, придают стиху выразительность, пропуски приводят к семантической емкости текста.
Семантически нагруженной является и метафора, поскольку переносное значение, как правило, бывает эмоционально окрашенным, что оформляется грамматически или создается всем контекстом, как, например, в частушке: В той деревнюшке малина / Целу зимушку манила; / А теперя – лебеда, / Не мани́т меня туда [Елеонская 1914, № 3183]. Лексема ягода в частушках является метафорой возлюбленного или возлюбленной; возлюбленного – без конкретизации (Ах ты, ягодка ты мой, / Пришла расстанюшка с тобой… [БРФ, № 786]), возлюбленной – часто с конкретизацией: ягода земляничина или, как в данной, малина. Здесь малина (= любимая девушка) и лебеда (= нелюбимая) – метафоры окказиональные, каждая заменяет наименование лица и его оценочную характеристику. В данной частушке лексема малина грамматически нейтральна: не имеет оценочного суффикса и не сопровождается оценочным эпитетом, но содержит положительную оценку благодаря прямому значению «сладкая ягода», а также включена в положительный эмоциональный контекст (манит и слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: деревнюшка, зимушка), кроме того, противопоставлена лебеде как горькому растению.
- Синтаксические пропуски. На синтаксическом уровне пропуски в частушках выражаются в опущении служебных слов – союзов и частиц. В частушечной речи преобладают бессоюзные предложения при противительной, условно-временной, причинно-следственной и др. видах связи между простыми предложениями: Не видала, как пришел, / Видела – разделся … [Елеонская 1914, № 2464]; …Полюбила <б> я тебя – / Только воля не моя [Елеонская 1914, № 4764]; На вечерке дроли нет – / Скоро спать захочется [Елеонская 1914, № 14)]; …Нет милого моего – / Больно сердцу тошно [Елеонская 1914, № 2756] и т.п. Не страданье – одна мука: / Милый дома, а я тута [Елеонская 1914, № 3961]. При этом иногда в одной частушке бывает несколько синтаксических пропусков, как в последней или в следующих: Обойду я вокруг саду, / <Если> Нет милого <то> – с другим сяду [Елеонская 1914, № 3912]. Гуля бросил – я забыла. / Подошел – сердце заныло [Елеонская 1914, № 3994]. Отсутствует обычно частица это между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными. С этих позиций жанр исследовался И.В. Зыряновым [Зырянов 1974, с. 48–52].
Опущение союза экономит поэтическую площадь, что важно в миниатюре, и в то же время придает мысли особую выразительность: как писал Ф.И. Буслаев, «опущение союза дает речи силу» [Буслаев 1992, с. 285].
- Фонетические пропуски в частушке возникают в целях сохранения ритма стиха и сводятся к опущению в слове отдельного звука в случае, если слово не укладывается в ритм, например: Что ты, ягодка, не граешь… [Симаков 1913, № 38], хотя рядом в тексте тот же глагол без пропуска: Ты играй, играй, тальяночка… [Симаков 1913, № 37]. Или даже в одном тексте: На горе я бороную, / Вижу девку молодую, / Кину, брошу борновать, / Пойду милашку целовать [Елеонская 1914, № 1789]. Опускаются гласные в корне, чаще в начале его, один из звуков при полногласии и в приставках, но так, что пропуск не мешает восприятию смысла: Пойте, девки, прибаутки, / А я буду пернимать… [Елеонская 1914, № 4725].
- Сюжетные пропуски.
Сюжетные пропуски, то есть опущение звена в повествовании, встречаются реже, чем лексические и синтаксические: в малом жанре, особенно в двухстрочном тексте, они потенциально трудноосуществимы. Но они есть, даже разнообразны, что говорит о высоком художественном мастерстве создателей частушек. Пропуски различаются по содержанию, месту и роли в сюжетно-композиционной структуре текста.
Некоторые не влияют на понимание общего смысла: если в тексте «связь мыслей видна сама по себе» [Буслаев 1992, с. 285], то опущение по законам русской речи естественно, оно даже не замечается, например: Пойду, схожу в огород, / Нарою картошки. / Куплю Грише сапоги, / Себе полсапожки [Тимин 2025, № 734]. Не составляет труда понять, что картошка будет продана и покупка, о которой далее сообщается, осуществится на полученные в результате продажи деньги. Подобные пропуски-опущения характерны для устной речи, оттуда они приходят в частушку и не всегда в ней несут художественную нагрузку, но выбор их автором позволяет сокращать словесный объем текста и вмещать его в четыре строки. Чаще встречаются пропуски преднамеренные и художественно обоснованные, влияющие на смысл всего текста, – смысловые, а по целевому назначению дополняющие или мотивирующие последующее утверждение.
Такие пропуски неизбежно возникают при изображении в частушке прошлого. Как известно, жанровое художественное время частушки – настоящее, в границах нескольких лет предбрачной жизни создателей – молодежи, иногда захватываются первые годы брака, т.е. показываются произошедшие перемены. Настоящее в большинстве текстов является и сюжетным временем: лирический герой делится с участниками коммуникации тем, что волнует его в данный момент.
Художественному времени соответствуют содержание, объем событий: как правило, изображается в частушке один момент душевного состояния, одна жизненная ситуация, поэтому и содержание даже без событийных пропусков укладывается в малую форму – четыре или даже две строки.
Но иногда создатели частушек расширяют содержание и прибегают к ретроспективному показу чувств и события, в соответствии со спецификой жанра – истории любовных отношений героев. Малая форма не позволяет показать событие в его временно́м развертывании, через ряд последовательных моментов, и время предстает в этом случае дискретным: из истории выбирается, кроме настоящего, еще лишь один фрагмент былого, а потому используется создателями пропуск в повествовании – эллипсис, появляется подтекст.
Изображение прошлого для жанра не характерно, и частушек такого рода немного. Есть лишь несколько устоявшихся сюжетно-композиционных моделей. Одна из них – это частушки-воспоминания. Модель содержит инициальную формулу, состоящую из обращения к адресату речи, императива и зарисовки прошлого: вспомни, милый, как…, (см. БРФ, №№ 3892, 3894, 3895, 3897–3899, 3901–3911, 3913, 3914; Тимин, № 2683–2685, 2692–2695 и др.). Прошлое предстает в этих частушках одним фактом, картиной одного счастливого мгновения, то есть принцип изображения сиюминутности сохраняется: Вспомни сани с тормозами, / В них мы ехали с тобой, / На ухабе, эх, желанная, / Обня́л тебя рукой [БРФ, № 3914], Вспомни, дроля, где сидели, / Вспомни, ягода моя, / Вспомни узкую скамеечку – / Сидели ты да я [БРФ, № 3897]. Прямого противопоставления настоящего и прошлого в этой модели нет, оно присутствует лишь в подтексте, поскольку прошлое подается как мысленное возвращение к нему из настоящего.
Но есть двухчастная разновидность данной модели с сюжетно выраженной антиномией былого и настоящего: Вспомни, милый, как бывало: / Ноги мерзли – я стояла. / А теперя, милый мой: / Ноги теплы – я домой [Тимин, № 2685]. Частушка и в этом случае, сохраняя специфику жанра, дает историю через конкретные, обычно противоположные сценки, только происходящие в разное время: в начале и в завершении истории, опускаются при этом развитие отношений и мотивация перемен.
С двухчастными частушками-воспоминаниями сходна следующая модель, тоже с противопоставлением прошлого и настоящего, выраженным формулой было (бывало, было время)…, а теперь …, иногда с обозначением только одного из противопоставляемых времен: … было, а … или …, а теперь ... [Елеонская 1914, №№ 1565, 1700, 2302, 2350, 2571, 2914; Тимин 2025, №№ 2686–2690]. В ней, как и в частушках-воспоминаниях, прошлое и настоящее всегда даются с противоположной оценкой: прошлое – с положительной, настоящее – с отрицательной. Причинное событие, определяющее перемены, бывает опущено: Было, было крыльцо мило, / Был знакомый уголок, / А теперь пройду я мимо – / Только дует ветерок [Тимин 2025, № 2696]; Я, бывало, ожидала, / То этого, то того, / А теперь, мила товарочка, / Не надо никого [Тимин 2025, № 3025]. Данная модель типична для фольклорной традиции: она формульна, причина изменений дается в обобщенной форме (милый разлюбил или выдали замуж). Хотя частушки данной модели представлены значительным числом текстов, но круг сюжетов ограничен, и встречаются они лишь в двух тематических группах: о прошедшей любви и о замужестве. Данная модель оказалась «тесной» для жанра частушки, для которого характерна конкретизация и в котором личное начало развито больше, чем в предшествующих фольклорных жанрах[2].
Востребованной и продуктивной эта модель стала в частушках-куплетах с общественно-политическим содержанием. Там появились два цикла, в одном использована традиционная инициальная формула Раньше был (было), а теперь …, в зачине другого время конкретизировано: При царе при Николашке … Например: Раньше был я жулик, / Лазил по карманам, / А теперь в Совете / Главным комиссаром [Тимин 2025, №№ 4403, 4401–4410; Клюева 2019, № 76]. В вариантах: рыболов, нищий, лапотник, смазчик, грузчик, говночист и т.д. [Лурье 2019, с. 222–224]). Формула с конкретизацией времени: При царе при Николашке / Ели белы колобашки, / А теперь новый режим: / Мы все с голоду лежим [Тимин 2025, №№ 4412–4414, Домановский 2013, № 23/553 и др.]. Опущено мотивационное звено – упоминание о революции и установлении Советской власти.
Разнообразнее сюжеты, пропуски и подтекст в частушках без жесткой формульности. В них ослабевает временно́е противопоставление, оно предстает в разной степени и разных формах, кроме того, высвечиваются другие противопоставления – в действиях и состоянии персонажа, при этом они, как правило, не такие прямолинейные, как временное (было – теперь). Пример тому – частушка: Все ходил, так любо было – / Все веселая была. / Ходить не стал – поисхудала / Расжеланная моя [Елеонская 1914, № 35]. В ней тоже два времени в истории любви, переданные через действие персонажа: когда ходил и когда ходить не стал. Но есть еще противопоставление реакции возлюбленной на его действия (веселая – поисхудала). Изменение реакции сюжетно мотивировано (перестал ходить), но, как в других подобных текстах, нет мотивировки перемен: почему он не стал ходить, т.е. прервал отношения. Типичное для формульной модели объяснение – разлюбил –здесь не работает, ситуация сложнее: контекст подсказывает, что инициатива в разрыве отношений принадлежит ему, в то же время она остается его любимой (разжеланной, т.е. очень желанной). Пропуск придает многомерность содержанию и допускает различное толкование недосказанного, многозначный подтекст.
В бесформульных моделях могут выбираться на шкале времени разные моменты. Так, в одной из частушек показаны крайние моменты в истории отношений и тем противопоставление особо выделено:
Отдавала – хохотала;
Получала – плакала.
Получала – плакала:
[Елеонская 1914, № 210].
Содержание данной частушки – возвращение из настоящего в прошлое, осмысление былых любовных отношений. Из всей истории любви выбраны два момента: начало – признание в чувствах и всеохватывающая радость (хохотала), потом финал – разрыв отношений и горе (плакала). События переданы через этикетные символические ситуации, в момент создания частушки всем понятные: дарение парню платочка как знак признания в чувствах и возвращение платочка парнем – знак прекращения отношений. Как и предыдущая частушка, данная строится на двойном, последовательно проведенном противопоставлении: действий (там: ходил – перестал; здесь: отдавала – получала обратно) и реакции на действия (была веселая – поисхудала; хохотала – плакала). Но в данной во втором двустишии, которое в смысловом отношении бывает всегда особо значимым, содержится еще осмысление происшедшего, до сих пор приносящего боль. Не случайно строка Получила, плакала повторена: использована типичная для фольклорного стиха усилительная тавтология. Похоже, лирическая героиня в случившемся видит и свою вину, но пытается прикрыть чувства шутливым тоном, используя просторечное слово: она сама платочек укайдакала. Просторечный глагол ук(х)айдакать многозначен, но ни одно из значений, приводимых в словарях [Даль, Ефремова 2000, МАС], не подходит полностью к частушечному. Употребленное в частушке ближе всего к значению, приведенному в словаре народных говоров: «2. лишиться чего-либо по небрежности, потерять», здесь: «не суметь сохранить платок у милого как знак любви» [СРНГ, т. 48, с. 242]. В частушке много пропусков, и за ними в подтексте скрыто лирическое содержание. Три первых предложения бессоюзные, бессоюзная конструкция создает эмоциональное напряжение, к тому же отсутствует объект действия (платочек), появляющийся только в последней строке, и лексический пропуск тоже усиливает напряжение: рождает ожидание. Кроме синтаксического и лексического пропусков, в частушке есть пропуск мотивационный: не говорится, почему героиня получила платочек обратно, и пропуск повествовательный: как она его укайдакала, каким поступком, поведением. Но именно подтекст, возникающий вследствие пропусков, и придает содержанию объемность. А в словесной передаче история любви, непростая, закончившаяся печально, вмещается в две строки текста и – вместе с подведением ее итогов – в 6 слов. Данный текст обнаруживает, что в жанре частушки возможно не только запечатлеть сиюминутность бытия, но и подвести итоги отрезку жизни, что позволяют сделать повествовательные пропуски.
Кроме частушек с противопоставлением прошлого и настоящего, пропуски используются в текстах со сквозным развитием темы, где действия хотя и даны как следующие одно за другим, но акцент с временно́го противопоставления перенесен на характер действия и реакцию на него. В частушке: Веселилося и радовалось / Сердце у меня – / Понапрасну дожидалася / Сегодняшнего дня [Елеонская 1914, № 1732] противопоставлены ожидание и осознание того, что оно было понапрасным, оказалось несбывшимся, в ней есть обычный для сюжетов с временной последовательностью действий пропуск – отсутствие мотивационного звена: не сказано, что же произошло и почему ожидания не сбылись. Противопоставлены в частушке и чувства, сопровождавшие ожидание, но названы они лишь в одном случае: радость ожидания, а реакция на отрицательный результат перенесена в подтекст (разочарование, печаль?). Кроме того, не назван и предмет ожидания. Что должен был принести ожидаемый день? Встречу с милым, объяснение в любви, подарок его? Подтекст расширяет содержание, недоговоренность дает простор для сотворчества.
В частушке с последовательным развитием темы, когда чувства или настроение персонажа передаются через ряд действий, могут оказаться нарушенными логические отношения между ними, что нуждается в пояснении, но мотивировка поступков бывает опущена. Пример тому – частушка: На широкой полосе / Перепела песни все, / Песенок напелася, / Села наревелася [Тимин 2025, № 1826]. В частушке после трех строк о пении ждешь в последней, в смысловом отношении самой важной, подобное – оптимистическую концовку, но называется действие, противоположное ожидаемому, – наревелася. Поскольку между двумя ситуациями нет противительного союза, оформляющего противопоставление, становится возможным двоякое понимание первой: может быть, героиня пела не от радости и песни были грустные, т.е. выпевала горе? Жанровый контекст подсказывает и даже делает предпочтительным другое толкование: пение здесь есть проявление веселья. Именно с весельем ассоциируется пение в других текстах и противопоставляется плачу, ср.: Я из сада выходила – / Канарейка пела. / А я, глядя на нее, / Девчонка ревела [Тимин 2025, № 1822]. Если в поведении героини веселье сменяется печалью, чувством горя, то за рамками текста в этом случае оказывается причина резкой перемены настроения. И при любом прочтении остается в частушке мотивационный пропуск: чем вызваны слезы? Пропуски и вынесение части содержания в подтекст дают возможность передать сложность и неоднозначность чувств.
Сходная модель в частушке: Кто-то с горочки идет – / Идет мое желание, / Не на радость он идет – / Идет на расставание [Тимин 2025, № 2457]. Частушка таит недосказанность, в ней явная логическая нестыковка между двустишиями: девушка ждет милого (смотрит на дорогу, называет желанным), но вдруг говорит о расставании, вероятно, о нем она собирается сообщить любимому. Расставание, похоже, вынужденное, не от нее зависящее. Причина его, а следовательно, и ее поступка – за рамками текста.
В ряде частушек противоречивой оказывается реакция лирического героя на обстановку, ситуацию, описанную в первом двустишии – зачине. Например: У миленка в домике / Самовар на столике, / Чашки чисты, чай душистый… / Прощай, миленький форсистый [Тимин 2025, № 2543]. Частушка о прощании с любимым, по-видимому, о разрыве отношений, но предшествующие строчки не мотивируют его и, более того, свидетельствуют, казалось бы, о благополучии (деминутивная лексика: домик, столик; семантически положительная ситуация – чаепитие – и эмоционально положительное наименование возлюбленного – миленький, хотя и с некоторой оговоркой – форсистый).
Характер пропусков еще больше усложняется в частушках двухчастных. Здесь могут оказаться в подтексте отношения, связывающие между собой разные компоненты в сюжетно-композиционной структуре. С горы на гору ходила, / И теперь ноги болят. / Чернобрового любила, / И теперь все им корят [Тимин 2025, № 2481] – в этой частушке рядом поставлены две жизненные истории, одна о физической боли, другая о душевной, о теперешнем внутреннем состоянии героини (все корят прошлой любовью). Каждое двустишие в этой композиционной конструкции содержит сопоставление прошлого и настоящего (… и теперь…), но в параллельном сопоставлении картин пропущено одно звено: в первой прошлое изображается как трудное, во второй нет его характеристики. Здесь прошлое – это любовь, сопоставительный контекст заставляет думать, что она тоже была нелегкой, в чем-то, вероятно, необычной и потому вызвала осуждение. Часть содержания (характеристика, имеющая мотивационный характер), таким образом, вынесена в подтекст, а сопоставление помогает понять недосказанное.
По тому же принципу строится двухчастная частушка: У ворот стоит скамейка, / Черным лаком крытая, / Я, миленочек, тобой / Симпатией забытая [Тимин 2025, № 2418], но она уже с другими смысловыми связями между частями и другой ролью подтекста. Формально между частями в ней нет никакой связи, но, зная роль скамейки в культуре отношений молодежи, понимаешь, что скамейка у ворот, да еще памятная, – это место встреч, предмет из прошлого, притом счастливого, поскольку оно противопоставлено настоящему, когда героиня оказалась «симпатией забытая». Словесно данные смысловые связи не оформлены, снова часть содержания опущена, вынесена за текст. Но если в предшествующей частушке подтекст восстанавливал часть содержания и тем давал мотивировку сказанному, то здесь он способствует углублению изображаемого чувства и придает ему образность – у него другая роль.
Еще пример двухчастной частушки со сложными отношениями между частями и пропусками разных типов: Перелесочек густой, / Скоро будет полюшко. / А у нас с тобой, товарищ, / Всё како-то горюшко [Тимин 2025, № 3523]. Две части в частушке противопоставлены, что выражено грамматически – противительным союзом а. Пафос первой части (природной зарисовки) – предстоящие перемены, о чем говорит выражение «скоро будет». Пафос второй – отсутствие желаемых перемен в жизни, печальное постоянство, выраженное наречием всё, имеющим значение беспрерывно, постоянно [Ефремова 2000, знач. II.1]. Противопоставление прямо не сформулировано, оно в подтексте, хотя следы его прослеживаются в лексике (скоро будет – всё). И еще сюжетная загадка, невысказанная, отраженная в подтексте: природные картинки (перелесочек густой и полюшко) противопоставлены и смена их желательна. В чем противопоставлены? Чем для лирического героя предпочтительнее полюшко, почему его ждут? И еще: перелесочек, потом полюшко – природные картины даны с позиции идущего человека, их пересекающего, а следовательно, размышление о непроходящем горюшке – это мысли в пути. Обстановка, в которой произносится монолог, – тоже в подтексте, как и общение с адресатом речи – с товарищем (он рядом идущий или диалог мысленный?).
В данной частушке, как и в некоторых рассмотренных выше, связи между компонентами содержания грамматически оформлены, но существуют частушки, в которых связи не выражены словами, они опущены, перенесены в подтекст. Тогда повествование кажется бессвязным, речь – прерывистой. В самоварчике водица гретая … / У милого голова отпетая… / Уж как байкова рубашечка не нем, / Я сегодня два раз плакала об ём [Елеонская 1914, № 189]. Первая фраза – бытовая зарисовка, ничем далее не поддержанная. Это внешняя жизнь героини, всем видимая, то, чем она занята в момент внутренних размышлений, а далее частушка повествует о скрытом, сокровенном – об одолевающих ее в этот момент думах о милом, любимом, но доставляющем тревоги, о думах невысказанных, сбивчивых: У милого голова отпетая – в этом любовь, тревога и печаль, затем без логического перехода: Уж как байкова рубашечка на нем… – любование им, он будто перед глазами, и вдруг: Я сегодня два раз плакала об ём – признание без объяснения причин. Чувство неоднозначное, и рассказ соответствует ему. С учетом подтекста частушка при сбивчивости изложения оказывается картиной художественно целой, передающей сложность и неоднозначность чувств и настроения.
Еще подобная частушка: Я на мельнице была, / Лицо запылила, / А где ж его взять, / Кого я любила? [Тимин 2025, № 2480]. Снова бытовая картинка и фрагмент раздумий, ответ на пропущенное звено, с которым высказанный ответ-возражение соединен противительным союзом а, то есть от подтекста в тексте остался грамматический след.
Прерывистость, непоследовательность в изложении как одну из особенностей композиции ряда частушек отметил А.А. Горелов: «В одних случаях мы наблюдаем скользящую плавность переходов от впечатлений, картин, зарисовок окружающего к лирической исповеди героев. В других же фиксируется моментальное, мгновенное, и тогда налицо сочетание «несочетаемого», единение «несоединимого» – <...> две равноправные стихии, два контрастных потока сознания: внешний (произносимое) и внутренний (мыслимое, сокровенное, подспудное)» [Горелов 1965, с. 20]. Приведенные выше частушки – пример такой связи компонентов содержания, определяющих подтекст.
Итак, сюжетные пропуски рождают подтекст, обогащающий содержание частушки, создающий художественную ёмкость, позволяющий передать в этом жанре-миниатюре сложность переживаний человека, многообразие настроений, глубину проникновения во внутренний мир. Лирический подтекст – художественное новаторство, привнесенное в коллективное творчество жанром частушки [Горелов 1965, с. 18–20], сближающее частушку с классической литературой.
В частушках есть пропуски, обусловленные не художественными задачами, а другими свойствами жанра. Так, встречается содержательный пропуск, отражающий природу жанра как коммуникативного акта, в живом бытовании представленного не только текстом, но и мелодией и сопровождающими движениями (проходом, пляской, жестами и т.д.). Ее словесный текст лишь один из компонентов «текста» реального, поэтому в ней может быть отсылка с сопроводительному действию, которое в словесном тексте обозначается лишь местоименными наречиями, например, Мы вот эдак-ту походим/ И вот эдак-то пойдем, / На копейку семян купим – / По карманам раскладем [Тимин 2025, № 1007]. Указательные местоимения здесь предполагают исполнительский жест.
Некоторые частушки содержат реалии, которые в наши дни непонятны или не совсем понятны, и может показаться, что в тексте присутствует мотивирующий пропуск. Между тем при возникновении частушки пояснения не требовались, непонимание возникло при изменении быта, отраженного в ней. Таковы, например, частушки с упоминанием каких-либо ситуаций этикета молодежной культуры, имеющих знаковый характер: роли носового платочка, пояса, поведения на беседке (усаживания парня рядом с девушкой или на колени к ней) и т. п.
Пропуски в частушках заслуживают дальнейшего изучения: накопление наблюдений позволит выявить новые их типы и установить типологию, что откроет возможности для введения русской частушки в круг жанра лирической миниатюры в мировой литературе.
Источники
БРФ – Частушки. Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. Ф.М. Селиванова. (Библиотека русского фольклора, т. 9). М., 1990.
Даль – Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. М., 1955.
Домановский 2013 – Комелина Н. Частушки из коллекции Л.В. Домановского (подборка № 17); Песня и частушки из коллекции Л.В. Домановского (подборка № 23); Записи Л.В. Домановского от О.Н. Минаевой (подборка № 26) // Русский политический фольклор. Исследования и публикации. М., 2013. URL: https://www.litres.ru/book/aleksandr-panchenko/russkiy-politicheskiy-folklor-issledovaniya-i-publikac-9362208 (дата обращения: 08.10.2023).
Елеонская 1914 – Сборник великорусских частушек. Под ред. Е.Н. Елеонской. М., 1914. URL: https://www.litres.ru/book/raznoe/sbornik-velikorusskih-chastushek-520265/?ysclid=m2io88jwwq101990040 (дата обращения: 24.10.2024).
Ефремова 2000 – Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000. URL: https://lexicography.online/explanatory/
efremova/?ysclid=m2ipj65wea348475629 (дата обращения: 20.10.2024).
Зеленин 1905 – Зеленин Д.К. Сборник частушек Новгородской области (По материалам из бумаг В. А. Воскресенского) // Этнографическое обозрение. 1905. № 2–3. С. 164–320. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/voskresen/index.htm? ysclid=m2ipq82lxl214970886 (дата обращения: 20.10.2024).
Клюева 2019 – Русские частушки. Записаны в Казанской губернии, в гор. Казани <В.Н. Клюевой>. Публ. М.Л. Лурье при участии И.В. Каневой // Фольклор без фольклористов. Рукописные альбомы и любительские собрания частушек первой трети XX века. Сост.: М.Л. Лурье, Н.Н. Рычкова; под ред. М.Л. Лурье. М., 2019. С. 229–270.
МАС – Словарь русского языка: В 4-х т. РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М., 1999. URL: htts://lexicography.online/explanatory/mas/у/ (дата обращения: 20.10.2024).
Симаков 1913 – Симаков В.И. Сборник деревенских частушек Архангельской, Вологодской, Вятской, Олонецкой, Пермской, Костромской, Ярославской, Тверской, Псковской, Новгородской, Петербургской губерний. С приложением нот и подробного библиографического указателя литературы. Ярославль, 1913. URL:https://www.booksite.ru/fulltext/simak/index.html?ysclid=m2ixwqgnsv805562922 (дата обращения: 19.10.2024).
СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 48. Сост. Ф.П. Филин. Ред. Ф.П. Сорокалетов, С.А. Мызников. Л., 1965.
Тимин 2025 – Частушки 1920–1930-х годов. Собрание И.И. Тимина. Сост., вступ. ст., коммент. и указатели К.Е. Кореповой. Н. Новгород, 2025.
[1] В таблице «Образно-поэтическая система метонимии и синекдохи в частушках» А.В. Кулагиной [Кулагина 2000, с. 294–296] прилагательные учитываются лишь в роли эпитетов и не рассматриваются как субстантиваты, являющиеся образами.
[2] Мотив воспоминаний – скорее литературный, чем фольклорный, и частушки-воспоминания иногда сохраняют следы городского романса, низовой литературной поэзии и городские атрибуты: Вспомни, милый, час унылый, / Как мы расставалися: / Слезы капали на розы, / Розы осыпалися [БРФ, № 3909], Вспомни, милый, майский вечер, / Майские прогулочки, / Где сидели мы в саду, / Срывали незабудочки [Тимин 2025, № 2695], Вспомни, милый, ту аллею, / Где акации цвели... [Тимин 2025, № 2694] и т.п.
[3] Чаще произносится ухайдакала. Форма ухайдакать дана с СРНГ, т. 48, с. 242.
Об авторах
Клара Евгеньевна Корепова
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Автор, ответственный за переписку.
Email: korvic@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-1837-3353
доктор филологических наук
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23Список литературы
- Буслаев 1992 – Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка. М., 1992.
- Горелов 1965 – Горелов А.А. Русская частушка в записях советского вре-мени // Частушка в записях советского времени. Изд. подгот З.И. Власова и А.А. Горелов. М-Л., 1965. С. 5–27.
- Гурская 2009 – Гурская С.Л. Имена существительные общего рода, назы-вающие любимого человека в ярославских говорах // Ярославский педагогиче-ский вестник. 2009. № 1. С. 171–175.
- Зырянов 1974 – Зырянов И.В. Поэтика русской частушки (Учебное посо-бие). Пермь, 1974.
- Климкова 2013 (I) – Климкова Л.А. Нижегородская частушка: лексиче-ский аспект // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 6 (2). С 94–97.
- Климкова 2013 (II) – Климкова Л.А. Нижегородские частушки: сильные текстовые позиции // Приволжский научный вестник. 2013. № 8 (24). Т. 2. С. 28–36.
- Кулагина 2000 – Кулагина А.В. Поэтический мир частушки. М., 2000.
- Судаков 2016 – Судаков В.Г. Название любимого человека в вологодских частушках // Вестник Череповецкого гос. ун-та. 2016. № 6. С. 111–120.
- Лурье 2019 – Лурье М.Л. Коллекция частушек из архива В.Н. Клюевой // Фольклор без фольклористов. Рукописные альбомы и любительские собрания частушек первой трети XX века. Сост.: М.Л. Лурье, Н.Н. Рычкова; под ред. М.Л. Лурье. М., 2019. С. 219–228.
Дополнительные файлы