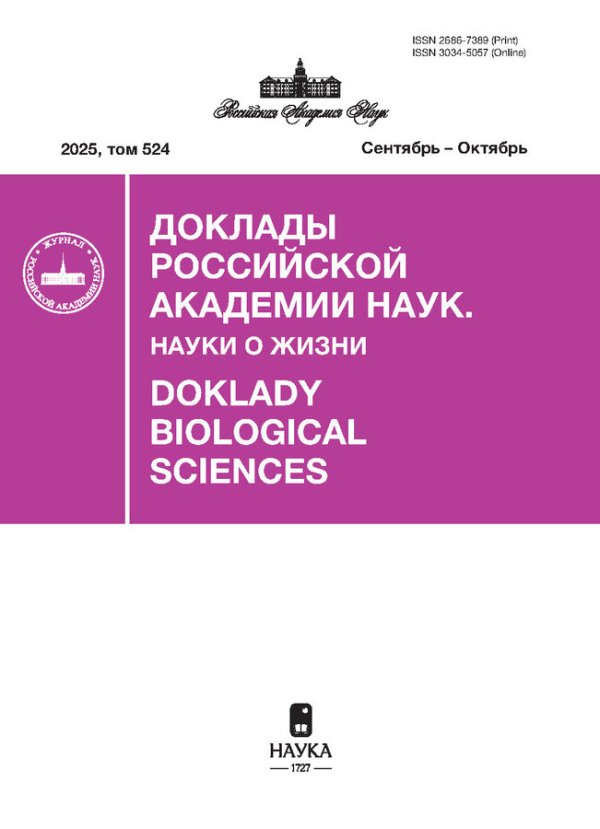Plants of various monocot families differ in nitrogen and phosphorus content in leaves
- Authors: Betekhtina А.А.1, Reutova N.A.1, Veselkin D.V.2
-
Affiliations:
- Ural Federal University
- Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 517, No 1 (2024)
- Pages: 46-50
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2686-7389/article/view/269378
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2686738924040075
- ID: 269378
Cite item
Full Text
Abstract
The content of N and P in the leaves of the following five families of monocots was studied: Poaceae, Cyperaceae, Orchidaceae, Iridaceae, Amaryllidaceae. It was found that species of different families of monocots had different N and P content and ratio in their leaves. N content was low in Iridaceae and high in Amaryllidaceae. P content was the lowest in Cyperaceae and Poaceae and the highest in Amaryllidaceae and Iridaceae. The minimum N/P ratio was in Iridaceae, the maximum in Poaceae. Thus, the content of N and P and their ratio is specific in different families of monocots.
Full Text
Азот (N) и фосфор (P) – ключевые биогенные элементы, доступность которых контролирует структуру и продуктивность биологических сообществ [1, 2]. Изучение закономерностей азотного и фосфорного питания растений имеет большое теоретическое и практическое значение. В частности, прогресс в области производства продовольствия в значительной степени является следствием того, что современные сельскохозяйственные технологии позволяют устранить или снизить лимитирующее рост растений влияние недостатка N и P в почвах [3].
С увеличением содержания N в почве содержание N в растениях увеличивается в глобальном [4] и региональном [5] масштабах. Но разные виды растений обычно различаются по содержанию N и P [6], в том числе в одних и тех же сообществах [7, 8]. Это связывают, прежде всего, с дифференциацией растений на разные функциональные типы, у которых выражены различия в протекании основных жизненных процессов – росте, выживании и размножении. Основной физиологический показатель, имеющий наиболее важное значение в формировании функционального типа растения – интенсивность фотосинтеза; он сильно коррелирует с содержанием рибулозобисфосфаткарбоксилазы, на долю которого приходится до 75% азота листьев [9]. Содержание N тесно коррелирует с содержанием Р. В основе продукции растений лежит сопряжение процессов фотосинтеза и поглощения N и Р подземными органами. Эффективность процессов поглощения N и Р различается у растений с разными типами почвенного питания – со способностью корней поглощать элементы минерального питания автономно или с помощью симбиотических приспособлений. У бореальных однодольных автономные (корни и корневые волоски разного строения, моркововидные корни [10, 11]; аэренхима) и симбиотические (арбускулярная микориза [12, 13]; микориза орхидных [14]; темные септированные эндофиты) приспособления по-разному проявляются у разных таксонов, что приводит, в частности, к своеобразию синдромов строения корней Cyperaceae, Iridaceae, Poaceae и Orchidaceae [13]. На основании этого можно предположить, что содержание N и P в листьях однодольных растений может различаться у растений разных семейств. Цель работы – проверить предположение о различии в содержании N и P в листьях видов пяти семейств однодольных.
Проанализировали листья 41 вида пяти семейств – Amaryllidaceae, Cyperaceae, Iridaceae, Orchidacea и Poaceae. Листья растений Cyperaceae, Orchidacea и Poaceae отобрали в разных, преимущественно естественных местообитаниях в пределах Белоярского южно-таежного ботанико-географического округа Свердловской области. 8 видов Cyperaceae: Carex acuta, C. digitata, C. montana, C. nigra, C. palescens, C. supina, C. vesicaria, Carex sp. Четыре вида Orchidaceae: Cypripedium guttatum, Dactylorhiza fuchsii, Goodyera repens, Platanthera bifolia. 11 видов Poaceae отобрали в естественных местообитаниях: Alopecurus pratensis, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, C. epigeios, Deschampsia cespitosa, Elytrigia repens, Helictrotrichon desertorum, Melica nutans, Phleum phleoides, Ph. pratense, Phragmites australis. Листья еще двух видов Poaceae – Avena sativa и Miscanthus sacchariflorus – отобрали у растений, росших на окультуренных почвах в Ботаническом саду УрФУ. При этом Avena sativa выращивали как без дополнительного внесения удобрений в год сбора материала, так и при дополнительном внесении один раз за вегетацию комплексного NPK удобрения в дозе 96 кг N и 96 кг Р на гектар. Листья растений семейств Amaryllidaceae и Iridaceae отобрали в Ботаническом саду УрФУ и в Ботаническом саду УрО РАН. 10 видов Amaryllidaceae: Allium aflatunense, А. altaicum, А. angulosum, А. ciantorum, А. cyathophorum var. Farreri, А. oblicuum, А. ramosum, А. rubens, А. victorialis, А. zebdanse. 6 видов Iridaceae: Iris aphylla, I. halophile, I. pseudacorus, I. ruthenica, I. setosa, I. sibirica.
Исследовали завершившие рост листья среднего яруса с 10–15 особей каждого вида. Из всех образцов каждого вида формировали 2–3 пробы массой по 10 г листьев в свежем состоянии. Пробы сушили 48 ч при 70°С, затем тонко измельчали. Содержание N определяли в трехкратной повторности методом мокрого сжигания по Къельдалю (с использованием Heating Digestor DK 20 Velp и Distilation Unit UDK 12 Velp) и титриметрическим окончанием. Содержание общего фосфора измеряли спектрофотометрически после мокрого сжигания по Къельдалю.
Растения разных семейств в среднем значимо различались между собой по содержанию N и P и по соотношению N/P. Об этом свидетельствовал результат многомерного дисперсионного анализа (MANOVA), в который включили все три переменные: λWilks = 0.20; F = 6.37; dfeffect = 12; dferror = 90.25; P < 0.0001. Попарные сравнения с использованием критерия Бонферрони (таблица 1) показали следующее. Содержание N было низким у Iridaceae, а высоким – у Amaryllidaceae (рис. 1). Содержание P было самым низким у Cyperaceae и Poaceae, а самым высоким – у Amaryllidaceae и Iridaceae. Минимальное соотношение N/P было у Iridaceae, максимальное – у Poaceae.
Таблица 1. Средние значения (±SE) и соотношение N и P в листьях видов пяти семейств однодольных. В каждом столбце гомогенные по критерию Бонферрони значения отмечены одинаковыми буквенными индексами
Семейство | N, мг/г | P, мг/г | N/P |
Amaryllidaceae | 30.65 ± 2.38c | 3.23 ± 0.36b | 10.21 ± 0.89ab |
Cyperaceae | 15.69 ± 1.23ab | 1.29 ± 0.17a | 13.64 ± 1.69ab |
Iridaceae | 14.09 ± 0.99a | 3.33 ± 0.62b | 4.95 ± 0.97a |
Orchidacea | 21.05 ± 1.28ab | 2.14 ± 0.14ab | 9.98 ± 1.02ab |
Poaceae | 22.15 ± 1.41b | 1.74 ± 0.22a | 15.70 ± 2.23b |
Рис. 1. Распределение видов семейств однодольных (● – Amaryllidaceae; ● – Cyperaceae; ● – Iridaceae; ● – Orchidacea; ● – Poaceae) в пространстве, задаваемом содержанием N и P в листьях. Одиночной красной стрелкой отмечена точка, характеризующая содержание N и P в листьях Avena sativa на окультуренной почве без дополнительного внесения удобрений. Диапазон содержания N и P в листьях этого вида при выращивании на дополнительно удобренной почве показан горизонтальными и вертикальными размахами. Двойной красной стрелкой отмечена точка, характеризующая содержание N и P в листьях Miscanthus sacchariflorus.
В целом у тех растений, в листьях которых было больше N, было также больше P. В полном массиве измерений между концентрациями N и P была значимая положительная корреляция (r = 0.38; P = 0.0144; n = 41). В результате среднее массовое соотношение N/P у четырех семейств варьировало в диапазоне 10–16 и только у Iridaceae это соотношение было около 5. Средние геометрические величины содержания N, P и N/P, установленные нами (20.4 мг/г; 2.0 мг/г и 10.4), и опубликованные [15] значения (19.4 мг/г; 1.3 мг/г и 15.3) были близкими.
Таким образом, виды разных семейств однодольных имели разные композиции N и P в листьях. В нашем массиве только у Orchidacea не установлено экстремальных характеристик химического состава. У четырех семейств минимум одна характеристика была в статистически значимом экстремуме. На качественном уровне это заключение хорошо соотносится с феноменом специфичности корневых синдромов семейств однодольных [13]. Однако представленный результат не кажется тривиальным. Поскольку стехиометрия N и P связана с пластическим и энергетическим обменом организмов [6], априорно не было оснований предполагать заметную таксономическую детерминацию этих свойств.
Дифференциация растений по содержанию N в листьях – результат эволюции и адаптации к актуальным условиям. Высокое содержание N и P в листьях – это показатель доступности питательных веществ и одновременно – признак конкурентно-рудеральных свойств, что обычно сопровождается высокой интенсивностью фотосинтеза. Усиление этих свойств обеспечено строением поглощающих корней, которые реализуют высокую поглощающую способность. Растения бедных местообитаний отличаются высокой эффективностью использования N и P, а строение их корней обеспечивает поглощение питательных веществ при их низких концентрациях с низкой скоростью.
По всей видимости, интенсивно поглощают N и P корни видов Amaryllidaceae, в листьях которых этих элементов было много. Строение поглощающих корней видов данного таксона систематически не исследовалось, поэтому связывать особенности состава их листьев с особенностями строения корней можно исключительно гипотетически. Высокое содержание P у Amaryllidaceae указывает на вероятность высокой интенсивности арбускулярной микоризы. Необходимо также исследовать, не связано ли активное поглощение N и Р у Amaryllidaceae с частым формированием у видов этого семейства аэренхимы, присутствие которой обеспечивает доступ к дополнительным источникам N и P [16]. Вместе с тем наличие аэренхимы не может быть исчерпывающим объяснением высоких концентраций N и P в листьях, так как аэренхима нередка и у Cyperaceae и у Poaceae.
Низкое содержание P в листьях Cyperaceae может быть связано с условиями их произрастания, в которых, как правило, рост растений органичен низким содержанием минеральных форм Р, что объясняет слабое образование арбускулярной микоризы [10, 13]. Предположительно, осоки поглощают Р из органических соединений с помощью автономных приспособлений – корневых волосков и моркововидных корней [10], которые, вероятно, отличаются низкой интенсивностью поглощения. Приспособлением к поглощению Р служат также тонкие корни осок, имеющие большую площадь контакта с почвой на единицу объема корня [17].
Одна из особенностей корней видов Iridaceae, у которых было мало N и много P, – их большая толщина [13], что связывают с адаптацией к дефициту азота [18]. Высокое содержание Р у Iridaceae может объясняться обильной арбускулярной микоризой у них [13]. Но известно, что при интенсивном развитии арбускулярной микоризы из-за высокой потребности грибных симбионтов в азоте поступление N в растения может ограничиваться [19].
Неожиданно, что мы не нашли специфики содержания N и P у Orchidaceae, учитывая крайне специализированное строение их очень толстых неразветвленных корней с особым, свойственным только Orchidaceae, типом микоризы [13, 14]. Не исключено, что для надежного суждения об особенностях состава листьев Orchidaceae необходимо увеличение числа обследованных видов. Промежуточное положение Poaceae по содержанию N и P более ожидаемо, поскольку значения большинства признаков строения корней у Poaceae также были промежуточными между другими семействами [13]. Единственный признак, который у Poaceae в экстремуме, – короткие корневые волоски, в среднем, самые короткие из Cyperaceae, Iridaceae, Orchidacea и Poaceae [13].
Наши материалы не позволяют быть абсолютно уверенными, что наблюдаемое содержание биогенов в растениях обусловлено исключительно принадлежностью вида к тому или иному семейству, а не к тем или иным условиям. Например, виды Cyperaceae и Orchidaceae преимущественно приурочены к почвам с высоким содержанием органики и дефицитом минеральных форм N, а травы с арбускулярной микоризой (Amaryllidaceae, Iridaceae, Poaceae) предпочитают почвы с большей доступностью неорганических соединений N [20]. Мы собирали листья Amaryllidaceae и Iridaceae в ботанических садах в крупном городе, хотя и не всегда на окультуренных почвах. Не обусловлено ли большое содержание P у видов этих семейств местом сбора? Этот вопрос требует специальной проверки. Но два вида злаков – Avena sativa и Miscanthus sacchariflorus также собраны в ботаническом саду, а Avena sativa при этом – на окультуренной почве и при дополнительном внесении N и P в год выращивания растений. Несмотря на это, у Avena sativa и Miscanthus sacchariflorus содержание N низкое или среднее, а содержание P – низкое. Следовательно, таксономический сигнал в массиве наших измерений реален, а амплитуда экологической изменчивости содержания N и P, хотя и оцененная фрагментарно, не велика и, вероятно, не имеет решающего значения.
Заключение. В этом исследовании мы впервые представили данные по содержанию N и P и по соотношению N/P у видов пяти семейств однодольных растений, различающихся по строению корней, т.е. в связи с разнообразием способов почвенного питания, свойственных разным таксонам. Невозможность исчерпывающего объяснения установленных закономерностей указывает на фрагментарность существующих знаний о биоэкологических особенностях однодольных в подземной сфере. Например, не ясны причины, обуславливающие сходство содержания N и P у орхидей и злаков, хотя строение корней и типы микоризы у них очень контрастно различаются. Необходимы также специальные исследования функциональных черт, обуславливающих высокое содержание N и P у Amaryllidaceae. Однако в целом можно уверенно считать, что у бореальных однодольных выражена заметная специфика содержания N и P, коррелирующая с принадлежностью к тому или иному семейству. Следовательно, есть основания утверждать, что специфичность морфологического строения корней семейств однодольных сопровождается сходного масштаба специфичностью содержания N и P.
Финансирование работы
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-26-00248, https://rscf.ru/project/24-26-00248/
Соблюдение этических норм и стандартов
В данной работе отсутствуют исследования человека или животных.
Конфликт интересов
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
А. А. Betekhtina
Ural Federal University
Author for correspondence.
Email: A.A.Betekhtina@urfu.ru
Russian Federation, Ekaterinburg
N. A. Reutova
Ural Federal University
Email: A.A.Betekhtina@urfu.ru
Russian Federation, Ekaterinburg
D. V. Veselkin
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: A.A.Betekhtina@urfu.ru
Russian Federation, Ekaterinburg
References
- Elser J.J. et al. Global analysis of nitrogen and phosphorus limitation of primary producers in freshwater, marine and terrestrial ecosystems // Ecology letters. 2007. Т. 10. №. 12. С. 1135–1142.
- Bui E.N., Henderson B.L. C: N: P stoichiometry in Australian soils with respect to vegetation and environmental factors // Plant and soil. 2013. Т. 373. С. 553–568.
- Awasthi P., Laxmi A. Root Architectural Plasticity in Changing Nutrient Availability // Rhizobiology: Molecular Physiology of Plant Roots. 2021. С. 25–37.
- He M. et al. Leaf nitrogen and phosphorus of temperate desert plants in response to climate and soil nutrient availability // Scientific Reports. 2014. Т. 4. №. 1. С. 6932. 1.
- Зубкова Е.В., Стаменов М.Н., Припутина И.В., Грабовский В.И. Использование методов фитоиндикации для оценки связи содержания азота в растениях с условиями их произрастания (на примере лесов Южного Подмосквья) // Ботанический журнал. 2023. Т. 108. №10. С. 896–913.
- Güsewell S.N. P ratios in terrestrial plants: variation and functional significance // New phytologist. – 2004. Т. 164. №. 2. С. 243–266. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2004.01192.x
- Бетехтина А.А. и др. За 50 лет зарастания отвала золы содержание азота и фосфора изменилось в эмбриоземе, но не изменилось в растениях // Экология. 2023. №. 4. С. 281–290.
- Онипченко В.Г. и др. Химический состав листьев растений как функциональный признак формирования альпийских растительных сообществ // Экология. 2023. №. 6. С. 407–415.
- Chapin F.S. et al. Plant responses to multiple environmental factors // Bioscience. 1987. Т. 37. №1. С. 49–57.
- Konoplenko M.A., Güsewell S., Veselkin D.V. Taxonomic and ecological patterns in root traits of Carex (Cyperaceae) // Plant and Soil. 2017. Т. 420. С. 37–48.
- Lambers H. Phosphorus acquisition and utilization in plants // Annual Review of Plant Biology. 2022. Т. 73. С. 17–42.
- van Der Heijden M.G.A. et al. Mycorrhizal ecology and evolution: the past, the present, and the future // New phytologist. 2015. Т. 205. №4. С. 1406–1423.
- Betekhtina A.A., Tukova D.E., Veselkin D.V. Root structure syndromes of four families of monocots in the Middle Urals // Plant Diversity. 2023.
- Minasiewicz J. et al. Stoichiometry of carbon, nitrogen and phosphorus is closely linked to trophic modes in orchids // BMC Plant Biology. 2023. Т. 23. №. 1. С. 422.
- Wang Z. et al. Divergent nitrogen and phosphorus allocation strategies in terrestrial plant leaves and fine roots: A global meta-analysis // Journal of Ecology. 2022. Т. 110. №. 11. С. 2745–2758.
- Postma J.A., Lynch J.P. Root cortical aerenchyma enhances the growth of maize on soils with suboptimal availability of nitrogen, phosphorus, and potassium // Plant physiology. 2011. Т. 156. №3. С. 1190–1201.
- Gahoonia T.S., Nielsen N.E. Barley genotypes with long root hairs sustain high grain yields in low-P field // Plant and Soil. 2004. Т. 262. С. 55–62.
- Roumet C. et al. Root structure–function relationships in 74 species: evidence of a root economics spectrum related to carbon economy // New Phytologist. 2016. Т. 210. №3. С. 815–826.
- Yang X. et al. How arbuscular mycorrhizal fungi drives herbaceous plants’ C: N: P stoichiometry? A meta-analysis // Science of The Total Environment. 2023. Т. 862. С. 160807.
- Макаров М.И. Роль микоризы в трансформации соединений азота в почве и в азотном питании растений (обзор) // Почвоведение. 2019. №2. С. 220–233.
Supplementary files

Note
Presented by Academician of the RAS V.N. Bolshakov