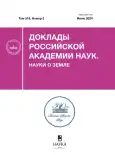Lithospheric structure of the Sarmatia north-eastern part based on new seismological data
- Authors: Adushkin V.V.1, Goev A.G.1, Vinogradov Y.A.2, Shapovalov A.V.1
-
Affiliations:
- Sadovskiy Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences
- Geophysical Survey, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 516, No 2 (2024)
- Pages: 616-621
- Section: GEODYNAMICS
- Submitted: 12.12.2024
- Published: 15.03.2024
- URL: https://journal-vniispk.ru/2686-7397/article/view/272984
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2686739724060142
- ID: 272984
Cite item
Full Text
Abstract
For the first time, based on the receiver function technique, lithospheric velocity models of the Khoper block and the Losevskaya suture zone was obtained. Mentioned structures belongs to the Voronezh crystalline massif of the Sarmatia protocraton. The crust is defined by a four-layer structure with the presence of a waveguide in the lower crust. For the Khoper block of Sarmatia, the presence and characteristics of low velocity zone in the upper mantle at depths of 110–150 km, marking mid-lithospheric discontinuity (MLD), have been identified and determined. A complex, possibly gradient, structure of the crust-mantle transition has been revealed.
Keywords
Full Text
Восточно-Европейская платформа (ВЕП) представляет собой массив докембрийской континентальной литосферы в восточной Европе, располагающийся между каледонскими и байкальскими складчатыми сооружениями на севере, герцинидами на востоке и альпинидами на юго-западе. Она была образована в результате последовательного столкновения трёх крупных, некогда независимых участков литосферы – Фенноскандии, Сарматии и Волго-Уралии около 2.1–1.7 млрд лет назад [1]. В результате, в центре ВЕП была образована коллизионная зона, частично перекрытая осадочным чехлом, границы которой, при этом, хорошо прослеживаются по выявленным на территории авлакогенам. Мегаблоки различаются по возрасту, генезису и тектонической структуре.
Мегаблок Сарматия, в свою очередь, можно разделить на несколько архейских провинций, существенно различных между собой. Возраст выделенных провинций колеблется между 3.75 и 2.7 млрд лет, более древние породы залегают на юго-западе, постепенно сменяясь более молодыми в северо-восточном направлении. В период с 2.1 до 2.0 млрд лет назад произошло столкновение архейских блоков и палеопротерозойских поясов, формирование Сарматии и доминирующих шовных зон, направленных с севера на юг. Наличие обширных сублатеральных магматических поясов позволяет предположить, что примерно 2.0 млн лет назад существовала единая Сарматия [1]. В девонское время, в результате рифтогенеза и формирования авлакогенов, в т.ч Припятско-Днепровско-Донецкого авлакогена, Сарматия был разделена на две части. В южной части находится Украинский щит, а в северной – Воронежский кристаллический массив (ВКМ). Детальное изучение этих структур проходит по настоящее время [2–4].
В соответствии с общепринятым делением территории Воронежского кристаллического массива в докембрии выделяется три главных тектонических элемента – мегаблоки Курской магнитной аномалии (КМА) и Хопёрский, разделённые Лосевской шовной зоной (рис. 1), представляющей собой активную континентальную окраину, надвинутую на аккреционный комплекс Воронцовского прогиба [4].
Рис. 1. Тектоническая схема эрозионного среза докембрия ВКМ [6]. Выделены основные тектонические элементы. Треугольниками показаны широкополосные сейсмические станции на территории ВКМ. Красным выделены станции, данные которых анализируются в представленной работе.
Мегаблок КМА представлен гранито-гнейсовыми блоками архейской консолидации, которые обладают специфическими округлыми формами и ограничены разломами с явно выраженными компонентами поднятий и сдвигов. Оценивая особенности внутренней структуры мегаблока КМА, можно назвать её блоково-линейной, сформировавшейся в разные периоды времени. Блоковая природа характерна для архейских структур, линейная – для протерозойских.
Хопёрский мегаблок представлен в большей степени породами воронцовской серии, осложнёнными магматогенными образованиями. Одна из наиболее подробных схем расчленения серии принадлежит И. П. Лебедеву [5]. В результате было выделено 4 толщи, залегающие, несогласно перекрывая друг друга: 1) нижняя вулканогенно-терригенная, 2) терригенная, 3) средняя вулканогенно-терригенная и 4) верхняя вулканогенно-терригенная. Они разделяются по фациальному составу, а также по характеру вторичных изменений – степени метаморфизации пород.
Лосевская шовная зона отделяет мегаблок КМА от Хопёрского мегаблока. Чётко прослеживается надвиговая структура, осложнённая вертикальными посленадвиговыми дислокациями. Главным заполнителем шовной зоны является лосевская серия в ассоциации с усманским интрузивным комплексом плагиогранитов и павловским гранитоидным комплексом. Метаморфизм пород Лосевской зоны зонален и повышается с востока на запад и с севера на юг от зелёных сланцев до амфиболитовых фаций. Граничными признаками Лосевской шовной зоны служат: степень метаморфизма и устойчивые ассоциативные признаки, достаточно уверенно распознаваемые в геофизических полях [4].
На территории ВКМ, начиная с октября 2017 года открыты и действуют две широкополосные сейсмические станции Единой геофизической службы РАН (ФИЦ ЕГС РАН) – “Сторожевое” (VSR) и “Новохоперск” (VRH). Сейсмические станции укомплектованы широкополосными сейсмическими датчиками СМ3-ОС с частотным диапазоном 0.02–50 Гц, а также отечественными регистраторами Ugra. Кроме того, в 2023 году ИДГ РАН, совместно с ИФЗ РАН, была открыта новая сейсмическая станция “Курчатов” (KRCH), укомплектованная сейсмическим датчиком Guralp 3T с частотным диапазоном 0.008–50 Гц и регистратором RefTek 130. Как видно из рис. 1, станции покрывают все основные тектонические элементы КМА и анализ их данных позволит провести сравнение строения их литосферы. С учётом недостаточного для накопления кондиционного набора данных времени работы станции KRCH, в представленной работе были использованы только записи станций VSR и VRH с октября 2017 по декабрь 2021.
Для восстановления скоростного строения литосферы был использован метод функций приёмника (RF), основанный на анализе данных обменных волн, сформировавшихся на контрастных сейсмических границах в районах мест установки сейсмических станций [7]. Метод подразделяется по типу анализируемых обменных волн на две составляющие: одна из них основана на исследовании волн P-S (PRF), а другая – на использовании волн S-P (SRF). В процессе применения метода RF используются телесейсмические события с магнитудой более 5.5 и находящиеся на эпицентральных расстояниях 40–100 градусов. Для дальнейшего анализа используются записи, характеризующиеся импульсной формой первой падающей волны и высоким (более 3) отношением сигнал/шум. Для получения параметров анализируемых событий (времени в очаге, глубины и координат) использовался каталог GCMT [8, 9]. В результате, для станции VSR были отобраны 93 индивидуальные PRF и 57 индивидуальных SRF; для станции VRH – 64 PRF и 42 SRF. Эпицентры использованных событий приведены на рис. 2. Видно, что азимутальный охват для обеих станций существенно неравномерен. Эпицентры большинства событий, отобранных для обработки как PRF, так и SRF лежат в диапазоне бэказимутов от 0 до 120 градусов.
Рис. 2. Эпицентры отобранных для анализа событий по данным станции VSR (а) и VRH (б). Красными точками показаны эпицентры событий, сейсмограммы которых отобраны для расчета PRF, синими – для SRF.
Для восстановления скоростных разрезов использовалась совместная инверсия PRF и SRF в предположении латеральной однородности и изотропности Земли непосредственно под станцией. Модель состояла из тринадцати слоёв, свободными параметрами являлись: скорости поперечных волн, отношение скоростей продольной и поперечных волн, а также мощность каждого слоя. Для стабилизации инверсии, скорости на глубине 300 км фиксировались на значениях согласно модели IASP91 [10].
Восстановление скоростных разрезов выполнено методом, описанным в работе [11]. Было сгенерировано по 100 000 случайных пробных моделей для каждой станции, которые служили начальными приближениями в процедуре оптимизации по алгоритму Левенберга-Марквардта [12]. Из совокупности полученных в результате минимизации моделей отбирались те, которые объясняли наблюдения с заданной точностью. Окончательная выборка составила порядка 1% от всего набора моделей. Совокупность медианных значений определяемых параметров на заданной глубине для всего диапазона глубин рассматривалась как искомый профиль.
Глубинные скоростные модели поперечных волн для ВКМ по данным станций VSR и VRH, полученные методом функций приёмника, приведены на рис. 3. Земная кора может быть представлена четырьмя слоями. Верхний слой выявляется на глубинах 0–11 км, ниже по разрезу для обеих станций наблюдается повышение скоростей в диапазоне глубин 11–20 км. Далее определяется волновод с выраженной подошвой на глубине 30 км для станции VSR и 34 для станции VRH. Коро-мантийный переход наблюдается на глубине около 42 км по данным станции VSR и 45 км по данным станции VRH. Скоростное строение верхней мантии для двух полученных моделей существенно различается. Для станции VRH выявляется выраженный слой пониженных скоростей на глубинах около 110–150 км, который никак не проявляется в модели для станции VSR.
Рис. 3. Модели распределения скоростей поперечных волн с глубиной для станций VSR и VRH. Верхняя панель рисунка содержит скоростные модели литосферы, нижняя – более подробно земной коры. Цветами показаны поля сгущения индивидуальных минимизированных случайных моделей. Пунктирными линиями показаны медианные (итоговые) модели. Красные линии обозначают границы формирования случайных начальных моделей. Чёрные линии представляют референтную модель IASP91.
Выявленная в представленной работе четырёхслойная структура земной коры для исследуемого региона, в целом, подтверждается проведёнными ранее на этой территории исследованиями ГСЗ и МОВЗ [4]. Более того, в разрезе земной коры на большинстве отработанных профилей также выявляется волновод на глубинах около 20–30 км. Кроме того, как уже отмечалось выше, четырёхслойное деление земной коры находит свое отражение и в геологическом разрезе Хопёрского блока [13].
Существенно более интересным представляется выявленная особенность коро-мантийного перехода, который может быть интерпретирован двояко – как переходный слой на глубинах 39–46 км для станции VSR и 42–48 км для станции VRH, либо как единая граница на глубинах 42 и 45 км, соответственно. В рамках обработки данных проводимых ранее на ВКМ сейсмических экспериментов с использованием промышленных взрывов, а также профилях эксперимента “Астра” и профиле Купянск‒Липецк, являющегося частью геотраверса Чёрное море‒Воркута, показано что глубина залегания границы Мохо в рамках изучаемой территории варьируется в пределах значений 40–45 км с выделением ниже по разрезу переходной зоны кора‒мантия мощностью 8–11 км [4]. С учётом результатов ранее проведённых экспериментов и на основе новых данных можно сделать вывод о сложной, возможно градиентной структуре коро-мантийного перехода в северо-восточной части протократона Сарматия.
В верхней мантии наблюдается выраженный слой пониженных скоростей поперечных волн на глубинах 110–150 км по данным станции VRH. Выявленный слой маркирует mid-lithospheric discontinuity (MLD). Этой особенности строения областей кратонов в последние десятилетия уделяется существенный интерес, т.к. он может является одним из важнейших элементов глобальной геодинамики и понимания процессов эволюции Земли [14, 15]. При этом в настоящий момент нет единого мнения как по вопросу механизма его формирования, так и физических свойства ввиду недостаточного объёма сведений о нём. В частности, практически отсутствуют сведения о нём на ВЕП [16].
Ещё раз отметим, что MLD в наших исследованиях проявляется только в разрезе по данным станции VRH и никак не отмечается в разрезе VSR. С учётом того, что в рамках предыдущих исследований коллизионной зоны центральной части ВЕП MLD на сходных глубинах выявлялся по данным других станций (например, постоянных станций MHV и OBN) [17], можно сделать вывод о его наличии и в литосфере Сарматии. Отсутствие MLD в модели станции VSR может быт объяснено, например тем, что станция установлена в Лосевской шовной (коллизионной) зоне между блоками КМА и Хопёрским, и изучаемый слой мог быть разрушен в процессе коллизии. Также возможно, что те или иные особенности волнового поля в районе места установки станции VSR повлияли на обнаружение существующих обменных волн от границ 100 и 150 км. Для более надёжного исследования характеристик MLD в Сарматии необходимо включить в обработку данные станций VSR и VRH за 2022 и 2023 годы, а также накопить и обработать данные новой станции KRCH.
Источники финансирования
Работа выполнена с использованием данных, полученных на уникальной научной установке – “Сейсмоинфразвуковой комплекс мониторинга арктической криолитозоны и комплекс непрерывного сейсмического мониторинга Российской Федерации, сопредельных территорий и мира”. Работа выполнена в соответствии с темой НИР № 122040400015-5.
About the authors
V. V. Adushkin
Sadovskiy Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences
Email: goev@idg.ras.ru
Academician of the RAS
Russian Federation, MoscowA. G. Goev
Sadovskiy Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: goev@idg.ras.ru
Russian Federation, Moscow
Yu. A. Vinogradov
Geophysical Survey, Russian Academy of Sciences
Email: goev@idg.ras.ru
Russian Federation, Obninsk
A. V. Shapovalov
Sadovskiy Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences
Email: goev@idg.ras.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Bogdanova S. V., Gorbatschev R., Garetsky R. G. Europe/East European Craton / In: Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier. 2016. P. 1–18.
- Семенов А. Е. Характер сейсмичности Техногенно-нагруженной лискинской сейсмически активной зоны Воронежского кристаллического массива. Российский фонд фундаментальных исследований, М., 2022. С. 118–125.
- Долбилова Е. С. Пространственный анализ петроплотностной и петромагнитной карт Хоперского мегаблока Воронежского кристаллического массива / Материалы ежегодной молодежной научной конференции кафедры геофизики Воронежского государственного университета. Воронеж, 2022. С. 37–39.
- Литосфера воронежского кристаллического массива по геофизическим и петрофизическим данным / Гл. ред. член-корр. РАН Н. М. Чернышов, Воронеж, 2012. 330 с.
- Лебедев И. П., Молотков С. П., Кривцов И. И., Лосицкий В. И. Структурно-геологические особенности воронцовской серии Воронежского кристаллического массива // Вестник Воронежского госуниверситета. Серия геол. 1999. № 7. С. 25–31.
- Окончательный отчет по теме 34-94-51/1 “Изучение особенностей геологического строения и металлогении Воронежского кристаллического массива с целью составления прогнозно-металлогенических карт м-ба 1:500 000 за 1991–1999 гг.”. Отв. исп. Лосицкий В.И., Молотков С.П. Воронеж, 1999.
- Винник Л. П. Сейсмология приемных функций // Физика Земли. 2019. № 1. С. 16–27.
- Dziewonski A. M., Chou T. A., Woodhouse J. H. Determination of earthquake source parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity // J. Geophys. Res. 1981. V. 86. Р. 2825–2852.
- Ekström G., Nettles M., Dziewonski A. M. The global CMT project 2004-2010: Centroid-moment tensors for 13,017 earthquakes // Physics of the Earth and Planetary Interiors. 2012. V. 200–201. Р. 1–9.
- Kennett B. L. N., Engdahl E. R. Traveltimes for global earthquake location and phase identification // Geophys. J. Int. 1991. V. 105. P. 429–465.
- Алешин И. М. Построение решения обратной задачи по ансамблю моделей на примере инверсии приемных функций // Докл. РАН. Науки о Земле. 2021. Т. 496. № 1. С. 63–66.
- Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P. Numerical Recipes 3rd Edition: The Art of Scientific Computing. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Трегуб А. И., Надежка Л. И., Ежова И. Т. Корреляционная модель основных границ в разрезе литосферы присводовой части Воронежской антеклизы // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2018. № 1. С. 121–126.
- Yang H., Artemieva I. M., Thybo H. The mid-lithospheric discontinuity caused by channel flowin proto-cratonic mantle // J. of Geophys. Res. Solid Earth. 2023. V. 128. № 4. e2022JB026202.
- Wang Z., Kusky T. The importance of a weak mid-lithospheric layer on the evolution of the cratonic lithosphere // Earth-Science Reviews. 2019. V. 190. P. 557–569. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.02.010.
- Fu H.-Y., Li Z.-H., Chen L. Continental mid-lithosphere discontinuity: A water collector during craton evolution // Geophysical Research Letters. 2022. V. 49. e2022GL101569. https://doi.org/10.1029/2022GL101569
- Гоев А. Г., Санина И. А., Константиновская Н. Л. Особенности глубинного скоростного строения коллизионной зоны центральной части ВЕП по данным станций “Михнево” и “Обнинск” // Динамические процессы в геосферах. 2021. № 13. С. 81–89.
Supplementary files