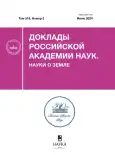An unusual variety of geophagy – snow sheep coal consumption in the Transbaikalian mountains
- Authors: Panichev A.M.1, Baranovskaya N.V.2, Chekrizhov I.Y.3, Ivanov V.V.3, Tsatska A.N.4
-
Affiliations:
- Pacific Geographical Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
- Tomsk Polytechnic University
- Far East Geological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
- “Snow Leopard” Foundation
- Issue: Vol 516, No 2 (2024)
- Pages: 655-661
- Section: GEOBIOLOGY
- Submitted: 12.12.2024
- Published: 15.03.2024
- URL: https://journal-vniispk.ru/2686-7397/article/view/272994
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2686739724060195
- ID: 272994
Cite item
Full Text
Abstract
Several places were discovered in the mountains of the Kodar ridge in Transbaikalia, that are regularly visited by bighorn sheep (Ovis Nivicola) for the purpose of consuming coal (Chepinskaya Formation, Jurassic). According to observations an adult ram eats from tens to hundreds of grams of coal gruss and dust at once. A comprehensive study of “eatable” coals was carried out, including their geochemistry with determination of the content and balance of mobile forms of microelements, including rare earth elements (REE). It has been established that the sum of REE in coal varies from 0.19 to 0.27 kg/t, which is 3.5–4 times higher than the clarke value. The REE composition is dominated by elements of the light subgroup (LREE). The presence of monazite, xenotime and rhabdophane in the consumed coals was established by analytical scanning electron microscopy. An acid (HCl, pH-1) extract from minerals showed, that among the elements released from coal, only some microelements, including LREEs, are most likely to be of greatest importance for animals. The data obtained, considering our previously conducted landscape-geochemical studies of mass geophagy areas in the Sikhote-Alin, the Gorny Altai and on the island. Olkhon (Baikal), suggest that the reason for the regular consumption of coals by bighorn sheep on the Kodar Ridge is due to the animals intention to restore the disturbed balance of REE in the body.
Keywords
Full Text
Феномен потребления животными землистых веществ, названный термином “геофагия”, распространён во многих регионах мира. Для обозначения мест, регулярно посещаемых животными с целью геофагии и приобретших от этого характерный облик, нами предложен термин “кудур”, который широко используется с 2013 г. [1]. Потребляемые на кудурах вещества (кудуриты) – это чаще всего глины и суглинки. Однако, встречаются кудуры, где животные поглощают уголь. Такие кудуры, посещаемые преимущественно снежными баранами (Ovis Nivicola), были обнаружены, в частности, на хребте Кодар в Забайкальском крае в начале 1990-х гг. Д.Г. Медведевым [2]. В 2013, 2014 и 2016 гг. в районе одного из “угольных” кудуров на хребте Кодар (см. местоположение на рис. 1) проводил сбор материалов по экологии снежных баранов А.Н. Цяцька с фото- и видеодокументацией активности животных с помощью фотоловушек. На угольном кудуре им был проведён также пробоотбор потребляемых животными углей, которые затем были инструментально исследованы в Аналитическом центре ДВГИ ДВО РАН.
Рис. 1. Местоположение характеризуемого кудура в Забайкальском крае.
В соответствии с результатами анализа крупномасштабных топо- и геокартографических материалов, угольный кудур находится в вершине небольшого нивального кара, у верхней границы леса на высоте 1750 м на южном склоне ручьевой долины р. Средний Сакукан, левого притока р. Чара. Внешне это почти вертикальное скальное обнажение около 20 м высоты и 30 м ширины с типичными для кудуров следами активности животных. Обнажение представлено осадочными породами чепинской свиты юрского возраста: песчаниками, алевролитами и углисто-глинистыми сланцами с прослоями каменного угля мощностью от нескольких см до 1 м (Государственная геологическая карта D-50-XXVIII). Судя по натурным наблюдениям А.Н. Цяцька, а также фото- и видеозаписям с фотоловушек, на кудур приходят снежные бараны всех половых и возрастных групп. Основной пик посещений угольного кудура приходится на июнь-июль, как и на всех кудурах в зоне широт центральной и южной Якутии [3]. Другие виды копытных на угольном кудуре не были замечены. По данным сотрудников Национального парка “Кодар” (создан в 2018 г. с охватом территории р. Средний Сакукан) этот кудур посещал черношапочный сурок (Marmota camtschatica), который в течение получаса облизывал пыль с кусков угля [4].
Подмечено, что бараны поглощают уголь, захватывая губами угольную крошку или слизывая с углей минеральные выделения в виде тонких белёсых корок и угольной пыли. В некоторых видеосюжетах, снятых А.Н. Цяцька фотоловушкой, слышен хруст угля на зубах животных. О точном количестве поглощаемого баранами угля можно судить пока только по прикидочным оценкам. Масса поглощаемого угля взрослым снежным бараном за одно посещение кудура, вероятнее всего, составляет от десятков до сотен граммов, в максимуме, возможно, до полукилограмма.
Среди проб угольных кудуритов, изученных физико-химическими методами были: 1) – штуф каменного угля (далее У-1) массой около 150 г из слоя в пласте, наиболее предпочитаемом снежными баранами; 2) – дресва угля (проба У-А) массой около 300 г из подошвы того же угольного пласта. Под стереомикроскопом из второй пробы были отобраны на анализ также чистый уголь (У-2) и углистый алевролит (А).
Элементный анализ угольных кудуритов выполнялся методом ИСП-МС (спектрометр iCAP 7600 Duo) по стандартной методике с кислотным разложением (HNO3+HClO4+HF). Поиск и анализ минеральных фаз осуществлялся на сканирующем электронном микроскопе (SEM) Tescan Lyra 3 XMH с энергодисперсионным спектрометром (EDS) AZtec X-Max 80. Из пробы У-А получена также кислотная вытяжка (HCL, pH-1; 5 г пробы, 50 мл раствора, T–36°C, 12 ч.).
Результаты анализов спектрометрии (табл. 1) показывают, что в “поедаемых” углях и углистых алевролитах сумма редкоземельных элементов (РЗЭ) с учётом Sc и Y в 3.5–4 раза выше кларковой (69.37 г/т, по [5]). Характер распределения РЗЭ в углях (рис. 2 А), нормированных на среднее содержание в углях США [5] позволяет отнести их к L- и М-типам углей по В.В. Середину [7] с преобладанием РЗЭ лёгкой подгруппы (ЛРЗЭ) за счёт примеси терригенного материала. По конфигурации графиков РЗЭ-профилей угли L- и М-типов резко отличаются от углей Н-типа, в которых преобладают редкоземельные элементы тяжёлой подгруппы (ТРЗЭ), связанные преимущественно с органическим веществом. Для сравнения график угля Н-типа (проба У-В – ванчинский уголь из Сихотэ-Алиня по данным [7]) также приведена на рис. 2 А. Как видно на этом рисунке, пробы А и У-2 по содержанию РЗЭ схожи при существенном различии только по Eu. В отличие от них в пробе У-1 заметно больше всех РЗЭ. По остальным микроэлементам (рис. 2 В) пробы А и У-2 тоже почти аналогичны, в то время как профиль У-1 явно отличается величинами содержаний Cr, Mo, Nb, Ag, Sn, As, Sb, Te, Cs и Ba. Это указывает на то, что отдельные прослои угля в пласте контрастны по содержанию многих микроэлементов, но остаются сопоставимыми по ЛРЗЭ. В пробах У-1 и У-2 по результатам SEM-EDS-исследований РЗЭ-содержащие минеральные фазы представлены монацитом, ксенотимом и рабдофаном. Некоторые типовые их зёрна проиллюстрированы на рис. 3.
Таблица 1. Состав угольных кудуритов (зольность и оксиды в мас. %; элементы в г/т)
Проба | Проба | Проба | ||||||||||||
У-1 | У-А | А | У-2 | У-1 | У-А | А | У-2 | У-1 | У-А | А | У-2 | |||
М | 35.99 | 61.10 | 84.49 | 15.62 | Ga | 9.858 | 23.40 | 15.49 | 11.83 | Th | 12.52 | 24.25 | 15.07 | 13.82 |
SiO2 | 21.32 | 33.32 | 48.05 | 9.59 | Ge | 0.993 | 1.425 | 1.234 | 1.065 | U | 4.654 | 6.452 | 3.356 | 4.044 |
TiО2 | 0.33 | 0.410 | 0.39 | 0.18 | As | 5.888 | 0.939 | 1.989 | 0.754 | Sc | 10.88 | 11.83 | 7.522 | 8.838 |
Al2О3 | 7.05 | 12.06 | 13.39 | 3.81 | Se | 1.335 | 0.689 | 0.947 | 0.832 | Y | 25.55 | 16.22 | 11.24 | 12.06 |
Fe2О3 | 3.74 | 5.164 | 5.00 | 3.74 | Rb | 51.39 | 144.8 | 82.57 | 69.15 | La | 38.09 | 47.64 | 32.47 | 33.64 |
MnO | 0.030 | 0.040 | 0.208 | 0.002 | Sr | 153.0 | 345.3 | 1686 | 276.2 | Ce | 99.04 | 122.7 | 73.42 | 78.68 |
MgO | 1.05 | 1.789 | 1.55 | 0.33 | Zr | 17.87 | 25.68 | 11.24 | 12.06 | Pr | 11.84 | 13.01 | 8.62 | 8.37 |
CaO | 0.65 | 1.231 | 0.17 | 0.17 | Nb | 5.139 | 11.48 | 14.00 | 16.40 | Nd | 49.70 | 50.98 | 33.84 | 32.16 |
Na2O | 0.74 | 1.006 | 1.70 | 0.19 | Mo | 1.215 | 3.325 | 5.865 | 6.164 | Sm | 9.260 | 8.600 | 5.736 | 5.351 |
K2O | 1.19 | 2.512 | 2.51 | 0.73 | Ag | 0.078 | 0.073 | 3.431 | 6.404 | Eu | 1.661 | 1.535 | 1.628 | 0.969 |
P2O5 | 0.04 | 0.099 | 0.08 | 0.04 | Cd | 0.120 | 0.140 | 0.067 | 0.067 | Gd | 8.245 | 6.970 | 5.071 | 4.708 |
H2O | 1.41 | 1.930 | 0.54 | 1.67 | Sn | 1.049 | 2.362 | 0.113 | 0.079 | Tb | 1.000 | 0.849 | 0.616 | 0.545 |
ППП | 62.44 | 39.88 | 15.22 | 82.28 | Sb | 0.088 | 0.093 | 1.757 | 1.362 | Dy | 5.305 | 3.808 | 2.902 | 2.693 |
∑ | 100.0 | 99.44 | 99.96 | 99.95 | Te | 0.019 | 0.035 | 0.070 | 0.064 | Ho | 1.017 | 0.646 | 0.466 | 0.490 |
Li | 19.67 | 39.96 | 29.74 | 20.99 | Cs | 3.298 | 6.712 | 0.027 | 0.016 | Er | 3.238 | 1.957 | 1.388 | 1.576 |
Be | 3.293 | 2.709 | 1.279 | 1.473 | Ba | 380.1 | 1061 | 3.020 | 3.345 | Tm | 0.432 | 0.250 | 0.168 | 0.193 |
V | 42.81 | 84.41 | 58.93 | 69.04 | Hf | 0.591 | 0.840 | 0.528 | 0.540 | Yb | 2.911 | 1.605 | 1.100 | 1.285 |
Cr | 34.20 | 70.53 | 81.79 | 96.33 | Ta | 0.325 | 0.835 | 0.400 | 0.346 | Lu | 0.439 | 0.240 | 0.151 | 0.188 |
Co | 11.65 | 15.57 | 8.67 | 10.92 | W | 1.368 | 3.795 | 2.317 | 3.824 | ЛРЗЭ. % | 89.56 | 93.15 | 91.95 | 92.60 |
Ni | 16.05 | 26.77 | 23.60 | 19.63 | Tl | 0.383 | 0.846 | 0.436 | 0.420 | ТРЗЭ. % | 10.44 | 6.85 | 8.05 | 7.40 |
Cu | 27.68 | 36.13 | 27.27 | 27.14 | Pb | 14.18 | 21.58 | 13.19 | 14.25 | ∑ 1 | 268.6 | 288.8 | 186.3 | 191.7 |
Zn | 62.31 | 86.34 | 107.5 | 41.57 | Bi | 0.262 | 0.355 | 0.267 | 0.200 | ∑ 2 | 747 | 473 | 220 | 1227 |
Примечание. ППП – потери при прокаливании; М – зольность; ∑ 1 – сумма лантаноидов +Sc+Y; ∑ 2 – то же в золе. У-1 – уголь из наиболее активно поедаемого слоя в пласте; У-А – дресва угля из подошвы пласта; А – углистый алевролит и У-2 – уголь из дресвы.
Рис. 2. А – диаграммы распределения содержаний РЗЭ, нормированных на угли США по [5] в углях и углистом алевролите (проба УВ – бурый уголь из Ванчинской впадины в Сихотэ-Алине по данным [6]); В – диаграммы содержаний прочих микроэлементов.
Рис. 3. SEM-изображения и EDS-спектры зёрен редкоземельных фосфатов в угле: а – монацит; b – ксенотим; c, d – близкие по составу и морфологии рабдофану
Для количественной оценки выхода Na и других элементов применительно к условиям среды в желудке жвачных нами получена кислотная вытяжка из пробы У-А (в ней содержания Na, Са, Mg, Fe наиболее высоки) с параметрами кислотного раствора, близкими сычужному соку. Результат представлен в табл. 2 и рис. 4.
Таблица 2. Содержание элементов в исходной пробе (У-А) и в вытяжке из неё в пересчёте на твёрдое вещество (г/т)
Элемент | Ti | Al | Fe | Mn | K | Na | Ca | Mg | P |
Проба У-А | 2460 | 31924 | 18074 | 310 | 10422 | 3732 | 8793 | 10434 | 212 |
Вытяжка из У-А % выхода | 0,62 0,03 | 160,9 0,5 | 472,9 2,6 | 106,6 34 | 240,4 2,3 | 65,96 1,8 | 6617 75 | 170 1,6 | 23,34 11 |
Рис. 4. А – диаграммы распределения содержаний микроэлементов в пробе У-А и в составе кислотной вытяжки из неё (в пересчёте на сухое вещество); В – содержание РЗЭ в вытяжке.
Результат по вытяжкам (табл. 2) указывает на то, что среди макроэлементов, которые животные могут искать в углях, наиболее вероятными претендентами, судя по процентам выхода элементов из угольного кудурита, являются Са, Mn и P. Если исходить из 5-разового посещения за год “угольного кудура” взрослым бараном, и при этом за одно посещение он съедает 0.5 кг угольного кудурита, то за счёт потребления угля он может получить Ca ≈16 г, Mn ≈0.15 г, P ≈0.05 г. И это при том, что суточная норма потребления овцами (в г на 100 кг веса животного) Ca ≈11.5–13.8; Mn ≈0.078–0.095; P ≈0.007–0.011 [8]. Кроме того, в отношении этих макроэлементов ранее нами неоднократно показано [9–11], что они не могут претендовать на роль универсальной причины геофагии. Судя по сравнительно скромным дозам потребляемого угля, логично предположить, что животные ищут в угле какие-то микроэлементы для тонкой регуляции (настройки) важных систем жизнеобеспечения в своем организме. Микроэлементы, имеющие наиболее существенный выход в вытяжку из угля (рис. 4 А и В) в порядке убывания содержания выстраиваются в следующий ряд (в г/т): Sr (114.8), Ва (13.8), Cr (9.45), Zn (3.46), Сu (2.47), Ni (1.24), Ce (0.98), Pb (0.88), Y (0.65), Nd (0.52), La (0.51), Li (0.45), V (0.40), Rb (0.37) и Co (0.35). Выход в вытяжку остальных микроэлементов менее 0.05 г/т. Богатый опыт подобных исследований [9–11] и выявленная послойная изменчивость содержаний микроэлементов в угольном пласте подводят нас к выводу, что пищевой интерес животных к изучаемым углям обусловлен наличием в них ЛРЗЭ (а также Y и Sc).
Аргументацию сделанного вывода начнём с того, что с РЗЭ-углями на кудурах, правда, с бурыми, а не каменными, нам уже приходилось сталкиваться в Сихотэ-Алине. Диаграмма одной из проб такого бурого угля с кудура на Ванчине (сведения о нём здесь [12]) приведена на рис. 2 А (проба У-В). Сумма РЗЭ в ванчинском угле, согласно данным [13], варьируется от 250 до 775 г/т с преобладанием ТРЗЭ. В случае с кудуром на Ванчине, посещающие его животные (преимущественно благородные олени) собственно углём не интересуются. В больших количествах (килограммами) они предпочитают поглощать каолинитовые глины, образовавшиеся ниже угольного пласта в процессе его выветривания. На остальных 14 “безугольных” кудурах на площади Ванчинского грабена животные в больших количествах поедают смектитовые глины, иногда с примесью цеолитов. При этом сумма РЗЭ во всех потребляемых глинах близка к фоновой. В результате проведённых в данной местности детальных ландшафтно-геохимических исследований нам удалось выявить аномально высокие содержания РЗЭ (часто с преобладанием ТРЗЭ) в разнотипных горных породах, почвах, поверхностных водах, растительности, и даже в организме местных оленей [9]. Сопоставление особенностей состава поедаемых глин и содержащих глины экскрементов животных показало, что глины в пищеварительном тракте активно сорбируют РЗЭ, особенно ТРЗЭ, и выводят их из организма. В итоге был сделан вывод, что стремление оленей потреблять глины, вероятнее всего, обусловлено нарушениями в организме обмена РЗЭ из-за высокого содержания ТРЗЭ в составе кормов и питьевой воды.
Анализ опубликованных источников по биологическим свойствам РЗЭ [14, 15] показал, что критические нарушения в нервной, иммунной и эндокринной системах животных возникают в результате того, что токсичные ТРЗЭ замещают в них ЛРЗЭ, которые, по всей видимости, выполняют в главных управляющих системах организма важные функции. Как очевидно, такого рода нарушения вполне могут провоцировать животных к потреблению минеральных сорбентов с целью регуляции состава и соотношения РЗЭ в этих важнейших системах организма. Если это верно, то регулярное потребление глин – это вынужденная необходимость для выживания животных в ландшафтах с избытком РЗЭ.
Нашими исследованиями в Сихотэ-Алине [9] и в Горном Алтае [10] показано, что для выживания в такого рода ландшафтах пригодны глины различного минерального состава и другие разновидности минеральных и органоминеральных сорбентов.
В 2022 г. детальные ландшафтно-геохимические исследования нами были проведены также на о. Ольхон, на Байкале [11], где геолого-геохимическая ситуация совсем иная, нежели в Сихотэ-Алине и Горном Алтае. Поедаемые дикими оленями и домашним скотом каолинитовые глины на кудурах Ольхона оказались обогащёнными ЛРЗЭ на фоне аномально низких содержаний этой группы элементов во всех компонентах островных ландшафтов. Сопоставление состава глинистых экскрементов и поедаемых глин показало, что часть потреблённых с глиной ЛРЗЭ остаётся в организме. Таким образом, потребление животными глин также вызвано нарушениями состава и концентрации РЗЭ в организме, но уже на фоне аномально низких содержаний этих элементов в кормах и питьевой воде.
После работ на Ольхоне стало понятно, что все районы, где в массовом виде распространена геофагия, являются в той или иной мере РЗЭ-аномальными (РЗЭ-эндемичными) с повышенным или пониженным, относительно местных фоновых значений, содержанием подвижных форм РЗЭ в ландшафтных компонентах. У части обитающих в таких условиях животных, в первую очередь у растительноядных, могут возникать нарушения обмена этой группы элементов в нейроиммуно-эндокринной системе организма. Развивающийся при этом гормональный стресс запускает инстинктивный механизм поиска сорбентов, которые, в зависимости от геохимических условий среды обитания, будут предпочтительны животным или в обогащённом ЛРЗЭ виде, или в обеднённом. На универсальный характер выявленных закономерностей указывает и проведённый нами анализ геолого-геохимических ситуаций на кудурах в ряде районов экваториальной зоны Земли [10, 11]. Из него явствует, что связь массовых случаев геофагии с РЗЭ-эндемиями в этой части мира выражена более сильно, чем в средних широтах, причём с проявлением РЗЭ-эндемичных заболеваний и среди людей, что отражено в обзоре [14].
Итак, наиболее вероятная причина поедания снежными баранами ЛРЗЭ-углей в горах хребта Кодар та же, что заставляет оленей потреблять обогащённую ЛРЗЭ глину на Ольхоне. И это дефицит нужных животным ЛРЗЭ в кормах и питьевой воде. Не исключён также избыток в диете токсичных ТРЗЭ. Наблюдаемый относительно небольшой выход РЗЭ из угля в кислотную вытяжку может указывать на выбранную нами не совсем адекватную модель воздействия химико-микробиологических факторов в пищеварительном тракте на угольный кудурит. Дело в том, что существенная часть РЗЭ (до 50%) в углях может извлекаться в щелочной среде [16], которая свойственна для кишечника животных. Заметим ещё, что животные с помощью угля могут компенсировать дефицит в организме не только ЛРЗЭ, но и попутно других микроэлементов.
Источники финансирования
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РНФ № 20-67-47005 и № 20-64-47021.
About the authors
A. M. Panichev
Pacific Geographical Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: sikhote@mail.ru
Russian Federation, Vladivostok
N. V. Baranovskaya
Tomsk Polytechnic University
Email: sikhote@mail.ru
Russian Federation, Tomsk
I. Yu. Chekrizhov
Far East Geological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: sikhote@mail.ru
Russian Federation, Vladivostok
V. V. Ivanov
Far East Geological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: sikhote@mail.ru
Russian Federation, Vladivostok
A. N. Tsatska
“Snow Leopard” Foundation
Email: sikhote@mail.ru
Russian Federation, Irkutsk
References
- Panichev A. M., Golokhvast K. S., Gulkov A. N., Сhekryzhov I. Yu. Geophagy and geology of mineral licks (kudurs): a review of russian publications // Environmental Geochemistry and Health. № 1. 2013. Р. 133–152.
- Медведев Д. Г., Цяцька А. Н., Яценко В. В. О необходимости внесения кодарского снежного барана (Оvis nivicola kodarensis Мedvedev, 1994) в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы // Мат-лы IV междунар. науч.-практич. конф., посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) и 100-летию со дня рождения А. А. Ежевского. Иркутск: Изд-во ИГАУ, 2015. file:///Users/apple/Documents/КОМП/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ%20/ПУБЛИКАЦИИ/ТЕКУЩЕЕ/Якутия/Новая%20Чара/ДАН/Статья/a39dd52a-bce5-4ef9-a96a-ed2f69ee02ec.html
- Степанова В. В., Аргунов А. В., Охлопков И. М. Сравнительная характеристика активности солонцевания благородного оленя (Сervus elaphus l., 1758, cervidae, artiodactyla) Якутии в нативном и инвазионном участках ареала // Российский Журнал Биологических Инвазий. 2019. № 1. С. 95–110.
- Баженов Ю. А. К экологии прибайкальского черношапочного сурка (Marmota camtschatica doppelmayeri Birula, 1922) хребта Кодар (Забайкалье) // Амурский зоологический журнал, 2023. Т. XV. № 1. С. 178–184. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2023-15-1-178-184
- Ketris M. P., Yudovich Ya. E. Estimations of Clarkes for Carbonaceous biolithes: World averages for trace element contents in black shales and coals // International Journal of Coal Geology. 2009. 78. Р. 135–148. https://doi.org/10.1016/j.coal.2009.01.002
- Finkelman R. B. Trace and Minor Elements in Coal [M] / In: Organic Geochemistry (eds. Engel M. H. and Macko S. A.). New York: Plenum Press, 1993. P. 593–607.
- Середин В. В. Основные закономерности распределения редкоземельных элементов в углях // ДАН. 2001. Т. 377. № 2. С. 239–243.
- Менькин В. К. Кормление животных. М.: Колосс, 2006. 360 с.
- Panichev A. M., Baranovskaya N. V., Seryodkin I. V. et al. Landscape REE anomalies and the cause of geophagy in wild animals at kudurs (mineral salt licks) in the Sikhote-Alin (Primorsky Krai, Russia) // Environmental Geochemistry and Health. 2021. № 44. Р. 1137–1160. https://doi.org/10.1007/s10653-021-01014-w
- Panichev А., Baranovskaya N., Seryodkin I. et al. Excess of REE in plant foods as a cause of geophagy in animals in the Teletskoye Lake basin, Altai Republic, Russia // World Academy of Sciences Journal. 2023. № 5. V. 6. Р. 1–22. https://doi.org/10.3892/wasj.2022b.183
- Panichev A. M., Baranovskaya N. V., Seryodkin I. V. et al. The Main Cause of Geophagy According to Extensive Studies on Olkhon Island, Lake Baikal // Geosciences. 2023. 13. 211. https://doi.org/10.3390/geosciences13070211
- Паничев А. М. Литофагия: причины феномена // Природа. 2016. № 4. С. 25–34.
- Середин В. В., Чекрыжов Ю. И. Рудоносность Ванчинского грабена (Приморье, Россия) // Геология рудных месторождений. 2011. Т. 53. № 3. С. 230–249.
- Panichev A. M. Rare Earth Elements: Review of Medical and Biological Properties and Their Abundance in the Rock Materials and Mineralized Spring Waters in the Context of Animal and Human Geophagia Reasons Evaluation // Achievements in the Life Sciences. 2015. № 9. P. 95–103. http://dx.doi.org/10.1016/j.als.2015.12.001
- Redling K. Rare Earth Elements in Agriculture with Emphasis on Animal Husbandry. Dissertation, LMU München: Tierärztlichen Fakultät, 2006. https://doi.org/10.5282/edoc.5936 URL: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/5936/
- Шпирт М. Я., Середин В. В., Горюнова Н. П. Формы соединений редкоземельных элементов в углях // Химия твердого топлива. 1999. № 3. С. 91–99.
Supplementary files