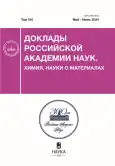Synthesis of spherical LiFePO₄ microparticles with encapsulated carbon nanotubes for high-power lithium-ion batteries
- Authors: Babkin A.V.1, Drozhzhin O.A.1, Kubarkov A.V.1, Antipov E.V.1,2, Sergeyev V.G.1
-
Affiliations:
- Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University
- Skolkovo Institute of Science and Technology
- Issue: Vol 516, No 1 (2024)
- Pages: 8-20
- Section: CHEMISTRY
- URL: https://journal-vniispk.ru/2686-9535/article/view/268404
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2686953524030024
- EDN: https://elibrary.ru/ZJGEIV
- ID: 268404
Cite item
Full Text
Abstract
Lithium ferrophosphate – LiFePO₄ (LFP) – is one of the widely studied and used materials for lithium-ion batteries. However, one of the main drawbacks of LFP is its poor electrical conductivity. To address this issue, we propose an effective approach based on encapsulating carbon nanotubes within the volume of LFP particles in the volume of spherical LFP particles. Electrodes based on the obtained materials exhibit more aTₜᵣactive electrochemical characteristics than LFP obtained by the standard method: increased specific capacity (62 and 92 mAh g–1 at a current density of 20C for LFP and LFP/SWCNT, respectively), stability of cyclic characteristics (preservation of 98% capacity after 100 charge/discharge cycles for LFP/SWCNT and 96.5% for LFP), as well as reduced charge transfer resistance. Encapsulation of SWCNT into the structure of iron phosphate during deposition is an easy-to-implement approach to formation modified LFP-based cathodes with improved characteristics, which expands the possibilities of their practical application in high-power lithium-ion batteries.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день среди практически применяемых систем накопления энергии литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) демонстрируют наивысшие показатели удельной массовой и объемной энергоемкости [1, 2]. Именно поэтому они активно применяются в портативных электронных устройствах, электромобилях и системах накопления энергии [3–5].
Основным компонентом металл-ионного аккумулятора, определяющим его эксплуатационные характеристики (емкость разряда при различных плотностях тока, удельную энергию, кулоновскую эффективность) является катодный материал [6–12], масса которого составляет практически 30–50% от общего веса аккумулятора [13].
Среди коммерчески используемых ЛИА наиболее популярными являются литий-кобальт оксид – LiCoO₂[14, 15], материалы группы NMC (LiNi1–x–yMnxCoyO₂) [16, 17] и феррофосфат лития – LiFePO₄ (LFP) [18, 19]. Каждый из них обладает рядом преимуществ и недостатков. Литий-кобальт оксид и оксиды семейства NMC отличаются достаточно высокими величинами разрядной емкости и потенциала заряда/разряда (относительно Li/Li+), и, как следствие, удельной объемной энергией [20, 21]. Однако кобальт является крайне токсичным металлом, а способы его добычи, реализуемые в ряде стран Центральной и Южной Африки, приводят к значительному загрязнению окружающей природы и наносят серьезный вред здоровью человека [22–24]. Также немаловажным фактором являются вопросы безопасной эксплуатации таких систем, так как высокое значение потенциала заряда способствует интенсификации процессов деградации катодного материала, приводящей, в том числе, к выделению кислорода и его взаимодействию с электролитом уже при нагреве до 170–200°С [25–30].
Феррофосфат лития в заряженном виде является стабильным в диапазоне температур вплоть до 350–400°С, что позволяет гарантировать его безопасность в широком спектре возможных применений [31].
Таким образом, термическая стабильность – это одна из основных причин того, что катодные материалы на основе феррофосфата лития LiFePO₄ приобретают все большую популярность [32]. Дополнительными преимуществами этого материала являются дешевое и доступное сырье, высокая теоретическая емкость разряда (низкая молярная масса), стабильность структуры в процессах заряда/разряда (возможность практически полного извлечения лития с образованием фазы FePO₄ (FP)) и отсутствие в составе вредных или токсичных материалов [33–35].
Стабильность кристаллической структуры в процессах заряда/разряда, обеспеченная особенностью пространственного расположения ионов лития в LFP, приводит к возникновению недостатков. Диффузия ионов лития в LFP наиболее эффективно [36] протекает только в одном пространственном направлении – вдоль оси b [010]. Это приводит к низкому значению коэффициента диффузии ионов лития для LFP – 10⁻¹⁵ см² c⁻¹ (в сравнении с LiCoO₂ – 10⁻⁹ см² c⁻¹). Вторым важным недостатком является крайне низкая электронная проводимость LFP – 10⁻⁹ См см⁻¹ (в сравнении с LiMn₂O₄ – 10⁻⁵ См см⁻¹) [37].
На сегодняшний день разработано несколько апробированных подходов, позволяющих минимизировать влияние этих эффектов: допирование структуры LFP ионами различных металлов [38], формирование углеродного покрытия на поверхности частиц LFP [39] и уменьшение их размера [40]. Уменьшение размера частиц LFP способствует снижению диффузионного пути катионов лития, что положительно сказывается на количестве ионов, извлеченных в единицу времени [41]. Углеродное покрытие способствует улучшению транспорта электронов в процессе заряда/заряда. Все это позволяет значительно повысить удельную емкость разряда LFP, особенно при высоких плотностях тока.
Стоит отметить, что уменьшение размеров частиц [42] приводит к снижению насыпной плотности LFP. В результате объемная удельная энергия ЛИА закономерно снижается. Для повышения насыпной плотности первичных наноструктурированных частиц LFP используют методы распылительной сушки, позволяющей получать вторичные сферические частицы в широком диапазоне размеров [43]. В процессе агрегации наноразмерных частиц LFP удается сформировать пористые сферические частицы, обладающие значительно бо́льшей насыпной плотностью (и как следствие, объемной энергией). Пористость таких частиц позволяет электролиту эффективно проникать в структуру LFP для обеспечения высокого ионного транспорта.
Однако электронная проводимость внутри сферических частиц остается низкой, так как углеродное покрытие, формирующееся при отжиге из углеродсодержащих прекурсоров (как правило, различных природных сахаридов), расположено преимущественно на поверхности. Агломерация первичных частиц препятствует формированию проводящей структуры внутри сферических частиц, что снижает эффективность электронного транспорта.
В представленной работе описан простой и эффективный способ получения сферических частиц LFP методом соосаждения, который реализуется в присутствии дисперсии одностенных углеродных нанотрубок (SWCNT, single-walled carbon nanotubes).
Представленный способ позволяет получать проводящее покрытие из SWCNT, расположенное не только на поверхности сферических частиц LFP, но и внутри них, что обеспечивает эффективный транспорт электронов не только с поверхности, но и из всего объема активного материала электрода. Таким образом, создание объемной структуры из SWCNT, обладающей проводящими свойствами, способствует вовлечению бо́льшего количества активного материала в электрохимическую реакцию, что приводит к росту удельной емкости разряда при высоких плотностях тока.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Синтез феррофосфата лития методом осаждения. В стабильную дисперсию одностенных углеродных нанотрубок марки Tuball (OCSiAl, Россия) с концентрацией 0.025 мас. % вносили 0.3 М водный расвор FeCl3 при постоянном перемешивании. Температура раствора составляла ~50°С. Затем по каплям вносили эквимолярное количество ортофосфорной кислоты H₃PO₄ (мольное соотношение ионов Fe³⁺ к составляло 1 : 1). Полученный раствор нагревали при постоянном перемешивании до температуры 90–95°С и прикапывали 25%-й водный раствор аммиака для инициации процессов осаждения гидратированного фосфата железа (рис. 1).
Рис. 1. Схема получения композиционного материала фосфат железа/углеродные нанотрубки методом осаждения.
Значение рН раствора доводили до ~2, при котором в значительной степени предотвращается возможное образование гидроксидов железа. Раствор выдерживали при заданных температуре и рН при постоянном перемешивании в течение часа. Полученный осадок отфильтровывали на воронке Бюхнера, промывали до нейтрального значения рН фильтрата, сушили при 120°С в течение 48 ч до постоянной массы. Долю воды в синтезированном композиционном материале определяли термогравиметрическим методом.
Синтезированный композиционный материал фосфат железа/углеродные нанотрубки (FP/SWCNT) смешивали с эквимолярным количеством гидроокиси лития LiOH и 10 мас. % глюкозы (в качестве источника углерода). Смесь гомогенизировали в шаровой мельнице при скорости 400 об мин⁻¹ в течение 40 мин в водной среде. Затем дисперсию пропускали через установку распылительной сушки для образования сферических частиц. Полученный порошок отжигали в трубчатой печи при 650°С в токе аргона в течение 8 ч. Полученный материал обозначен как LFP/SWCNT.
Для сравнения по аналогичной методике из фосфата железа и LiOH был получен материал, не содержащий SWCNT в составе, далее он обозначен как LFP.
Приготовление электродов на основе LFP и LFP/SWCNT. Для тестирования полученных материалов были использованы электроды следующих составов: активный материал (LFP или LFP/SWCNT) – 95 мас. %, поливинилиденфторид (PVDF; Solef, Бельгия) – 4.75 мас. % и одностенные углеродные нанотрубки в качестве проводящей добавки – 0.25 мас. %. Необходимое количество SWCNT диспергировали в N-метилпирролидоне в течение 10 мин с использованием ультразвукового диспергатора Vibra-Cell VCX 750 (20 кГц; Sonics Materials Inc., США). Полученную дисперсию перемешивали на магнитной мешалке в течение ~8 ч, затем вносили LFP/SWCNT и перемешивали в течение ~4 ч. Далее добавляли 20 мг мл⁻¹ PVDF и оставляли перемешиваться на 24 ч. Полученные вязкие дисперсии наносили сплошным слоем заданной толщины (~300 мкм) на алюминиевую фольгу, покрытую углеродом, с помощью аппликатора АУ1-300 (“Doctor blade”; Novotest, Россия). Электродную массу высушивали при 80°С, затем прокатывали на вальцах, вырезали электроды площадью 2 см², взвешивали их для оценки удельной загрузки активного материала и сушили в вакууме при 110°С в течение 12 ч. Для исследования были использованы электроды с одинаковой загрузкой активного компонента на единицу площади (5–6 мг см⁻²).
Методы исследования. Изображения сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исходных SWCNT и сферических частиц LFP/SWCNT были получены с использованием микроскопа JEOL JSM-6490LV (Япония). Термогравиметрический анализ проводили на приборе синхронного термического анализа Thermo Scientific 449 (Германия), скорость нагрева – 10°С мин⁻¹. Исследования методом порошковой рентгеновской дифрактометрии (ПРД) проводили в камере Гинье высокого разрешения Image Plate Huber G670 (излучение CuKα1, Ge(111)-монохроматор, угловой диапазон 2θ = 3.000°−100.300°, шаг 0.005°; Германия).
Электрохимические свойства катодных материалов исследовали в двухэлектродных ячейках с литиевым анодом. Ячейки собирали в перчаточном боксе LABstar (mBraun, Германия) в атмосфере аргона (содержание O₂ и H₂O менее 0.5 ppm). В качестве электролита использовали 1M раствор LiPF₆ в смеси этиленкарбонат–диэтилкарбонат (1 : 1 по объему). В качестве сепаратора использовали мембрану из стекловолокна (Schleicher & Schuell MicroScience, Германия).
Эксперименты методом гальваностатической потенциометрии проводили на потенциостате P-20X8 (Electrochemical Instruments, Россия). Эксперименты методом гальваностатического заряда/разряда проводили в диапазоне напряжений 2.0–4.1 В. Удельные емкости нормировали на массу LFP. Режим заряда/разряда 1С соответствовал плотности тока 0.9–1 А см⁻² (170 мА на 1 г LFP).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Синтез и свойства фосфата железа, полученного методом осаждения. В процессе осаждения фосфата железа может образовываться значительное количество неустойчивых промежуточных продуктов реакции [44–46]. В соответствии с этими данными мы выбрали следующие параметры синтеза (температура раствора ~90оС, рН ~ 2, концентрации исходных компонентов – 0.3 М), которые позволили получить однофазные материалы, что подтверждается анализом результатов ПРД (рис. 2а,г).
Осажденный фосфат железа представляет собой гидратированный аморфный мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. При осаждении в присутствии SWCNT структура остается аморфной (рис. 2а, красная кривая). При этом на рентгенограмме отсутствуют рефлексы, характерные для SWCNT [47], что связано с низкой массовой концентрацией SWCNT (0.025 мас. %) в осажденном фосфате железа.
Рис. 2. Рентгенограммы синтезированных прекурсоров FP и FP/SWCNT (а), СЭМ-изображение осажденного FP/SWCNT (б), ТГ/ДСК для образца FP/SWCNT (в), рентгенограммы FP и FP/SWCNT, отожженных при 600оС на воздухе (г) и СЭМ-изображение структуры используемых SWCNT (д).
Частицы осажденного FP/SWCNT после промывки и сушки при 120°С на воздухе представляют собой крупные аморфные агломераты неправильной формы (рис. 2б). Диапазон размеров агломератов достаточно широк, но основную долю составляют частицы размером от 10 до 100 мкр.
На рис. 2в представлены данные термогравиметрического анализа синтезированного образца FP/SWCNT. Эндотермические пики при температурах ~100 и ~200°С указывают на процессы дегидратации. При температуре около ~550°С наблюдается экзотермический пик, соответствующий переходу аморфной фазы FePO₄ в кристаллическую [48, 49]. Потеря массы при нагреве составила около ~16.5%, что соответствует формуле FePO₄⋅1.65H₂O, близкой к соотношению, определенному для гидратированного фосфата железа – FePO₄⋅2H₂O [50, 51].
На рис. 2г представлены рентгенограммы образцов, полученных отжигом при 600°С на воздухе. В обоих случаях происходит кристаллизация с формированием гексагонального типа кристаллической решетки, идентичной родоликоиду (PDF 29-715) [52–54].
На рис. 2д представлено СЭМ-изображение одностенных углеродных нанотрубок SWCNT, используемых в качестве модификатора фосфата железа при осаждении. Видно, что нанотрубки собраны в гибкие пучки микрометровой длины (3–5 мкм), при этом толщина пучков составляет приблизительно 10–20 нм, что позволяет формировать протяженные структуры для создания объемной проводящей углеродной сети [55].
Далее из фосфата железа FP получали феррофосфат лития LFP. На рис. 3 представлены микрофотографии частиц синтезированного феррофосфата лития.
Микрофотографии частиц не отожженого образца LFP/SWCNT (рис. 3а) позволяют идентифицировать их вторичную сферическую структуру, образованную путем агломерации первичных частиц меньшего размера. Средний размер сферических частиц составляет 3–6 мкм.
На рис. 3б представлена микрофотография частиц после отжига в течение 8 ч при 650°С в атмосфере аргона. В процессе отжига поверхность частиц стала более плотной (в сравнении с аналогичной для не отожженных частиц, представленных на рис. 3а).
Рис. 3. Изображения СЭМ: сферические частицы не отожженного LFP/SWCNT после распылительной сушки (а), сферические частицы LFP/SWCNT после отжига (б), вид синтезированной частицы LFP/SWCNT (в), идентификация на поверхности синтезированного LFP/SWCNT углеродных нанотрубок (г, д). Рентгенограмма синтезированного образца LFP/SWCNT (е).
На рис. 3в представлена микрофотография отдельной сферической частицы LFP/SWCNT со средним диаметром 3.5–4 мкм, образованной из первичных частиц со средним размером до ~200 нм. Следует отметить, что на поверхности возможно идентифицировать значительное количество пор различного размера. Пористая структура сферической частицы способствует эффективной диффузии электролита в объем частицы, что особенно важно при высоких плотностях тока [57, 58].
На рис. 3в обозначены выделенные области, представленные при бо́льшем увеличении (рис. 3г,д). Видно, что пучки SWCNT находятся внутри пространства сферической частицы. Это позволяет с высокой степенью достоверности утверждать, что в результате предложенной методики синтеза формируется объемная электропроводящая сеть из SWCNT.
В результате высокотемпературного отжига частицы LFP кристаллизуются (рис. 3е), а на их поверхности формируется проводящий слой углеродного покрытия (вследствие пиролиза углеродсодержащего сырья – глюкозы), что позволяет детально идентифицировать структуру полученного материала и инкапсулированные SWCNT. На рентгенограмме синтезированного материала LFP/SWCNT (рис. 3е) отсутствуют рефлексы примесных фаз, что говорит о высокой степени чистоты синтезированного LFP. Положение рефлексов свидетельствует о формировании после отжига единственной фазы трифилина (PDF 40-1499) [56].
Результаты электрохимических исследований синтезированного композиционного материала LFP/SWCNT представлены на рис. 4.
Рис. 4. Удельные емкости разряда при различных плотностях тока для образца LFP/SWCNT и его аналога, не содержащего SWCNT в составе (а), качественное и количественное влияние плотности тока на разницу удельных емкостей разряда (б), гальваностатические зарядно/разрядные кривые для LFP/SWCNT (в) и LFP (г), увеличенные области гальваностатических кривых для образцов LFP/SWCNT (д) и LFP (е).
Видно, что при низких плотностях тока (C/10, C/3, 1C) удельная емкость разряда для образца LFP/SWCNT практически сопоставима с материалом, не содержащим SWCNT (рис. 4а, красная кривая). Однако уже при плотности тока 3С становится очевидным влияние SWCNT: разрядная емкость материала LFP/SWCNT составляет ~137 мАч г ⁻¹, тогда как для его аналога, не содержащего SWCNT, удельная емкость разряда составляет ~124 мАч г ⁻¹ (при плотности тока 3С). Дальнейший рост плотности тока приводит к увеличению различия величины разрядной емкости для анализируемых образцов (рис. 4б): при 10С – примерно 115 и 93 мАч г ⁻¹ соответственно. Таким образом, при низких плотностях тока электропроводность (обусловленная наличием слоя проводящего углерода на поверхности частиц активного материала, а также 0.25 мас. % SWCNT, вводимых на стадии получения катодной дисперсии) анализируемых материалов оказывается достаточной для эффективного протекания электрохимической реакции [59].
На основании представленных графиков гальваностатических профилей заряда/разряда при различных плотностях тока для материалов LFP/SWCNT и LFP (рис. 4в,г) можно сделать вывод, что оба материала демонстрируют протяженное разрядное плато, типичное для структуры LFP [60]. С увеличением плотности тока возрастает величина перенапряжения, вызванного общим сопротивлением, которое складывается как из омических потерь, так и из кинетических и диффузионных ограничений транспорта носителей заряда [61]. На рис. 4д,е представлены выделенные области зарядно-разрядных кривых, позволяющие оценить вклад общего сопротивления системы в эффективность работы аккумулятора. Очевидно, что с ростом плотности тока значительно возрастает величина гистерезиса перенапряжения на зарядно-разрядных кривых. Это связано с необратимыми затратами энергии на преодоление внутренних сопротивлений в структуре катодного материала, вызванных, в том числе, низкой электропроводностью катодного слоя [62, 63]. Введение SWCNT в структуру частиц активного материала способствует значительному снижению величины гистерезиса перенапряжения на зарядно-разрядных кривых (рис. 4е). Таким образом, можно сделать вывод, что инкапсулирование одностенных углеродных нанотрубок в структуру LFP способствует существенному улучшению эксплуатационных характеристик катодного материала.
Оценка стабильности циклических характеристик синтезированного композиционного материала проводилась путем гальваностатического заряда/разряда при плотности тока 1С (рис. 5).
Рис. 5. Циклическая стабильность синтезированных материалов (скорость заряда/разряда 1С).
На основании исследования циклической стабильности можно видеть, что композиционный материал LFP/SWCNT демонстрирует обратимую емкость 140 мАч г ⁻¹ после 100 циклов заряда/разряда, т. е. коэффициент сохранения емкости составил 98%. Для образца, не содержащего SWCNT, обратимая емкость после 100 циклов составила 137 мАч г ⁻¹, или 96.5% от исходной. Таким образом создание объемной проводящей сети SWCNT в материале LFP/SWCNT обеспечивает постоянный контакт частиц активного материала с углеродным каркасом, в результате чего удается практически полностью исключить негативные процессы вывода из электрохимической реакции активного материала. При этом углеродные нанотрубки, обладающие развитой удельной поверхностью, как правило, могут способствовать поверхностной адсорбции с последующим разложением электролита, что негативно отражается на электрохимических характеристиках. Однако синтезированный композиционный материал оказывается стабильным в указанном диапазоне циклирования. Следует отметить, что в обоих случаях в фактическое снижение емкости вносят вклад не только процессы в материале положительного электрода, но и деградация литиевого противоэлектрода, вызванная образованием нерастворимого поверхностного слоя переменного состава и структуры, снижающего кинетику интеркаляционных процессов [62, 63].
В табл. 1 приведены литературные данные по удельной емкости разряда при различных плотностях тока для композиционных материалов на основе LFP и углеродных наноструктур, полученных различными методами, в сравнении с данными, полученными для LFP/SWCNT в настоящей работе.
Таблица 1. Сравнение удельной емкости разряда при высоких плотностях тока для композиционных материалов на основе LFP и углеродных наноструктур, полученных различными методами
Композиционный материал | Метод получения LFP | Плотность тока | Удельная емкость разряда, мАч г ⁻¹ | Источник |
LiFePO₄@C@CNT-5 | Твердофазный | 5С | 116 | [64] |
MXene-Carbon nanotubes-Cellulose-LiFePO₄ (3D-MCC-LFP) | LFP – коммерческий; смешение в растворителе с последующей вакуумной фильтрацией и лиофильной сушкой | 5С | 86 | [65] |
LFP-1.5%MWCNT | Гидротермальный | 1С | 110 | [66] |
C@LiFePO₄/Carbon Nanotubes Microsphere | Гидротермальный | 10С | 115 | [67] |
LFP/CNTs | Твердофазный | 5С | 60 | [68] |
LFP/С/10CNT-500 | Механическое перемешивание с последующим измельчением с нанотрубками в планетарной мельнице | 9.4С | 78 | [69] |
LFP/Nitrogen-doped CNT | Лиофильная сушка | 10С | 72 | [70] |
LFP/MWCNT-g-PEG | LFP – коммерческий Механическое смешение в растворителе | 10С | 84 | [71] |
LFP-CNT | Твердофазный | 10C | 112 | [72] |
LFP-MWCNT | Золь-гель | 10С | 61 | [73] |
LFP/SWCNT | Осаждение | 1С | 149 | Эта работа |
3С | 137 | |||
10С | 115 | |||
20С | 92 |
При сравнении данных по удельной емкости разряда при различных плотностях тока для материалов, полученных в данной работе, с ранее опубликованными данными для материалов на основе LFP и углеродных структур (табл. 1) можно сделать вывод о том, что предложенная нами методика инкапсулирования SWCNT при осаждении и последующей распылительной сушке суспензии интермедиатов позволяет эффективно повысить удельные характеристики положительного электрода. Следует отметить, что в работе [72] приведено схожее значение удельной емкости для полученного композита, однако массовая концентрация углеродных нанотрубок в нем практически на порядок выше, чем в настоящей работе. Необходимо также отметить, что предлагаемые в литературе методики создания композиционных материалов на основе LFP и углеродных нанотрубок, как правило, используют предварительную модификацию поверхности нанотрубок для повышения степени диспергирования, что позволяет частицам закрепляться на поверхности углеродной нанотрубки [69–71]. В настоящей работе мы не подвергали SWCNT предварительной обработке, что сокращает количество стадий получения материалов и исключает использование дополнительных реагентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлена простая и масштабируемая методика синтеза композиционного материала на основе одностенных углеродных нанотрубок, инкапсулированных во внутреннем объеме сферических частиц LiFePO₄. При введении углеродных нанотрубок на стадии осаждения формируется проводящая структура в объеме фосфата железа, а дальнейшее его смешение с литийсодержащим сырьем с последующей распылительной сушкой и отжигом при высокой температуре в инертной атмосфере позволяет получать пористые сферические частицы активного материала. Реализация заявленной методики обеспечивает создание объемной проводящей структуры, обеспечивающей эффективный электронный транспорт, что приводит к значительному улучшение удельных электрохимических характеристик положительного электрода. Более чем на 40% возрастает удельная емкость разряда при плотности тока 20С (92 и 62 мАч г ⁻¹ для LFP/SWCNT и LFP соответственно). При плотности тока 3С практически в 2 раза снижается гистерезис напряжения заряда/разряда – 150 и 290 мВ соответственно, что существенно влияет на удельную энергию системы в целом. Возрастает циклическая устойчивость: коэффициент сохранения емкости – 97.9 и 96.5% после 100 циклов заряда/разряда при плотности тока 1С. Повышается кулоновская эффективность и снижается сопротивление переноса заряда.
Таким образом, в работе показано положительное влияние одностенных углеродных нанотрубок на электрохимические характеристики LFP, что является перспективным направлением для разработки технологии производства высокомощных катодов на основе LiFePO₄и следующих поколений фосфатных материалов.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-73-00246, https://rscf.ru/project/22-73-00246/).
About the authors
A. V. Babkin
Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: A.V.Babkin93@yandex.ru
Faculty of Chemistry
Russian Federation, 119991 MoscowO. A. Drozhzhin
Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University
Email: A.V.Babkin93@yandex.ru
Faculty of Chemistry
Russian Federation, 119991 MoscowA. V. Kubarkov
Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University
Email: A.V.Babkin93@yandex.ru
Faculty of Chemistry
Russian Federation, 119991 MoscowE. V. Antipov
Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University; Skolkovo Institute of Science and Technology
Email: A.V.Babkin93@yandex.ru
Corresponding Member of the RAS, Faculty of Chemistry
Russian Federation, 119991 Moscow; 121205 MoscowV. G. Sergeyev
Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University
Email: A.V.Babkin93@yandex.ru
Faculty of Chemistry
Russian Federation, 119991 MoscowReferences
- Deng D. // Energy Science & Engineering. 2015. V. 3. № 5. P. 385–418. https://doi.org/10.1002/ese3.95
- Li J., Du Z., Ruther R.E. An S.J., David L.A., Hays K., Wood M., Phillip D.N., Sheng Y., Mao C., Kalnaus S., Daniel C., Wood III D.L. // JOM. 2017. V. 69. P. 1484–1496. https://doi.org/10.1007/s11837-017-2404-9
- Miao Y., Hynan P., von Jouanne A., Yokochi A. // Energies. 2019. V. 12. № 6. P. 1074–1094. https://doi.org/10.3390/en12061074
- Camargos P.H., Pedro dos Santos H.J., dos Santos I.R., Ribeiro G.S., Caetano R.C. // Int. J. Energy Res. 2022. V. 46. № 13. P. 19258–19268. https://doi.org/10.1002/er.7993
- Nitta N., Wu F., Lee J.T., Yushin G. // Mater. Today. 2015. V. 18. № 5. P. 252–264. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2014.10.040
- Mohamed N., Allam N.K. // RSC Adv. 2020. V. 10. № 37. P. 21662–21685. https://doi.org/10.1039/D0RA03314F
- Wang Y., Xu C., Tian X., Wang S., Zhao Y. // Chin. J. Struct. Chem. 2023. V. 42. № 10. P. 100167. https://doi.org/10.1016/j.cjsc.2023.100167
- Murdock B.E., Toghill K.E., Tapia‐Ruiz N. // Adv. Energy Mater. 2021. V. 11. № 39. P. 2102028. https://doi.org/10.1002/aenm.202102028
- Guan P., Zhou L., Yu Z., Sun Y., Liu Y., Wu F., Jiang Y., Chu D. // J. Energy Chem. 2020. V. 43. P. 220–235. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2019.08.022
- Mukhopadhyay A., Jangid M.K. // Science. 2018. V. 359. № 6383. P. 1463–1463. https://doi.org/10.1126/science.aat245
- Van Noorden R. // Nature. 2014. V. 507. P. 26–28. https://doi.org/10.1038/507026a
- Jie Y., Ren X., Cao R., Cai W., Jiao S. // Adv. Funct. Mater. 2020. V. 30. № 25. P. 1910777. https://doi.org/10.1002/adfm.201910777
- Pender P.J., Jha G., Youn D.H., Ziegler J.M., Andoni I., Choi E.J., Heller A., Dunn B.S., Weiss P.S., Pennere R.M., Mullins B.C. // ACS Nano. 2020. V. 14. № 2. P. 1243–1295. https://doi.org/10.1021/acsnano.9b04365
- Zhang J.-C., Liu Z.-D., Zeng C.-H., Luo J.-W., Deng Y.-D., Cui X.-Y., Chen Y.-N. // Rare Met. 2022. V. 41. P. 3946–3956. https://doi.org/10.1007/s12598-022-02070-6
- Lyu Y., Wu X., Wang K., Feng Z., Cheng T., Liu Y., Wang M., Chen R., Xu L., Zhou J., Lu Y., Guo B. // Adv. Energy Mater. 2021. V. 11. № 2. P. 2000982. https://doi.org/10.1002/aenm.202000982
- Malik M., Chan K.H., Azimi G. // Mater. Today Energy. 2022. V. 28. 101066. https://doi.org/10.1016/j.mtener.2022.101066
- Li T., Yuan X.-Z., Zhang L., Song D., Shi K., Bock C. // Electrochem. Energ. Rev. 2020. V. 3. P. 43–80. https://doi.org/10.1007/s41918-019-00053-3
- Tian J., Xiong R., Shen W., Lu J. // Appl. Energy. 2021. V. 291. P. 116812. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116812
- Xin Y.-M., Xu H.-Y., Ruan J.-H., Li D.-C., Wang A.-G., Sun D.-S. // Int. J. Electrochem. Sci. 2021. V. 16. № 6. P. 210655. https://doi.org/10.20964/2021.06.33
- Zhang S.S., Xu K., Jow T.R. // J. Power Sources. 2006. V. 160. № 2. P. 1349–1354. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.02.087
- Zou Y., Zhang J., Lin J., Wu D.-Y., Yang Y., Zheng J. // J. Power Sources. 2022. V. 524. P. 231049. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231049
- Neskoromnaya E.A., Babkin A.V., Zakharchenko E.A., Morozov Yu.G., Kabachkov E.N., Shulga Yu.M. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2023. V. 17. P. 818–825. https://doi.org/10.1134/S1990793123040139
- Arshad F., Lin J., Manukar N., Fan E., Ahmad A., Tariq M.-un-N., Wu F., Chen R., Li L. // Resour. Conserv. Recycl. 2022. V. 180. P. 106164. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106164
- Sovacool B.K. // The Extractive Industries and Society. 2019. V. 6. № 3. P. 915–939. https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.05.018
- Konar R., Maiti S., Shpingel N., Aurbach D. // Energy Stor. Mater. 2023. V. 63. P. 103001. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2023.103001
- Zhang J.-N., Li Q., Ouyang C., Yu X., Ge M., Huang X., Hu E., Ma C., Li S., Xiao R., Yang W., Chu Y., Liu Y., Yu H., Yang X.-Q., Huang X., Chen L., Li H. // Nat. Energy. 2019. V. 4. P. 594–603. https://doi.org/10.1038/s41560-019-0409-z
- Chombo P.V., Laoonual Y. // J. Power Sources. 2020. V. 478. P. 228649. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228649
- Zhitao E., Guo H., Yan G., Wang J., Feng R., Wang Z., Li X. // J. Energy Chem. 2021. V. 55. P. 524–532. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2020.06.071
- Lipson A.L., Durham J.L., LeResche M., Abu-Baker I., Murphy M.J., Fister T.T., Wang L., Zhou F., Liu L., Kim K., Johnson D. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2020. V. 12. № 16. P. 18512–18518. https://doi.org/10.1021/acsami.0c01448
- Chen S., Gao Z., Sun T. // Energy Sci. Eng. 2021. V. 9. № 9. P. 1647–1672. https://doi.org/10.1002/ese3.895
- Samigullin R.R., Drozhzhin O.A., Antipov E.V. // ACS Appl. Energy Mater. 2022. V. 5. P. 14−19. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03151
- Ramasubramanian B., Sundarrajan S., Chellappan V., Reddy M.V., Ramakrishna S., Zaghib K. // Batteries. 2022. V. 8. P. 133. https://doi.org/10.3390/batteries8100133
- Geng J., Zhang S., Hu X., Ling W., Peng X., Zhong S., Liang F., Zou Z. // Ionics. 2022. V. 28. P. 4899–4922. https://doi.org/10.1007/s11581-022-04679-0
- Lin J., Sun Y.-H., Lin X. // Nano Energy. 2022. V. 91. P. 106655. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106655
- Tian J., Xiong R., Shen W., Lu J. // Appl. Energy. 2021. V. 291. P. 116812. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116812
- Li J., Yao W., Martin S., Vaknin D. // Solid State Ionics. 2008. V. 179. № 35–36. P. 2016–2019. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2008.06.028
- Minakshi M. // Electrochim. Acta. 2010. V. 55. № 28. P. 9174–9178. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2010.09.011
- Zhang H., Zou Z., Zhang S., Liu J., Zhong S. // Int. J. Electrochem. Science. 2020. V. 15. № 12. P. 12041–12067. https://doi.org/10.20964/2020.12.71
- Doeff M.M., Wilcox J.D., Kostecki R., Lau G. // J. Power Sources. 2006. V. 163. № 1. P. 180–184. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.11.075
- Zhang W.-J. // J. Power Sources. 2011. V. 196. № 6. P. 2962–2970. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2010.11.113
- Zhao N., Li Y., Zhao X., Zhi X., Liang G. // J. Alloys Compd. 2016. V. 683. P. 123–132. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.04.070
- Rigamonti M.G., Chavalle M., Li H., Antitomaso P., Hadidi L., Stucchi M., Galli F., Khan H., Dolle M., Boffito D.C., Patience G.S. // J. Power Sources. 2020. V. 462. P. 228103. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228103
- Wang X., Wen L., Zheng Y., Liu H., Liang G. // Ionics. 2019. V. 25. P. 4589–4596. https://doi.org/10.1007/s11581-019-03025-1
- Cao Z., Ma B., Wang C., Shi B., Chen Y. // Hydrometallurgy. 2022. V. 212. P. 105896. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2022.105896
- Lou W., Zhang W., Zhang Y., Zheng S., Sun P., Wang X., Qiao S., Li J., Zhang Y., Liu D., Wenzel M., Weigand J.J. // J. Alloys Compd. 2021. V. 856. P. 158148. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.158148
- Babkin A.V., Kubarkov A.V., Styuf E.A., Sergeyev V.G., Drozhzhin O.A., Antipov E.V. // Russ. Chem. Bull. 2024. V. 73. № 1. P. 14–32. https://doi.org/10.1007/s11172-024-4119-8
- Manna K., Srivastava S.K. // J. Phys. Chem. C. 2018. V. 122. № 34. P. 19913–19920. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b04813
- Zhang, Y., Liang, Q., Huang, C., Gao P., Zhang X., Yang X., Liu L., Wang X. // J. Solid State Electrochem. 2018. V. 22. P. 1995–2002. https://doi.org/10.1007/s10008-018-3905-3
- Zhou W., He W., Zhang X., Yan S., Sun X., Tian X., Han X. // Powder Technol. 2009. V. 194. № 1–2. P. 106–108. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2009.03.034
- Wang M., Xue Y., Zhang K., Zhang Y. // Electrochim. Acta. 2011. V. 56. № 11. P. 4294–4298. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2011.01.074
- Ming X.-l., Wang R., Li T., Wu X., Yuan L., Zhao Y. // ACS Omega. 2021. V. 6. № 29. P. 18957–18963. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c02216
- Tao S., Li J., Wang L., Hu L., Zhou H. // Ionics. 2019. V. 25. P. 5643–5653. https://doi.org/10.1007/s11581-019-03070-w
- Zhu Y., Tang S., Shi H., Hu H. // Ceram. Int. 2014. V. 40. № 2. P. 2685–2690. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.055
- Gongyan W., Li L., Fang H. // Int. J. Electrochem. Sci. 2018. V. 13. P. 2498–2508. https://doi.org/10.20964/2018.03.72
- Babkin A.V., Kubarkov A.V., Drozhzhin O.A., Urvanov S.A., Filimonenkov I.S., Tkachev A.G., Mordkovich V.Z., Sergeyev V.G., Antipov E.V. // Dokl. Chem. 2023. V. 508. P. 1–9. https://doi.org/10.1134/S001250082360013X
- Wu Y.-J., Gu Y.-J., Chen Y.-B., Liu H.-Q., Liu C.-Q. // Int. J. Hydrog. Energy. 2018. V. 43. № 4. P. 2050–2056. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.12.061
- Ju S., Liu T., Peng H., Li G., Chen K. // Mater. Lett. 2013. V. 93. P. 194–198. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2012.11.083
- Guo Y., Jiang Y., Zhang Q., Wan D., Huang C. // J. Power Sources. 2021. V. 506. P. 230052. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230052
- Kubarkov A.V., Babkin A.V., Drozhzhin O.A., Stevenson K.J., Antipov E.V., Sergeyev V.G. // Nanomaterials. 2023. V. 13. P. 1771. https://doi.org/10.3390/nano13111771
- Song J., Shao G., Ma Z., Wang G., Yang J. // Electrochim. Acta. 2015. V. 178. P. 504–510. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.08.053
- Liang J., Gan Y., Yao M., Li Y. // Int. J. Heat Mass Transfer. 2021. V. 165. Part A. P. 120615. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120615
- Cao H., Wen L., Guo Z., Piao N., Hu G., Wu M., Li F. // New Carbon Mater. 2022. V. 37. № 1. P. 46–58. https://doi.org/10.1016/S1872-5805(22)60584-5
- Leanza D., Vaz C.A.F., Novak P., Kazzi M.E. // Helv. Chim. Acta. 2021. V. 104. P. e2000183. https://doi.org/10.1002/hlca.202000183
- Chen M., Liu F.-M., Chen S.-S., Zhao Y.-J., Sun Y., Li C.-S., Yuan Z.-Y., Qian X., Wan R. // Carbon. 2023. V. 203. P. 661–670. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.12.015
- Dong G.-H., Mao Y.-Q., Li Y.-Q., Huang P., Fu S.-Y. // Electrochim. Acta. 2022. V. 420. P. 140464. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140464
- Al-Samet M.A.M.M., Burgaz E. // J. Alloys Compd. 2023. V. 947. P. 169680. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169680
- Wang B., Liu T., Liu A., Liu G., Wang L., Gao T., Wang D., Zhao X.S. // Adv. Energy Mater. 2016. V. 6. P. 1600426. https://doi.org/10.1002/aenm.201600426
- Liu Z., Zhang R., Xu F., Gao Y., Zhao J. // J. Solid State Electrochem. 2022. V. 26. P. 1655–1665. https://doi.org/10.1007/s10008-022-05198-8
- Stenina I.A., Minakova P.V., Kulova T.L., Desyatov A.V., Yaroslavtsev A.B. // Inorg. Mater. 2021. V. 57. P. 620–628. https://doi.org/10.1134/S0020168521060108
- Tu X., Zhou Y., Song Y. // Appl. Surf. Sci. 2017. V. 400. P. 329–338. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.12.220
- Gong C., Xue Z., Wang X., Zhou X.-P., Xie X.-L., Mai Y.-W. // J. Power Sources. 2014. V. 246. P. 260–268. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.07.091
- Lei X., Zhang H., Chen Y., Wang W., Ye Y., Zheng C., Deng P., Shi Z. // J. Alloys Compd. 2015. V. 626. P. 280–286. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.09.169
- Wu R., Xia G., Shen S., Zhu F., Jiang F., Zhang J. // Electrochim. Acta. 2015. V. 153. P. 334–342. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2014.12.028
Supplementary files