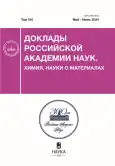Features of electronic structure of (η⁵-C₅H₅)LuCl₂(THF)₃
- Authors: Lyssenko K.A.1, Roitershtein D.M.2,3,4, Bardonov D.A.2,3,4, Minyaev M.E.2,4
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences
- A.V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, Russian Academy of Sciences
- National Research University Higher School of Economics (HSE University)
- Issue: Vol 516, No 1 (2024)
- Pages: 52-58
- Section: PHYSICAL CHEMISTRY
- URL: https://journal-vniispk.ru/2686-9535/article/view/268412
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2686953524030079
- EDN: https://elibrary.ru/ZIDNKL
- ID: 268412
Cite item
Full Text
Abstract
For the first time, a topological analysis of the electron density distribution function in a crystal for an organolanthanide compound was carried out using the CpLuCl₂(THF)₃ complex as an example. The charges on atoms were determined. A predominantly ionic nature of the Lu–ligand bond was confirmed, but the essentially covalent nature of the Lu–Cp bond was discovered. The energies of the Lu–ligand bonds were determined.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Темп развития химии лантанидорганических соединений не ослабевает в последние полвека. В 1980-х гг. на основании рентгеноструктурных исследований предполагалось, что связь Ln–C носит преимущественно ионный характер в подавляющем большинстве соединений [1], а также были предложены критерии формирования стабильных лантанидорганических соединений [2]. Несмотря на множество исследований, ряд вопросов о природе взаимодействий лантанид–лиганд остается дискуссионным. Например, можно отметить вопрос о степени ковалентности связей. Хотя многие исследователи относят связи Ln–C к ионным (например, [3]), есть указания на наличие значимого ковалентного вклада (см., например, [4–8]).
Следует отметить, что циклопентадиенильный лиганд в последние годы стал активно применяться для дизайна люминесцентных материалов на основе лантанидных соединений [9]. При этом, хотя строение циклопентадиенильных комплексов кажется всем понятным, недавно было продемонстрировано, что кристаллическое поле, образованное тремя 1,3-дифенилзамещенными Ср-лигандами, приводит к сильному понижению энергии 5dz2-орбитали иона лантанида [9]. Такое существенное понижение энергии 5d-уровня и, как следствие, участие разрешенных межконфигурационных 5d–4f-переходов в процессах сенсибилизации люминесценции иона лантанида должно приводить к неожиданным оптическим свойствам. Очевидно, что циклопентадиенильные комплексы редкоземельных элементов (РЗЭ) все также продолжают представлять интерес с точки зрения исследования особенностей химического связывания. Исходя из этого, мы решили провести детальное исследование распределения электронной плотности в кристалле одного из простейших производных для данного класса соединений, а именно (η⁵-C₅H₅)LuCl₂(THF)₃ (1). Выбор этого представителя металлорганических соединений лантанидов и, в частности, его циклопентадиенильных аналогов определяется в большей степени возможностью вырастить кристалл, позволяющий измерить высокоугловые отражения и, как результат, восстановить псевдостатическую функцию распределения электронной плотности.
Необходимо отметить, что подобные исследования для редкоземельных ионов в настоящее время крайне немногочисленны и представлены в литературе в основном работами Лысенко [7, 8], который является одним из авторов данной статьи. Кроме того, был проведен топологический анализ распределения плотности заряда в кристалле Cs₂UO₂Cl₄ на основе данных низкотемпературного прецизионного эксперимента (T = 20 K) [10]. Основной проблемой подобных исследований является сложность корректного учета аномального рассеяния и поглощения излучения такими многоэлектронными атомами на лабораторном источнике [11].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе выполнения работы нами было проведено исследование соединения 1 в кристалле на основе рентгенодифракционных методов. Помимо топологического анализа мы также использовали исключительно геометрические критерии для анализа химического связывания, а именно, анализ, базирующийся на разбиении пространства на атомные полиэдры Вороного–Дирихле (ВД) [12]. Было показано, что, несмотря на простой геометрический подход, можно провести некоторую аналогию с разбиением пространства в методе «атомов в молекуле» [13]. Наиболее сложный момент связан с определением граничной величины, при которой грань перестает соответствовать химической связи. Согласно руководству к программе Topos [14], такой граничной величиной является телесный угол меньше 10%. Аналогично оценка была получена в работе [15], в которой обнаружена корреляция между величиной энергии связи Сu–O, полученной на основе топологического анализа функции электронной плотности и телесного угла грани Ω. Очевидно, что подобная величина может отличаться при переходе от металла к металлу. Исходя из этого, мы решили сопоставить приведенные выше подходы в данной работе.
Ранее нами были установлены строение комплекса 1 в кристалле [16] и возможность его исследования прецизионным рентгеноструктурным экспериментом с последующим анализом функции распределения электронной плотности. Комплекс 1 построен аналогично другим известным моноядерным моноциклопентадиенильным дигалогенидным трис-тетрагидрофуранатным комплексам РЗЭ: циклопентадиенильный лиганд η⁵-координирован с катионом металла, хлорид-анионы находятся в транс-положении, координированные молекулы тетрагидрофурана образуют мер-конфигурацию, т. е. катион Lu³⁺ (координационное число 8) расположен в псевдооктаэдрическом окружении (рис. 1). Расстояние от металла до центроида η⁵-координированного циклопентадиенильного лиганда составляет 2.3579(5) Å, а длина связи Lu–C варьирует в интервале 2.6242(11)–2.6655(11) Å. Интересной особенностью как данного комплекса, так и любых комплексов сходного строения является существенное удлинение одной из связей Lu–O для координированной молекулы ТГФ, расположенной в транс-положении к лиганду Cp. Действительно, длина связи Lu(1)–O(2) (2.3952(8) Å) на 0.08 Å больше расстояний Lu(1)–O(1) и Lu(1)–O(3) (2.3183(8) и 2.3079(8) Å соответственно). Расстояния Lu(1)–Cl(1) и Lu(1)–Cl(2) практически не отличаются и составляют 2.6027(3) и 2.6007(3) Å соответственно. Анализ межмолекулярных контактов четко показывает, что все они отвечают слабым ван-дер-вальсовым взаимодействиям Cl∙∙∙H или H∙∙∙Н, поэтому не должны оказывать значимого влияния на распределение электронной плотности.
Рис. 1. Строение комплекса (C₅H₅)LuCl₂(THF)₃. Атомы водорода не показаны; параметры теплового смещения атомов показаны в анизотропном приближении (p = 50%).
Анализ полиэдров Вороного–Дирихле, проведенный по программе Topos 5.0 [14], показал, что связи Lu–Cl и Lu–О характеризуются значениями телесных углов от 15.8 до 12.8%, причем величины для всех атомов кислорода на 2–3% выше. Взаимодействия Lu–C характеризуются значениями телесных углов от 5.4 до 6.1%, то есть формально не отвечают химическим связям. Их суммарное значение, как можно видеть, соответствует примерно трем химическим связям. Таким образом, с точки зрения величин телесных углов циклопентадиенильный лиганд, как это обычно подразумевается в литературе по металлоорганической химии [17], формально занимает три координационных места.
Для оценки относительной энергии связей Lu–лиганд в соединении 1 мы провели анализ функции электронной плотности в рамках теории Бейдера “атомы в молекулах” (QTAIM, quantum theory of atoms in molecules) [13]. Как известно, данная теория не только позволяет выделить все связывающие взаимодействия в кристалле на основе локализованных критических точек (КТ) (3, –1), но и оценить вклад ковалентного связывания и, что наиболее важно, QTAIM дает уникальную возможность оценить энергию многочисленных межатомных взаимодействий: от слабых H∙∙∙H контактов до H-связей и даже координационных связей [18], используя корреляционную схему, предложенную Эспинозой, Моллинзом и Лекомтом (EML) [19, 20].
Рассмотрим в начале особенности распределения деформационной электронной плотности (ДЭП), которая, как известно, хорошо иллюстрирует качество полученной псевдостатической функции распределения электронной плотности. Представленные сечения, построенные через три атома кислорода или два хлорид-аниона и катион лютеция (рис. 2), характеризуются особенностями, которые мы ранее наблюдали в других комплексах редкоземельных металлов [7, 8], а именно: вокруг катиона РЗЭ локализованы пики ДЭП в форме креста, в целом абсолютно аналогичные распределению ДЭП, наблюдаемому для переходных металлов [11].
Рис. 2. Распределение деформационной электронной плотности в комплексе 1: в плоскости, образованной атомами Lu, Cl(1), Cl(2) и O(2), контуры представлены с шагом 0.05 е Å⁻³, взаимодействия Lu–Cl отвечают типу пик–пик, тогда как взаимодействия Lu–O типу пик–дырка (а); в плоскости, образованной атомами Lu, O(1) и O(3), контуры представлены с шагом 0.04 е Å⁻³ (б). Отрицательные и нулевые значения показаны пунктиром.
В окрестности атомов кислорода и хлора локализованы максимумы ДЭП, отвечающие неподеленным парам электронов. Интересно, что для атомов хлора взаимодействие Lu∙∙∙Cl можно описать как взаимодействие максимум на максимум, а для Lu∙∙∙ O(2) – максимум на впадину (рис. 2а). При этом взаимодействие максимум∙∙∙максимум обычно слабее. В качестве примера можно привести распределение электронной плотности в области апикальных связей Cu∙∙∙ O [15].
Характер взаимодействия Lu∙∙∙C в сечениях ДЭП проиллюстрировать достаточно сложно, поэтому мы рассчитали трехмерное распределение деформационной электронной плотности в области координационного узла (C⁵)Lu(Cl)²(O)³в комплексе 1 (рис. 3).
Рис. 3. Трехмерное распределение деформационной электронной плотности в области координационного узла (C⁵)Lu(Cl)²(O)³в комплексе 1. Представлено только положительное значение деформационной электронной плотности (0.02 е Å⁻³).
Логично было предположить, что характер распределения ДЭП вокруг металла будет преимущественно обусловлен взаимодействиями с молекулами ТГФ. Отчасти полученное нами трехмерное распределение согласуется с данной идеей. В отличие от d-металлов, на рис. 3 мы не видим четкого максимума, направленного вдоль псевдооси 5-го порядка, который можно было бы отнести к dz2-орбитали. Тот максимум, который формально может быть отнесен к 4fzѕ-орбитали, явно направлен не в центр Cp-кольца. По-видимому, при образовании химической связи Lu–Cp у лантанида локализовано 4 максимума, параллельных циклопентадиенильному кольцу, а асимметрия данного распределения, возможно, обусловлена взаимодействиями с остальными лигандами в координационной сфере. Подобная особенность распределения ДЭП, как следствие, приводит к определенным проблемам в локализации КТ (3, –1).
Поиск критических точек привел к неприятной ситуации, при которой при стандартных значениях градиента электронной плотности КТ были локализованы не для всех химических связей. Так, КТ были найдены для всех связей C–C, C–H, C–О, Lu–O, Lu–Cl, но только для трех связей Lu–CCp. При этом увеличение граничного значения градиента на несколько порядков позволило локализовать данные точки. Важно, что вариации позиции КТ (3, –1) при разных значениях градиента не привели к сколь-нибудь значимому различию топологических параметров КТ (3, –1). Причина проблем локализации КТ (3, –1) для π-комплексов хорошо известна в литературе (см. [21] и приведенные там ссылки) и обусловлена близостью КТ (3, –1) и КТ (3, +1), отвечающих образованию трехчленных циклов LuC₂. Более того, из-за аналогичных причин оказывается невозможным одновременно локализовать КТ (3, +1) пятичленного цикла и точку (3, +3), отвечающую образованию клетки LuC₅.
Для оценки ковалентной составляющей связей необходимо проанализировать величины плотности электронной энергии и лапласиана электронной плотности в КТ (3, –1) [13]. Исходя из полученных значений, все формально ковалентные связи отвечают ожидаемому обобществленному типу взаимодействий, для которых как величина лапласиана электронной плотности, так и плотность потенциальной энергии отрицательны. Для всех связей с участием лютеция значение лапласиана положительно, однако величина плотности локальной энергии отрицательна, что является однозначным критерием промежуточного типа взаимодействий. Такой тип взаимодействия является общим для всех связей переходный металл–лиганд, и знак плотности потенциальной энергии, приводимой в атомных единицах, позволяет предполагать наличие ковалентной составляющей. Последним типом взаимодействий, который реализуется в кристалле, являются взаимодействия типа закрытых оболочек, но в данном случае они были обнаружены только для слабых ван-дер-вальсовых взаимодействий Cl∙∙∙H.
Полученные атомные бассейны позволяют получить и величины интегральных атомных зарядов, которые, согласно интегрированию функции электронной плотности, приводят к заряду –0.57 e для Cp-лиганда, от –0.45 до 0.36 e для хлорид-анионов и от –0.9 до –0.8 e для атомов кислорода. Заряд лютеция равен +1.4 e. Таким образом, реальная полярность связей существенно ниже, чем формальная, соответствующая степеням окисления.
Таблица 1. Топологические параметры критических точек (3, –1) и телесные углы для связей с участием лютеция в 1
Связь | ρ(r), e Å⁻³ | Ѳρ(r), e Å⁻⁵ | he(r), а.е. | ν(r), а.е. | Econt, ккал моль⁻¹ | Ω, % |
Lu(1)–Cl(1) | 0.32 | 4.31 | –0.0248 | –0.05 | 15.7 | 15.82 |
Lu(1)–Cl(2) | 0.32 | 4.16 | –0.0037 | –0.05 | 15.9 | 15.77 |
Lu(1)–O(1) | 0.39 | 6.04 | –0.0038 | –0.07 | 22.1 | 13.17 |
Lu(1)–O(2) | 0.31 | 4.69 | –0.0006 | –0.05 | 15.6 | 12.44 |
Lu(1)–O(3) | 0.39 | 6.18 | –0.0030 | –0.07 | 22.0 | 12.82 |
Lu(1)–C(1) | 0.25 | 2.59 | –0.0032 | –0.03 | 10.5 | 6.10 |
Lu(1)–C(2) | 0.25 | 2.74 | –0.0026 | –0.03 | 10.6 | 6.15 |
Lu(1)–C(3) | 0.27 | 2.82 | –0.0036 | –0.04 | 11.4 | 5.50 |
Lu(1)–C(4) | 0.27 | 2.77 | –0.0041 | –0.04 | 11.6 | 5.42 |
Lu(1)–C(5) | 0.24 | 2.51 | –0.0026 | –0.03 | 9.6 | 5.76 |
Исходя из зарядов, можно предполагать, что энергия взаимодействий с катионом лютеция для анионов хлора будет существенно ниже, чем для атомов кислорода. Действительно, как можно видеть из приведенной табл. 1, энергия для хлорид-анионов меньше, чем соответствующие значения для атомов O(1) и O(3), и сопоставима с таковой для молекулы ТГФ, связанной за счет атома O(2). Невысокая энергия для связи Lu–Cl хорошо согласуется с известной из экспериментов легкостью замещения галогенид-аниона в различных циклопентадиенильных галогенидных производных РЗЭ. Наличие транс-влияния циклопентадиенильного лиганда, по-видимому, приводит к значительному ослаблению соответствующей связи Lu–O(2), что также должно приводить к более легкому замещению данной сольватной молекулы. Общая энергия взаимодействия катиона лютеция с циклопетандиенильным лигандом самая высокая и составляет –54 ккал моль⁻¹, хотя каждое отдельное взаимодействие существенно ниже по энергии.
Интересно, что объемы атомов, полученные исходя из определения атомных бассейнов и на основе метода Вороного–Дирихле [12], отличаются несильно и составляют 13.2 и 15.3 ų соответственно. Более того, мы сравнили площади межатомных поверхностей, вернее их вклад в процентах в общую плотность атома Lu (49.9 Ų). Как и для объема, полученные значения оказались на удивление близки к данным, полученным на основе стереоатомной модели. Так, для поверхностей Lu–Cl(1), Lu(1)–O(1) и Lu(1)–C(1) они оказались равны 15.2, 14.3 и 3.6% соответственно. Неплохое соответствие двух данных подходов в этом случае легко объяснить тем фактом, что КТ (3, –1) на указанных связях лишь незначительно смешаются от ее центра. Так, смещение КТ (3, –1) от центра связи для атома Cl(1) составляет 0.04 Å, для O(1) – 0.05 Å, а для C(1) – 0.02 Å. Хотя из представленных величин телесных углов мы не можем получить четкой корреляции с энергией, оцененной по Лекомту–Эспинозе [19, 20], но качественная зависимость сохраняется, а, следовательно, имеется возможность легко оценивать относительные энергии в металлорганических соединениях лантанидов без использования дорогостоящих квантово-химических расчетов. В качестве дополнительного критерия корректности стереоатомной модели можно предложить близость КТ (3, –1) к центру анализируемой связи. Хотя, несомненно, дополнительные исследования, направленные на поиск корректных граничных значений телесных углов для π-связей все-таки необходимы.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтетические манипуляции проводили в сосудах Шленка или в перчаточном боксе СПЭКС ГБ 2 (Россия) либо в вакууме, либо в атмосфере аргона, очищенного на колонке с сорбентом MnO, а затем на колонке, содержащей Na/K-эвтектику. Комплекс 1 получили из циклопентадиенида калия и LuCl₃(THF)₃ в абсолютном ТГФ по методике, аналогичной [22]. LuCl₃(THF)₃ получили из коммерчески доступного LuCl₃(H₂O)₆ реакцией с тионилхлоридом в ТГФ по известной методике [23]. В результате множественных перекристаллизаций из абсолютного ТГФ получены монокристаллы, приемлемые для прецизионного РСА.
Рентгенодиффракционные данные для 1 были собраны при 100 К на дифрактометре Smart APEX II CCD (Германия) с использованием монохроматического MoKα-излучения (λ = 0.71073 Å). Комплекс 1 кристаллизуется в пространственной группе P21/c, Z = 4. Параметры элементарной ячейки при 100 K: a = 7.7513(2) Å, b = 16.8175(3) Å, c = 14.7029(3) Å, β = 95.4495(10)°, V = 1907.97(7) ų. Сбор 392317 дифракционных отражений было проведен до угла 2θmax = 124°. Интегрирование интенсивностей, учет поглощения, решение структуры и предварительное ее уточнение методом МНК в полноматричном приближении проводили с использованием стандартных программ: SAINT [24], SADABS [25], SHELXT [26], SHELXL-2018 [27]. Несмотря на очень неплохие факторы расходимости (R1 = 0.0265 для 23393 наблюдаемых отражений с I > 2σ(I) и wR2 = 0.0696 для 30223 независимых отражений) и весьма реалистичную разностную функцию, которая позволила локализовать все атомы водорода и уточнить без ограничений по модели жесткого тела, величины остаточной плотности оказались слишком высокими (–4.05 е Å⁻³). Поэтому для уточнения структуры и подготовки cif-файла, депонированного в КБСД под номером 2359166, нами был использован массив с максимальным углом 2θmax = 85°. Факторы расходимости для уточнения комплекса 1 в анизотропно-изотропной модели составили: R1 = 0.0180 для 12172 наблюдаемых отражений, wR2 = 0.0405 для 13667 независимых отражений и GOF = 1.034.
Однако при последующем мультипольном уточнении был использован массив с 2θ = 110°, поскольку для корректного разделения вкладов, связанных с анизотропией функции электронной плотности и атомных смещений в динамическую функцию электронной плотности необходимо использование высокоугловых данных, в которых вклад валентных электронов существенно ниже. Для получения псевдостатической функции распределения электронной плотности использовли модель Хансена–Коппенса с применением программного комплекса XD2006 [28]. При мультипольном уточнении для всех неводородных атомов уточняли координаты, анизотропные тепловые параметры и мультипольные параметры до октупольного уровня (l = 3) и гексадекапольного уровная для атомов хлора и лютеция (l = 4) по Fhkl. Перед C уточнением расстояния C–H нормировали на стандартное значение 1.08 Å; позиции водородных атомов и их изотропные тепловые параметры при этом не уточняли. Корректность полученных анизотропных параметров атомных смещений оценивали при помощи теста Хиршфельда; соответствующее значение не превышало 1 × 10⁻⁴ Ų. Результаты мультипольного уточнения для комплекса 1: R1 = 0.0181, wR2 = 0.0156 и GOF = 0.8519 по 17315 отражениям с I > 3σ(I). Для расчета плотности потенциальной энергии ν(r) из рентгенодифракционных данных использовано приближение в рамках теории Томаса–Ферми [13]. Величины разностной электронной плотности не превышали 0.45 e Å⁻³. Согласно данному подходу, плотность кинетической энергии g(r) получали, исходя из выражения
в сочетании с локальной теоремой вириала , что позволило рассчитать как плотность потенциальной энергии, так и локальную плотность энергии he(r). Поиск критических точек (3, –1) и расчет в них топологических характеристик ρ(r), включая he(r), g(r) и ν(r), проводили с использованием программы WinXPRO version 1.5.20 [29].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании топологического анализа функции распределения электронной плотности ρ(r), восстановленной из рентгенодифракционного массива данных для комплекса (η⁵-C₅H₅)LuCl₂(THF)₃, были найдены заряды на атомах, показана значимая ковалетность связей Lu–CCp, оценены энергии взаимодействий Lu–лиганд, которые позволяют объяснить легкость замещения хлорид-анионов. Сравнения полученных значений с величинами телесных углов, рассчитанных на основе стереоатомной модели, свидетельствуют о количественном согласии двух рассмотренных разбиений пространства.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-23-00711).
СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ РАБОТЫ С ЖИВОТНЫМИ
Настоящая статья не содержит описания исследований с использованием в качестве объектов животных и людей.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в финансовой или какой-либо иной сфере.
About the authors
K. A. Lyssenko
Lomonosov Moscow State University
Email: mminyaev@ioc.ac.ru
Russian Federation, 119991 Moscow
D. M. Roitershtein
N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences; A.V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, Russian Academy of Sciences; National Research University Higher School of Economics (HSE University)
Email: mminyaev@ioc.ac.ru
Russian Federation, 119991 Moscow; 119991 Moscow; 101000 Moscow
D. A. Bardonov
N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences; A.V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, Russian Academy of Sciences; National Research University Higher School of Economics (HSE University)
Email: mminyaev@ioc.ac.ru
Russian Federation, 119991 Moscow; 119991 Moscow; 101000 Moscow
M. E. Minyaev
N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences; National Research University Higher School of Economics (HSE University)
Author for correspondence.
Email: mminyaev@ioc.ac.ru
Russian Federation, 119991 Moscow; 101000 Moscow
References
- Raymond K.N., Eigenbrot C.W. // Acс. Chem. Res. 1980. V. 13. № 8. P. 276–283. https://doi.org/10.1021/ar50152a005
- Evans W.J. // Polyhedron 1987. V. 6. № 5. P. 803–835. https://doi.org/10.1016/S0277-5387(00)80921-3
- Choppin G.R. // J. Alloys Compd. 2002. V. 344. № 1–2. P. 55–59. https://doi.org/10.1016/s0925-8388(02)00305-5
- Roitershtein D.M., Rybakova L.F., Petrov E.S., Ellern A.M., Anipin M.Yu., Sruchkov Yu.T. // J. Organomet. Chem. 1993. V. 460. № 1. P. 39–45. https://doi.org/10.1016/0022-328X(93)80356-G
- Roitershtein D.M., Minyaev M.E., Lyssenko K.A., Belyakov P.A., Antipin M.Yu. // Russ. Chem. Bull., Int. Ed. 2004. V. 53. № 10. P. 2152–2161. https://doi.org/10.1007/s11172-005-0089-7
- Ellis J.E., Minyaev M.E., Nifant’ev I.E., Churakov A.V. // Acta Cryst., Sect. C. 2018. V. C74. № 6. P. 769–781. http://dx.doi.org/10.1107/S2053229618007295
- Roitershtein D.M., Vinogradov A.A., Vinogradov A.A., Lyssenko K.A., Nelyubina Yu.V., Anan’ev I.V., Nifant’ev I.E., Yakovlev V.A., Kostitsyna N.N. // Organometallics. 2013. V. 32. № 5. P. 1272–1286. https://doi.org/10.1021/om301020r
- Puntus L.N., Lyssenko K.A., Antipin M.Yu., Bünzli J.-C.G. // Inorg. Chem. 2008. V. 47. № 23. P. 11095–11107. https://doi.org/10.1021/ic801402u
- Roitershtein D.M., Puntus L.N., Vinogradov A.A., Lyssenko K.A., Minyaev M.E., Dobrokhodov M.D., Taidakov I.V., Varaksina E.A., Churakov A.V., Nifant’ev I.E. // Inorg. Chem. 2018. V. 57. № 16. P. 10199–10213. http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b01405
- Zhurov V.V., Zhurova E.A., Stash A.I., Pinkerton A.A. // J. Phys. Chem. A. 2011. V. 115. № 45. P. 13016–13023. https://doi.org/10.1021/jp204965b
- Koritsanszky T.S., Coppens P. // Chem. Rev. 2001. V. 101. № 6. P. 1583–1628. https://doi.org/10.1021/cr990112c
- Blatov V.A. // Crystallogr. Rev. 2004. V. 10. № 4. P. 249–318. https://doi.org/10.1080/08893110412331323170
- Bader R.F.W. Atoms in Molecules: A Quantum Theory. Oxford University Press, USA, 1994. p. 456.
- ToposPro ver. 5.4.1.0 practical manual: https://topospro.com/download/manuals/topos_practical_manual_rus_5.4.1.0_1.1.0.pdf (ссылка активна на 04.07.2024).
- Lyssenko K.A., Vologzhanina A.V., Torubaev Yu.V., Nelyubina Yu.V. // Mendeleev Commun. 2014. V. 24. № 4. P. 216–218. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2014.06.009
- Roitershtein D.M., Minyaev M.E., Mikhailyuk A.A., Lyssenko K.A., Belyakov P.A., Antipin M.Yu. // Russ. Chem. Bull. 2007. V. 56. № 10. P. 1978–1985. http://dx.doi.org/10.1007/s11172-007-0308-5
- Elschenbroich C. Organometallics, 3rd, Completely Revised and Extended Edition. Wiley-VCH, 2016. 817 p.
- Lyssenko K.A. // Mendeleev Commun. 2012. V. 22. № 1. P. 1–7. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2012.01.001
- Espinosa E., Molins E., Lecomte C. // Chem. Phys. Lett. 1998. V. 285. № 3–4. P. 170–173. https://doi.org/10.1016/S0009-2614(98)00036-0
- Espinosa E., Alkorta I., Rozas I., Elguero J., Molins E. // Chem. Phys. Lett. 2001. V. 336. № 5–6. P. 457–461. https://doi.org/10.1016/s0009-2614(01)00178-6
- Borissova A.O., Antipin M.Yu., Lyssenko K.A. // Phys. Chem. A. 2009. V. 113. № 40. P. 10845–10851. https://doi.org/10.1021/jp905841r
- Schumann H., Herrmann K., Mühle S.H., Dechert S. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2003. V. 629. № 7–8. P. 1184–1194. https://doi.org/10.1002/zaac.200300041
- Edelmann F.T., Poremba P. Inorganic compounds and important starting materials of the lanthanide elements. In: Synthetic methods of organometallic and inorganic chemistry (Herman/Brauer). Lanthanides and actinides. Edelmann F.T., Herrmann W.A. (eds.). Verlag: Stuttgart, Germany, 1997. P. 34–35.
- Bruker. APEX-III. Bruker AXS Inc., Madison, Wisconsin, USA, 2019.
- Krause L., Herbst-Irmer R., Sheldrick G.M., Stalke D. // J. Appl. Cryst. 2015. V. 48. № 1. P. 3–10. https:// doi.org/10.1107/S1600576714022985
- Sheldrick G.M. // Acta Cryst., Sect. A. 2015. V. A71. № 1. P. 3–8. https://doi.org/10.1107/S2053273314026370
- Sheldrick G.M. // Acta Cryst., Sect. C. 2015. V. C71. № 1. P. 3–8. https://doi.org/10.1107/S2053229614024218
- Volkov A., Macchi P., Farrugia L.J., Gatti C., Mallinson P., Richter T., Koritsanszky T. // XD2006 – a computer program for multipole refinement, topological analysis of charge densities and evaluation of intermolecular energies from experimental or theoretical structure factors. 2006. https://www.chem.gla.ac.uk/~louis/xd-home/ (ссылка активна на 31.05.2024)
- Stash A., Tsirelson V. // J. Appl. Cryst. 2002. V. 35. № 3. P. 371–373. https://doi.org/10.1107/s0021889802003230
Supplementary files