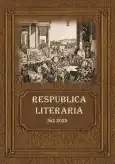Transformation of Ethnosocial Dynamics and Identity Models in the Era of Global Challenges
- Authors: Begalinov A.S.1, Ashilova M.S.2, Begalinova K.K.3
-
Affiliations:
- International University of Information Technologies
- Kazakh University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan
- Al-Farabi Kazakh National University
- Issue: Vol 6, No 2 (2025)
- Pages: 135-143
- Section: SOCIOCULTURAL IDENTITY AND HISTORICAL DYNAMICS
- URL: https://journal-vniispk.ru/2713-3125/article/view/305633
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2025.6.2.135-143
- ID: 305633
Cite item
Full Text
Abstract
In the context of globalization, digitalization, migration crises, identity ceases to be static, it turns into a hybrid construct. The relevance of the topic is associated with the growth of interethnic conflicts, the search for a balance between multiculturalism and integration, as well as rethinking traditional paradigms in anthropology and sociology. The purpose of the study is to analyze ethnosocial dynamics and models of identity. The objectives of the study are aimed at revealing identity as a socio-cultural phenomenon that records an individual's belonging to a group, people, a certain political system, factors of ethnosocial dynamics. Substantial features of identity are its community and distinctiveness. Community is understood as territorial unity, kinship of history, language, culture, etc., which can be presented both in qualitative and quantitative descriptions, and distinctiveness records the similarity or difference of one ethnic group (nation) from another. The methodological basis of the study was general philosophical methods, systemic, structural-functional and activity approaches, principles of objectivity, universal connection and others. From the standpoint of philosophical knowledge, the problems of ethnosocial dynamics and models of identity in the modern era are considered.
Full Text
Введение
Этносоциальная динамика под влиянием глобализации, цифровизации, миграционных кризисов, выступая одной из ключевых категорий социальной философии, приобретает особую актуальность. И это понятно, поскольку она непосредственно связана с взаимоотношениями между этническими группами и обществом, исследует процессы изменений как внутри этносов, так и во взаимодействии с другими этносами. Интерес к этносоциальной динамике обусловлен и этническим возрождением отстающих от уровня постиндустриального развития стран Запада государств Центральной Азии, Африки, Латинской Америки, этнокультурным разделением труда и многими другими факторами. Наиболее ускоренными темпами развивается такое ее направление, как культурная динамика этноса, под которой понимается способность «культурных систем адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним условиям своего существования» [Нахушева, 2006].
Данная статья исследует проблемы трансформации этносоциальной динамики в условиях глобальных вызовов и анализирует модели идентичности, формирующиеся в контексте реальных общественных, политических и иных культурных процессов. В научной литературе выделяются такие модели идентичности, как гибридная, ресентиментная, экологическая [Жеребило, 2011]. В некоторых источниках анализируются модели плавильного котла, этнической мозаики, этнической ассимиляции, этнического ядра и др. [Коротин, 2914]. Безусловно, модели идентичности не могут быть статичными, они динамичны, подвижны, впитывают в себя элементы инновации, отсюда и появление гибридных конструктов, мозаичных форм. Эта статья представляет, как современные глобальные вызовы переопределяют границы этничности и создают различные модели, формы этнической идентичности.
В основе исследования лежит целый ряд методологических подходов, философских принципов, которые используются при изучении исторических, социально-культурных феноменов. К их числу относятся принципы объективности, всеобщей связи и развития, целостности и системности, противоречивости, релятивизма, плюрализма и другие. К примеру, благодаря использованию системного подхода, этносоциальная идентичность рассматривается как целостный динамичный феномен в единстве всех ее компонентов. Принцип релятивизма помогает понять трансформацию этносоциальной динамики, а принцип плюрализма – анализировать различные модели идентичности, особенно в условиях глобализации и цифровизации общества.
Глобализация: унификация или пробуждение аутентичности?
Современная эпоха ставит человечество перед дилеммой – глобализация или глокализация, унификация или аутентичность, этническая самобытность. Эту дилемму обостряют массовая культура, цифровые сети, которые, стирая уникальность различных этносов, предпринимают попытку замены их универсальным понятием «гражданина мира». Но в мире растет и количество противников глобальной унификации. Зигмунт Бауман называл это «ретротопией» – бегством в прошлое как реакции на неопределенность будущего или глобальной эпидемией ностальгии по прошлому, определяя ее характерной чертой современного общества. По мнению британского социолога, под этим бегством стоит понимать попытку сохранения культурных смыслов в мире, где все превращается в товар [Бауман, 2004]. Поэтому этническую идентичность надо воспринимать как специфическую форму сопротивления прежде всего против тех, кто использует ее (этническую идентичность) как товар: патентуются национальные символы, этнические сакральные ритуалы превращаются в туристическое шоу и многое другое.
Следует заметить, что этническая идентичность коренится в историческом нарративе, который часто превращается в мифологему. «Эмоциональный каркас», сплачивающий этническую группу, формируется благодаря мифам о первопредках, легендам об их происхождении и т. д., тем самым подчеркивается уникальность исторического прошлого народа, который используется как инструмент самоопределения его в настоящем и будущем. Это относится буквально ко всем этносам. К примеру, казахский народ ассоциирует себя с тюркским этносом. Своим верховным тотемом, священным животным они считали волка, символизирующего ум, свободу, независимость, смелость, решительность, самоотверженность, преданность, умение идти на риск, защищать себя и свою стаю. Эти качества отличают волка от других зверей. Но более всего волк дорожит своей свободой. Следует заметить, что он является одним из немногих животных, не поддающихся дрессировке. «Древние тюрки называли волка “Көк курт”, где слово “көк” означает Небо, а также голубой и синий цвета, этот же цвет являлся священным символом самого Бога Неба – Тенгри, – пишет Фадлун Эфенди. – Этот факт позволяет нам раскрыть смысл и значение имени “Көк курт”, т. е. “Голубой Волк” (или же Небесный Волк), бывший у тюрков божественным поклонником, спасшим их племена от гибели. Таким образом, как мы видим, волк был возведен в ранг священного животного и высшего небесного божества. Что касается слова “Курт”, то оно является корнем слова “Куртулуш” (или же его различных вариаций) и означает “Спаситель”, “Избавитель”. Отсюда и полное значение имени “Көк Курт”, т. е. Голубой (Небесный) Спаситель» [Безертинов, 2004]. Существует древнетюркская легенда, согласно которой волчица спасла мальчика без рук и ног и родила от него первых тюрков. Содержание этой легенды сводится к следующему: «… племя Ашина из рода Гуинг-Ну (хунн) подверглось внезапному нашествию извне. Кроме мальчугана десяти лет все племя погибло. Ребенка же, с отсеченными руками и ногами, оставляют в болоте, обрекая на медленную смерть. Там мальчугана находит волчица и, залечивая его раны, спасает от мучительной смерти. Ребенок растет, становится юношей. Враги, узнав, что ребенок жив, намереваются снова захватить и убить его. Но волчица, перепрыгнув через Великую степь от запада к востоку, прижимая к своей груди юношу, во второй раз спасает его от гибели. Затем, забравшись в пещеру, рожает десятерых детей. Один из них получает имя своего племени Ашина» [Фадлун, 1991, с. 138]. Эта легенда объясняет почему для тюрков «лицо волка благословенно».
Как видим, этничность – это не данность, а историко-культурное повествование. Мы наследуем не гены, а различные легенды, истории о героях прошлого, о золотых веках жизни наших предков и т. д. Но что происходит, когда эти истории сталкиваются с иными нарративами? В лучшем случае происходит переформатирование исторического прошлого. Неслучайно философ Поль Рикёр напоминал, что идентичность – это «рассказанная история», а значит, она пластична, подвержена переосмыслению. Однако общество часто превращает ее в догму, мумифицируя живую ткань культуры. «Здесь кроется парадокс: этническая идентичность дает опору в мире глобализированного одиночества, но рискует стать клеткой, где прошлое держит будущее в заложниках» [Рикёр, 2008]. Анализируя эти процессы в книге «Я – сам как другой», автор создает концепцию нарративной идентичности, согласно которой личность понимается как персонаж повествования, сопричастной «режиму динамичной идентичности», и она колеблется между тождественностью и самостью [Рикёр, 2008].
Этническая идентичность как диалог с Другим
Этническое самосознание формируется в столкновении, а не в изоляции. Как отмечал Гегель, «Я» осознает себя лишь через «Не-Я», при этом «Я» понимается в качестве всеобщего. В работе «Наука логики» он утверждает: «... когда я говорю “я”, я имею в виду себя как это, данное “я”, исключающее все другие “я”; но изреченное “я” есть именно всякое “я”, “я”, исключающее из себя все другие “я”. Кант использовал неудачное выражение, говоря, что “я” сопровождает все мои представления и также все мои ощущения, желания, действия и т. д. “Я” есть само по себе всеобщее, и общность есть также одна из форм всеобщности, но она лишь внешняя ее форма. Все люди имеют то общее со мной, что они суть “я”, точно так же, как все мои ощущения, представления и т. д. имеют между собой то общее, что они суть мои. Но “я”, взятое абстрактно как таковое, есть чистое отношение к самому себе, в котором абстрагируются от представления, ощущения, от всякого состояния, равно как и от всякой природной особенности, таланта, опыта и т. д. “Я” есть в этом отношении существование совершенно абстрактной все общности, есть абстрактно свободное. Поэтому “я” есть мышление как субъект ...» [Гегель, 1974, c. 114]. Сегодня «Другой» – не только само по себе всеобщее, сосед, но и глобализация. Соцсети, миграция, культура «Third Culture Kids» (детей третьей культуры) создают гибриды. Можно ли быть наполовину казахом, наполовину египтянином? Современная этничность – это мозаика, плавильный котел: слои наслаиваются друг на друга.
Этничность ассоциируется с языком, мифами, ритуалами, традициями, т. е. культурой, а ее социальность означает роль этноса в структуре общества, их синтез порождает специфический феномен – код принадлежности. Отсюда под этносоциальной идентичностью понимается осознание индивидом своей принадлежности к определенному роду, группе, народу – другими словами, это самоопределение индивида, и оно вырабатывается в процессе исторического, социально-культурного развития. Эта идентичность представляет собой сложный конструкт, объединяющий этническую принадлежность и социальное самоопределение. В эпоху глобализации, цифровизации и усиления миграционных потоков идентичность перестает быть статичной категорией, она превращается в динамичный процесс постоянного переосмысления традиции через призму современных реалий. При этом она сталкивается с различными вызовами, такими, как гибридизация культур, формирование цифровых племен и т. д. Гибридизация культур свойственна мигрантам, которые, сохраняя связь со своими этническими корнями, вбирают в себя элементы других культур. Создаются и синкретические формы идентичности, к примеру, сочетание мусульманской и европейской культур – евроислам. А цифровизация, социальные сети создают цифровые сообщества, где этничность трансформируется в виртуальные группы по интересам, ценностям – геймеры, криптоэнтузиасты и др., что порождает различные противоречия между традиционализмом и неотрадиционализмом, политизацией идентичности. Следует отметить, что чем быстрее развивается глобализация и цифровизация, тем острее выражается стремление к глокализации.
Этносоциальная идентичность начинается с усвоения языка, приобщения индивида к культурным нормам, ценностям в процессе его социализации в определенном обществе. В последующем эта идентичность определяет жизнедеятельность индивида, она выступает конечным продуктом этой идентификационной цепочки. Не стоит отождествлять два очень близких по значению понятия: самосознание и идентичность. Несмотря на то, что они тесно взаимосвязаны друг с другом, – функциональная деятельность одного (выработка идентичности) происходит в поле деятельности другого (сознания) – все же у них разная смысловая модальность: этническая идентичность является лишь мотивационным ядром этнического самосознания, которое по своему семантическому значению имеет гораздо более широкий охват, т. к. содержит в себе еще и слой бессознательного. Подобное положение вещей, видимо, связано с тем, что изучение феномена этнической идентичности началось относительно недавно [Стефаненко, 1999, с. 17].
Этническая общность образуется, когда у членов какой-либо социальной группы формируется совокупность образов об общих объединяющих их признаках – территории, символах, традиции, языке, когда складывается вера людей в то, что они связаны между собой естественными связями. Г. Триандис говорил в этой связи о субъективной культуре – характерном способе социальной перцепции реалий каждой культурой, посредством которой члены сообщества познают созданное людьми окружение: как они категоризируют социальные объекты, какие связи между категориями выделяют, какие категории (нормы, роли и ценности) признают своими [Стефаненко, 1999, с. 17]. Такая категоризация охватывает все представления, идеи и убеждения, объединяющие народ, через них идет воздействие на поведение и деятельность всех членов сформировавшегося сообщества. Саморазвитие этой общности идет в определенном культурном контексте. По Ю. У. Лотману, культура – это субъект, помогающий самоидентификации общностей. При этом культура в этом процессе создает в качестве идейного автопортрета мифологический образ [Лотман, 1992].
Этничность можно изучать с нескольких позиций: примордиализма, когда она понимается как врожденная, неизменная характеристика личности; инструментализма, в котором этничность рассматривается как инструмент для достижения определенных целей, чаще всего политических и экономических; конструктивизма, когда этничность выступает продуктом социального конструирования и зависит от контекста и др. Этничность неразделима с идентичностью. Идентичность складывается в процессе противоречия между старыми и новыми смыслами. Это – интерактивный феномен, который всегда конструируется в ходе взаимодействия «я» со своим окружением. Соприкасаясь с новыми смыслами, исторические практики играют роль, которую психологи назвали «Значимый Другой». «Значимый Другой» инициирует процесс социализации актора и переноса социально существенных знаний и их смыслов в «я», таким образом наполняя его или ее имеющим решающее значение влиянием [Национальная идентичность …, 2022]. Отсюда этносоциальная идентичность представляет большой интерес для более глубокого понимания процессов, происходящих в социуме.
Современные модели идентичности
Жизнь современного человека уникальна, многоаспектна, поскольку он выступает одновременно гражданином Мира, космополитом и носителем локальных культур, автором цифрового аватара. И этносоциальная идентичность понимается не как статичный, а как динамичный феномен, некая мозаика, складываемая из фрагментов реального и виртуального, личного и коллективного, что порождает различные модели идентичности. В научно-исследовательской литературе к ним относятся: гибридная идентичность (синтез элементов разных культур (Хоми Бхабха), например: мигранты второго поколения, сочетающие традиции семьи и глобальные тренды); ресентиментная идентичность (реакция на маргинализацию через радикализацию (феномен «этнического ренессанса» в Восточной Европе)); постэтничность (отказ от жестких этнических границ в пользу гражданской или профессиональной идентичности (У. Конноли)); экологическая этничность (связь с природой как основа самоидентификации (саамы, маори)).
В философской литературе выделяют еще такие модели, как «1) модель плавильного котла; 2) модель этнической мозаики; 3) модель этнической ассимиляции; 4) модель этнического ядра» [Жеребило, 2011]. Под понятием «плавильный котел» понимается проведение такой государственной политики в области этнических отношений, которая направлена на мирное сосуществование различных культур. «Плавильный котел – национально языковая политика, направленная на объединение различных этносов в единое целое и на одноязычие. Словосочетанием “плавильный котел” обычно характеризуют языковую политику США и Израиля» [Жеребило, 2011, с. 28]. Противоположной моделью является модель этнической мозаики, которая направлена на сохранение культурных различий между этносами. Эту модель иначе называют мультикультурализмом. Она характерна для многих стран, включая и постсоветские. Четвертой моделью является модель этнического ядра, которая присуща странам, где между центром и периферией имеются существенные различия. «Центр в таких странах – доминанта, обладающая политической и экономической властью. Периферия – подчиненный центру и отсталый регион. В таких условиях отношения между представителями разных национальностей строятся по принципу социально-классовой пирамиды. Верхушку этой пирамиды занимают представители “главного” этноса, так называемого ядра. Нижние ярусы такой социально-классовой пирамиды отводятся представителям других этнических групп» [Коротин, 2014]. Таковы основные модели идентичности. Но в эпоху глобальных вызовов будет происходить их трансформация, появятся и новые модели. Становление идентичности происходит в процессе беспрерывного соревнования между старыми и новыми смыслами. Это – интерактивный феномен, он конструируется в ходе взаимодействия «я» со своим окружением. Существует еще одна проблема – это дети от смешанных браков, которые могут культивировать «двойную идентичность», как латиноамериканцы в США, сочетающие испанский и английский в повседневности. В будущем, возможно, мы увидим рождение «квир-этничностей», которые отвергают бинарность и создают синтетические культурные формы. Таким образом, этническая идентичность становится полем битвы между самоидентификацией и внешними ожиданиями.
Заключение
Этническая идентичность – это социально-философская проблема лишь до тех пор, пока мы ищем в ней ответы вместо вопросов. Она должна быть не ярлыком, а вопросом: «Кто я в диалоге с другими?» Какие современные вызовы существуют для социальной динамики и идентичности? Это – кризис мультикультурализма, рост ксенофобии в ЕС и США, связанная с формированием инклюзивных narratives через школьные программы роль образования; этничность в метавселенных, что связано с рисками цифрового колониализма и новыми формами солидарности; устойчивое развитие, взаимосвязь культурного разнообразия и экологических практик (концепция ЮНЕСКО).
Таким образом, в наше время этносоциальная динамика требует отказа от бинарных оппозиций («свой-чужой») в пользу полицентричных моделей. Идентичность становится «процессом», а не «статусом», что открывает возможности для диалога, но усиливает риски фрагментации. Ключевая задача – создать институты, способные балансировать между сохранением уникальности и формированием общего будущего.
About the authors
A. S. Begalinov
International University of Information Technologies
Author for correspondence.
Email: kalima910@mail.ru
Candidate of Philosophical Sciences, PhD, Assistant Professor Manasa St., 34/1, Almaty
M. S. Ashilova
Kazakh University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan
Email: kalima910@mail.ru
Candidate of Philosophical Sciences, PhD, Associate Professor Murabayeva St., 200, Almaty
K. K. Begalinova
Al-Farabi Kazakh National University
Email: kalima910@mail.ru
Doctor of Philosophical Sciences, Professor Al-Farabi Ave., 71, Almaty
References
- Bauman, Z. (2019). Retrotopia. Silaeva, V. L. (transl.), Oberemko, O. A. (ed.). Moscow. 160 p. (Series “CrossRoads”). (In Russ.)
- Bezertinov, R. N. (2004). Tengrianism – the Religion of the Turks and Mongols. Popular Science Edition. 2nd ed., suppl. Kazan. 448 p. (In Russ.)
- Hegel, G. W. F. (1974). Encyclopedia of Philosophical Sciences. Vol. 1. Science of Logic. 452 p. Moscow. (In Russ.)
- Zherebilo, T. V. (2011). Terms and Concepts of Linguistics. General Linguistics. Sociolinguistics. Dictionary-Reference. Nazran. 280 p. (In Russ.)
- Korotin, V. O. (2014). Models of National Identity in Modern Society. Bulletin of the Volga Region Academy of Public Administration. No. 4(43). Pp. 128-133. (In Russ.)
- Lotman, Yu. M. (1992). Selected Articles. In 3 vols. Vol. I. Articles on Semiotics and Topology of Culture. Tallinn. 479 p. (In Russ.)
- Senyushkina, T. A. (ed.). (2022). National Identity and Collective Memory: Between the Past and the Future. Collective monograph. Simferopol. 320 p. (In Russ.)
- Nakhusheva, M. S. (2006). Cultural Dynamics of the Ethnos. New Technologies. No. 1. Pp. 49 52. (In Russ.)
- Ricoeur, P. (2008). Oneself as Another (Soi-même comme un autre). Moscow. 416 p. (In Russ.)
- Stefanenko, T. G. (1999). Social Psychology of Ethnic Identity. Doctor’s thesis. Moscow. 529 p. (In Russ.)
- Фадлун, Э. (1991). Образ волка, отображенный в фольклоре и декоративно-прикладном искусстве тюркских народов мира. Türk Duniyasy. № 1. С. 178-190 (In Russ.).
- Fadlun, E. (1991). The Image of the Wolf, Reflected in the Folklore and Decorative and Applied Arts of the Turkic Peoples of the World. Türk Duniyasy. No. 1. Pp. 178-190. (In Turkish)
Supplementary files