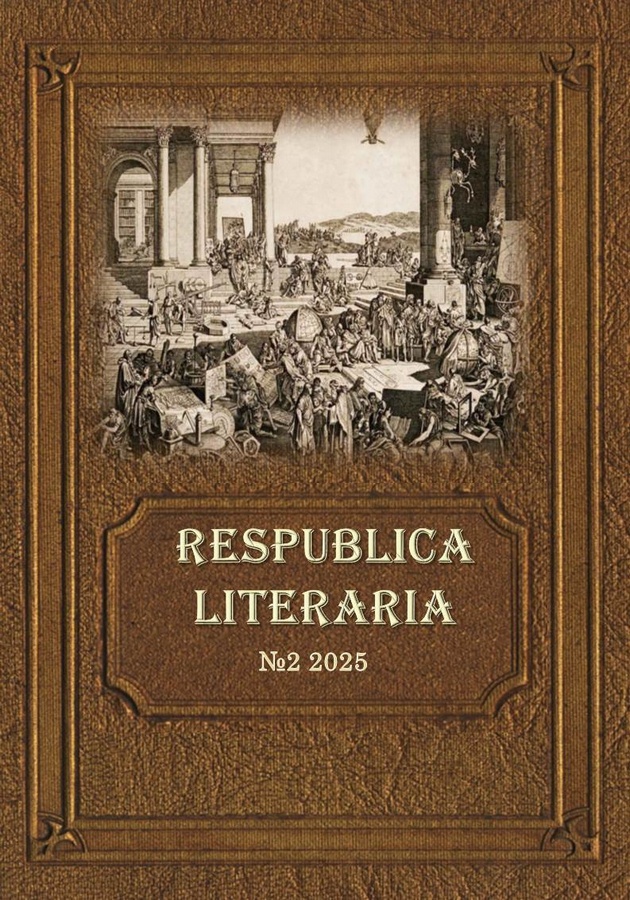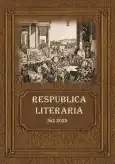В. П. Горан о различии учений Парменида и Зенона Элейского
- Авторы: Берестов И.В.1
-
Учреждения:
- Институт философии и права СО РАН
- Выпуск: Том 6, № 2 (2025)
- Страницы: 7-31
- Раздел: К 85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ В. П. ГОРАНА
- URL: https://journal-vniispk.ru/2713-3125/article/view/305634
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2025.6.2.7-31
- ID: 305634
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В. П. Горан принимает следующий тезис: Парменид и Зенон признавали положение «сущее есть единое», давая термину «сущее» в нем различную интерпретацию. Я показываю, что этот тезис совместим с интерпретацией Парменида, свободной от спорного провозглашения ложными предложений вида «a не есть b» (последняя интерпретация подробно разработана А. Мурелатосом). Также я демонстрирую, что этот тезис имеет преимущества перед интерпретациями N. B. Booth, F. Solmsen, в соответствии с которыми Зенон противостоял Пармениду, доказывая, что такого объекта, как «единое сущее», не существует, поскольку сущее есть нечто протяженное.
Полный текст
1. Введение
Настоящую статью я с благодарностью посвящаю Василию Павловичу Горану, 85-летие которого отмечалось 14 апреля 2025 г. Василий Павлович внес неоценимый вклад в мое философское образование, он был моим бессменным научным руководителем во время моего обучения на философском факультете НГУ и позднее, при подготовке двух диссертаций. Сердечно поздравляю Василия Павловича с 85-летием, желаю здоровья, творческого вдохновения и радости от новых историко-философских исследований!
Ниже я намерен очертить тот вклад, который Василий Павлович Горан внес в исследование учений Парменида и Зенона Элейского, и показать место его подхода в современных историко-философских дискуссиях, посвященных аргументации элеатов. Как я намерен показать ниже, В. П. Горан полагает, что значением термина «сущее» в рассуждениях Парменида является мир в целом (в этом В. П. Горан следует Т. Робинсону), тогда как значением термина «сущее» в рассуждениях Зенона Элейского является произвольный протяженный объект, не являющийся миром в целом. При этом оба элейских философа полагали истинным предложение «сущее есть единое». Таким образом, В. П. Горан принимает следующий тезис: Парменид и Зенон признавали положение «сущее есть единое», давая термину «сущее» в нем различную интерпретацию. Я намерен показать, что этот тезис совместим с интерпретацией Парменида, свободной от спорного провозглашения ложными предложений вида «a не есть b» (последняя интерпретация подробно разработана А. Мурелатосом); также эта интерпретация Парменида свободна от той несогласованности, которая присутствует в интерпретации П. Кёрд.
Также я собираюсь продемонстрировать, что этот тезис имеет преимущества перед интерпретациями N. B. Booth, F. Solmsen, в соответствии с которыми Зенон противостоял Пармениду, доказывая, что такого объекта, как «единое сущее», не существует, поскольку сущее есть нечто протяженное. Далее я намерен показать, что приведенный выше тезис В. П. Горана имеет преимущества перед попыткой различить учения Парменида и Зенона, приписывая Зенону – но не Пармениду – использование доказательств a contrario, поскольку рассуждения Парменида также могут быть представлены в виде доказательства a contrario.
В заключении статьи я указываю, что подход В. П. Горана, анализирующий различную семантику предложения «сущее есть единое», предполагаемую Парменидом и Зеноном, весьма актуален, поскольку находится в русле одного из «поворотов», которые испытала философия XX в., а именно «семантического поворота».
2. В. П. Горан о различной трактовке термина «сущее»
у Парменида и Зенона Элейского
В. П. Горан в [Горан, 2014a] высказал свою позицию о соотношении учений Парменида и Зенона Элейского. В. П. Горан обсуждает свидетельство об учении Зенона 29 А 12 DK1 = Parm. 128b2. Здесь Зенон (персонаж диалога «Парменид» Платона) говорит, что целью его юношеского сочинения являлась защита положения Парменида «всё есть одно» от его критиков, и Зенон защищал это положение, указывая, что признаваемое этими критиками положение
«“всё есть многое”, если разобраться в нем досконально, приводит к еще более смешным следствиям, нежели постулат “[всё] есть одно” …» [Цит. по: Лебедев, 1989].
Чтобы был ясен контекст дальнейших рассуждений, приведу текст платоновского «Парменида», касающийся отношения сочинения молодого Зенона к учению его учителя Парменида, целиком – Zen. R2 LM3 (>29 А 12 DK) = Plat. Parm. 127e–128e:
«[Сократ:] Не состоит ли цель (ὃ βούλονταί) твоих аргументов ни в чем ином, как в том, чтобы бороться против всего, что [обычно] говорится – чтобы [в результате установить], что многого не существует (οὐ πολλά ἐστι)? И ты думаешь, что каждый из твоих аргументов (τῶν λόγων) является доводом (τεκμήριον) в пользу этого, так что ты думаешь, что ты предоставил столько же доводов, сколько ты написал аргументов (λόγους), что многое (πολλά) не существует? [128a] Это ты имеешь в виду, или я неправильно понял?
[Зенон:] Вовсе нет, ты хорошо понял цель всего сочинения.
[Сократ:] Я понимаю, Парменид, что Зенон здесь желает быть ближе к тебе не только своей дружбой, но также и своими сочинениями. Потому что в определенном смысле он написал то же самое, что и ты; но, внося изменения, он пытается обмануть нас, заставляя поверить, что он говорит что-то другое. Ибо в твоей поэме ты говоришь, что всё (τὸ πᾶν) [b] есть единое (ἓν), и для этого ты приводишь превосходные и прекрасные доводы. Он же, наоборот, говорит, что многое не существует, и тоже приводит очень много очень длинных доводов. Но то, что один говорит «единое (ἓν)», а другой – «не многое (μὴ πολλά)», и что каждый говорит таким образом, что оба, как кажется, никоим образом не говорят об одном и том же, в то время как [в действительности] оба говорят почти (σχεδόν) одно и то же – кажется, что это не поддается пониманию остальных из нас.
[Зенон:] Да, но ты все же не совсем уяснил истинный смысл моего сочинения. [c] Ты, конечно, подобно лаконским щенкам, хорошо выискиваешь и берешь след сказанного мною. Но, прежде всего, от тебя ускользнуло, что мое сочинение вовсе не бахвалится тем, что оно было написано с целью, которую ты описываешь, и скрывает от людей это великое свершение. Нет, ты указал здесь на побочное обстоятельство (τῶν σνμβεβηκότων τι), но на самом деле мое сочинение представляет собой защиту (βοήθειά) аргумента (λόγῳ) Парменида от тех, кто пытается [d] осмеять его на том основании, что, мол, если «единое есть» (ἕν ἐστι), то оно – на основании [их] аргумента (τῷ λόγῳ) – должно влечь много смешных и противоположных себе самому вещей. Таким образом, мое сочинение возражает тем, кто утверждает множественность, и оно с лихвой воздает им за их насмешки, поскольку намеревается показать, что их гипотеза (ἡ ὑπόθεσις), что многое есть (εἰ πολλά ἐστιν), влечет еще более смешные следствия, чем гипотеза «единое есть», если кто-то разберет этот вопрос достаточно. Оно было написано мною из своего рода желания всегда побеждать (φιλονικίαν), когда я был молод; и кто-то украл его, когда оно было написано, так что мне не пришлось решать [e] о том, следует ли выпускать его в свет. Таким образом, от тебя, Сократ, ускользнуло, что сочинение было написано из-за юношеского желания всегда побеждать (φιλονικίας), а не из-за амбиций (φιλοτιμίας) взрослого человека. И все же, как я уже сказал, ты неплохо рассмотрел его».
В. П. Горан отмечает, что следствия положения Парменида «всё есть одно»
«… приобретают “смешной” характер только тогда, когда “всё”, относительно которого утверждается, что оно «есть одно», понимается отнюдь не единственно в том смысле, который, согласно моей оценке [см.: Горан, 2014б, с. 128-132], придавал ему сам Парменид. А именно, настаивая на единстве мироздания, Парменид имел в виду это последнее, взятое всего лишь в его целостности и при полном отвлечении от того, что, будучи такой целостностью, оно, вместе с тем, и внутренне структурировано, т. е. представляет собой и множество отличающихся друг от друга его частей. А согласно приведенному пассажу Платона, Зенон под “всё” понимает мироздание, взятое не только в аспекте исключительно его целостности, но и внутреннее его наполнение. Причем предметом своего внимания он делает это его наполнение едва ли не прежде всего. В этом и состоит главное отступление Зенона от позиции его учителя Парменида» [Горан, 2014a, с. 101].
Как разъясняет В. П. Горан далее, Зенон
«… взялся защитить учение своего учителя от нападок со стороны тех, кто, как сообщает … Платон, противопоставлял выводу Парменида о единстве мироздания указания на эмпирически очевидные факты множественности объектов и событий, составляющих это мироздание. Тем самым эти критики Парменида исказили его позицию, проигнорировав только что мной отмеченную ее суть либо сознательно, либо по причине ее непонимания. Ведь и непосредственный ученик и последователь Парменида Зенон тоже эту ее суть фактически проигнорировал, возражая критикам Парменида» [Горан, 2014a, с. 101].
И далее:
«… вывод Парменида о том, что мироздание, рассматриваемое исключительно в плане его целостности, характеризуется единством, “есть одно” и не должно характеризоваться как множественное, т. е. как множество отдельно существующих мирозданий, этот вывод Зенон перенес на мироздание, рассматриваемое им уже не только в плане его целостности и не как бы извне, а, напротив, также и в плане его внутреннего наполнения и устройства, оценивая при этом и возможность признания его внутренней структурированности. Сам Парменид различал эти подходы в такой степени, что каждому из них посвятил отдельную часть своей поэмы» [Горан, 2014a, с. 101].
На основании приведенных цитат мы можем сказать, что, по В. П. Горану, Парменид отстаивал тезис «всё есть единое» (где «всё» означает тотальность всех реально существующих вещей, и именно на эту тотальность для Парменида указывает термин «сущее»). Напротив, Зенон, по В. П. Горану, утверждал тезис «сущее есть единое» (где «сущее» указывает на произвольное реальное сущее, не являющееся тотальностью всех реально существующих вещей). Таким образом, положения, отражающие, по В. П. Горану, позиции Парменида и Зенона, соответственно, можно сформулировать следующим образом:
(1Г) Парменид отстаивал тезис «сущее есть единое» и понимал под «сущим» в этом тезисе тотальность всех реально существующих вещей.
(2Г) Зенон отстаивал тезис «сущее есть единое» и понимал под «сущим» в этом тезисе произвольное реальное сущее, не являющееся этой тотальностью.
3. Обоснование Парменидом тезиса «сущее есть единое» по Т. Робинсону и по П. Кёрд
Подход В. П. Горана к Пармениду сходен с подходами многих историков философии, например, с подходом Т. Робинсона, в соответствии с которым Парменид, рассуждая о «сущем», в действительности рассуждал о тотальности всего сущего (или «сущем в его тотальности»), доказывая, что, помимо этой тотальности, других тотальностей всего сущего нет, а также что эта тотальность лишена недостатка в чем-либо, не содержит не-сущего, не движется, о ней нельзя сказать, что она «не есть» что-либо, и проч. [Робинсон, 1997, с. 56‑58]. Вопроса о «внутренних различиях», т. е. о различиях между конституентами этой тотальности, Парменид, по Т. Робинсону, не касался [Робинсон, 1997, с. 61]. Замечу, что задолго до Т. Робинсона уже Ф. Корнфорд трактовал «сущее» в поэме Парменида как все, что содержится в мире [Cornford, 1939]. Недостатком трактовки парменидовского «сущего» Т. Робинсоном является то, что внятные свидетельства в пользу такой трактовки отсутствуют в поэме Парменида, а также то, что никакого следа рассуждения, в котором тезис «сущее есть единое» доказывается предлагаемым Т. Робинсоном способом у ближайших последователей Парменида обнаружить не удается, и в дальнейшей истории философии такое рассуждение не играет никакой роли, не являясь философски интересным, помимо прочего, из-за того, что убедительных оснований для несуществования положений дел, описываемых предложениями вида « не есть », так и не было приведено.
Напротив, с точки зрения П. Кёрд [Curd, 2004, pp. xxi–xxiii, 94–97], Парменид отвергал лишь «внутренние различия», понимаемые у нее как различия внутри одного сущего, а отсутствие «внешних различий», которые у нее можно трактовать как различия между «обычными» сущими или конституентами тотальности всего сущего, Парменид признавать отказывался. Рассмотрим интерпретацию Парменида у П. Кёрд подробнее.
П. Кёрд утверждает, что подлинные сущие у Парменида постигаются одним и только одним познающим актом, посредством которого постигается природа сущих или их (одна‑единственная) видовая характеристика [Curd, 2004, p. 72]. Признак (знак) сущего “οὖλον μουνογενές” (28 B 8.4 DK) П. Кёрд трактует как «некоторое целое одного-единственного вида (a whole of a single kind)» [Curd, 2004, p. 68].
В интерпретации П. Кёрд, Парменид утверждает, что каждое сущее может описываться с помощью одного и только одного предиката, характеризующего его природу, и в то же время утверждает, что сущие, помимо этого, связаны также и отношением различия, что позволяет Пармениду и его последователям по предикационному монизму (ими П. Кёрд считает Анаксагора, Эмпедокла, Левкиппа, Демокрита) не отказываться от множественности сущих в мире [Curd, 2004, p. xx]4. П. Кёрд отвергает приемлемость для Парменида высказываний вида «a≠b» и «a не есть b». С точки зрения П. Кёрд, такие высказывания неприемлемы, поскольку высказывания «a не есть b» и «a есть не-b» не в состоянии ухватить подлинную природу или сущность вещи, ухватываемую только утвердительными высказываниями. Отрицательное же высказывание
«…погружено в неопределенность, которая не дает [мыслящему субъекту] ничего, к чему он мог бы прикрепить мысль, и, таким образом, noos [т. е. ум субъекта. – И. Б.] остается блуждающим» [Curd, 2004, p. 61].
Эта интерпретация неприемлемости для Парменида высказываний вида «a не есть b» и «a есть не-b» П. Кёрд возводит к А. Мурелатосу [Curd, 2004, p. 50; Mourelatos, 2008a, pp. 78‑80; Mourelatos, 2008b, pp. 326-330; Mourelatos, 2008c, pp. 342-348; Mourelatos, 2008d, pp. 358-361]. В соответствии с интерпретацией А. Мурелатоса, предложения вида « не есть » не могут быть помыслены тем совершенным или правильным мышлением, использовать которое в поэме Парменида богиня призывает Куроса.
Провести хоть сколько-нибудь убедительное обоснование этой неприемлемости кажется довольно трудным. Но, на каком бы основании ни отвергались высказывания вида «a≠b» и «a не есть b», получается, что высказывания о различии сущих (= приписывание нескольким сущим «внешних различий») так же незаконны, как и высказывания о наличии у одного сущего различных свойств (= приписывание одному сущему «внутренних различий», терминология П. Кёрд). Однако П. Кёрд утверждает, что Парменид отвергает лишь внутренние различия и не имеет ничего против высказываний о внешне различных сущих. П. Кёрд признает, что здесь имеется противоречие, которого, с ее точки зрения, Парменид (и его последователи по предикационному монизму: Анаксагор, Эмпедокл, Левкипп, Демокрит) не разглядел. По П. Кёрд, это противоречие было осознано лишь во времена Платона и Аристотеля, когда стали явно выделяться различные смыслы глагола «быть», а также были разведены акцидентальная и сущностная предикации [Curd, 2004, pp. xxi–xxiii, 94-97].
Таким образом, с точки зрения В. П. Горана, предметом поэмы Парменида является все сущее (тотальность всего сущего), тогда как, с точки зрения П. Кёрд, предметом поэмы Парменида является произвольное сущее, не являющееся совокупностью всего существующего. Здесь сущие, составляющие совокупность всего сущего, и сама эта совокупность считаются реальными (т. е. нементальными) объектами. Видно, что трактовки рассуждения Парменида В. П. Гораном и П. Кёрд делают это рассуждение Парменида относящимся не ко всем сущим заданного типа (т. е. к реальным сущим), но лишь к некоторым – к тотальности всех сущих и к сущим из этой тотальности, соответственно. Но в обеих трактовках рассуждения Парменида имеется изъян: убедительные основания для несуществования положений дел, описываемых предложениями вида « не есть », не были приведены ни в поэме Парменида, ни последующими философами.
4. Моя интерпретация обоснования тезиса «сущее есть единое» в поэме Парменида
Замечу, что я разрабатывал подход, в соответствии с которым «сущее» в поэме Парменида указывает на произвольный объект, конструируемый актом мышления, и рассуждения Парменида тогда относятся к любому объекту указанного типа (т. е. к любому внутреннему объекту мышления).
Эта интерпретация Парменида отличается и от интерпретации Т. Робинсона, и от интерпретации П. Кёрд. В отличие от обоих этих авторов, мы не трактуем парменидовское сущее как реальный объект. Для нас оно – ментальный объект, внутренний объект (акта) мышления (ВОМ), и неразличимость конституент такого объекта доказывается Парменидом. В предлагаемой мною трактовке Парменида нет запрета на тождество и различие ВОМ разных актов мышления, но, в отличие от трактовки П. Кёрд, это не делает нашу трактовку Парменида противоречивой. Действительно, в предлагаемой мною трактовке рассуждения Парменида доказывается, что для внутренних объектов одного и того же акта мышления (а также для конституент этих объектов) не выполняется определенный критерий для их различия, и речи о том, в каких отношениях эти объекты находятся с объектами других актов мышления, не идет вообще. Тогда как в трактовке П. Кёрд из запрета на предложения вида « не есть » можно вывести не только невозможность выразить различия между характеристиками одного сущего, но и невозможность выразить различия между какими-либо двумя сущими, хотя, по П. Кёрд, для Парменида различия между двумя сущими возможны. Впрочем, возможна трактовка Парменида, в которой ВОМ различных актов мышления могут быть только различными, если трактовать 28 В 3 DK Парменида: «… ведь мыслить и быть – одно и то же (… τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν τε καὶ εἶναι)» как утверждение строгого тождества акта мышления и того ВОМ, на который этот акт направлен.
Ниже я кратко опишу предлагаемую мною интерпретацию обоснования в поэме Парменида наличия у сущего (т. е., в моей интерпретации, у внутреннего объекта произвольного акта мышления) такого признака (знака), как «единое», или обоснование тезиса «сущее есть единое». Подробно эта интерпретация опубликована в статьях: [Берестов, 2011a; 2014a; 2015a; 2015b; 2015c; 2016].
В качестве обоснования того, что «сущее (τὸ ἐὸν)» у Парменида есть ВОМ, я использую трактовку строк поэмы 28 B 4.1-2 DK Дж. Баррингтоном из [Barrington, 1973]:
λεῦσσε δ’ ὅμως ἀπεόντα νόῳ παρέοντα βεβαίως
οὐ γὰρ ἀποτμήξει τὸ ἐὸν ἐόντος ἔχεσθαι …
Созерцай же умом, что отсутствующие суть, тем не менее, непоколебимо присутствующие [субсистирующие сущие].
Ведь [отсутствующие] не отсекут сущее от того, чтобы оставаться [субсистирующим] сущим …
По [Barrington, 1973, pp. 287-298], Парменид здесь разрешал мыслить то, что «субсистирует» или находится в области ментального, но не разрешал мыслить то, что «экзистирует» или находится в области чувственно-воспринимаемого, или «реального»: отсутствующие в области чувственно-воспринимаемого сущие, тем не менее непоколебимо присутствуют как созерцаемые умом, т. е. присутствуют как внутренний объект мышления.
Как поддерживающий трактовку «сущего» у Парменида в виде ВОМ может быть истолкован и фрагмент 28 B 6.1-2 DK:
χρὴ τὸ λέγειν τε νοεῖν τ’ ἐὸν ἔμμεναι· ἔστι γὰρ εἶναι μηδὲν δ’ οὐκ ἔστιν.
То, о чем можно говорить и мыслить, должнó существовать; ибо оно может существовать, тогда как ничто – не может5.
Также как свидетельство в пользу того, что «сущее» в поэме Парменида указывает на ВОМ, можно истолковать 28 B 8.34 DK:
ταὐτὸν δ’ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεκεν ἔστι νόημα·
Ведь то же самое, поэтому, есть мыслить [о чем-то] и ‘то, благодаря чему’ (οὕνεκεν) есть ‘то, что мыслится’.
Здесь ‘то, что мыслится’ (нóэма) существует благодаря акту мышления, а значит, является ВОМ.
Теперь перейду к моей интерпретации доказательства Парменидом единства сущего. Посылками рассуждения Парменида являются следующие два положения (1Б) и (2Б).
(1Б) Все конституенты6 внутреннего объекта мышления могут мыслиться каждым мыслящим их актом мышления только все вместе.
Одним из оснований для (1Б) в тексте поэмы Парменида является 28 В 8.11 DK:
ἢ πάμπαν πελέναι χρεών ἐστιν ἢ οὐχί.
либо [сущему] дóлжно быть либо полностью, либо никак.
Положение (1Б) можно назвать Холистическим допущением для внутреннего объекта мышления.
(2Б) Любые две конституенты внутреннего объекта мышления тождественны друг другу, если и только если они могут мыслиться каждым мыслящим их актом мышления лишь все вместе.
Некоторые намеки на то, что Парменид мог бы иметь в виду нечто до известной степени похожее на (2Б), можно обнаружить в обсуждении Пути мнения из 28 B 8.51-61 DK в современных историко-философских исследованиях. С точки зрения А. Мурелатоса и П. Кёрд, противоположности Огонь и Ночь не могут быть поименованы отдельно друг от друга. Об этом свидетельствует высказывание Парменида в 28 B 8.54 DK:
τῶν μίαν οὐ χρεών ἐστιν [ὀνομάζειν].
ни одну из каковых [противоположностей; sc. Огонь и Ночь] не дóлжно [именовать][7].
Предполагаемым интерпретаторами основанием для этого является то, что противоположности определяются (а значит, и мыслятся) только друг через друга. Таким образом, каждая из противоположностей не мыслится «сама по себе», не является подлинным, полностью определенным объектом, могущим быть постигнутым независимо. В этом смысле взаимоопределяемые объекты не являются подлинными или подлинно мыслящимися объектами[8].
Положение (2Б) можно назвать Критерием тождества конституент внутреннего объекта мышления.
Из (1Б) & (2Б) выводится доказываемое Парменидом положение (3Б):
(3Б) Любые две конституенты внутреннего объекта мышления тождественны друг другу.
В силу (3Б), можно сказать, что сущее едино, – в том смысле, что ВОМ един как не содержащий множественности, поскольку каждая из его конституент совпадает с ним самим. Иначе говоря, можно сказать, что в (3Б) провозглашается единство (как тождественность друг другу конституент) сущего (как внутреннего объекта мышления). Вывод из посылок (1Б) и (2Б) заключения (3Б) – или парменидовскую аргументацию в пользу тезиса «сущее есть единое» – я называю Первой линией аргументации против множественности сущего (ПЛ).
Одним из свидетельств в пользу признания Парменидом (3Б) является 28 В 8.22 DK:
οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν …
[сущее] неделимо / неразличимо …
5. Обоснование тезиса «сущее есть единое» у Зенона
Аргументацию Зенона Элейского в пользу тезиса «сущее есть единое» я называю Второй линией аргументации против множественности сущего (ВЛ). ВЛ значительно отличается от ПЛ, используемой Парменидом. В ВЛ в ее исходной версии у Зенона Элейского речь идет о том, что если мы допускаем существование целого объекта с некоторым числом конституент, то возникает бесконечный регресс конституент целого, такой, что части целого оказываются не способными образовывать нечто одно, некое единое целое. ВЛ исходит из допущения, что множественное сущее является чем-то одним, хотя и множественным. Это трактуется как признание того, что все конституенты целого связаны друг с другом некоторой связью. Таким образом, все изначально признаваемые элементы или части множественного сущего связаны друг с другом некоторой связью, которая также, как и исходные элементы, является одной из конституент целого, хотя, возможно, и другого типа, чем исходные части. Эти элементы и эта связь, в свою очередь, связаны друг с другом еще одной связью. Элементы, первая связь и вторая связь связаны друг с другом третьей связью, и т. д. до бесконечности[9]. Таким образом, исходная версия ВЛ у Зенона использует аргумент от бесконечного регресса[10]. Также можно показать, что это доказательство через регресс можно сформулировать как гораздо более строгий и мощный аргумент, не содержащий явно неприемлемые или легко отбрасываемые посылки, в котором доказывается, что целое, содержащее все свои конституенты, не может существовать, при том, что кажется невозможным говорить о чем-нибудь как о чем-то едином или целом, о некотором сложном объекте, если оно не содержит все свои конституенты; в этом случае аргумент от бесконечного регресса не используется [подробнее об этой версии ВЛ см. в: Берестов, 2020].
Представленное описание ВЛ показывает, что во всех ее вариантах используется следующее ключевое положение:
(NN) Если вещи a, b, …, являющиеся конституентами одного целого[11], связаны[12] друг с другом связью N1[13], являющейся одной из конституент этого целого, то имеется связь N2, также являющаяся одной из конституент этого целого, такая, что все эти вещи a, b, … и связь N1 связываются друг с другом связью N2, причем N2 является одной из конституент этого целого, N2≠a, N2≠b, …, N2≠N1.
Положение (NN), как я полагаю, содержится во фрагменте Зенона Zen. D6 LM:
«Но если оно [т. е. сущее] существует, то необходимо, чтобы каждое [sc. сущее] обладало некоторой величиной и толщиной, и чтобы одна [часть] его [т. е. каждого рассматриваемого сущего] отличалась от [или: отстояла от – ἀπέχειν] другой [, содержась в ней]. И тот же аргумент (λόγος) применим к этой последней [т. е. к той части, которая содержится в первой] (τοῦ προύχοντος). Ибо оно тоже будет обладать величиной, и одна его часть будет больше (προέξει). Но одно и то же – сказать это один раз или повторять постоянно. Ибо ни одна [часть] такого [сущего] не будет последней, и не будет такой его [части], которая не следовала бы после другой. Таким образом, если существуют многие [сущие] (πολλά), то необходимо, чтобы они были и малы, и велики: настолько малы, что не имеют величины, и настолько велики, что они бесконечны».
Используя (NN), Зенон показывает, что допущение о существовании сложного сущего (т. е. сущего, содержащего множество конституент) приводит к бесконечному регрессу, что неприемлемо. Действительно, регресс является порочным, поскольку он приводит не просто к бесконечному числу связей в сложном объекте (такой регресс можно было бы надеяться объявить безвредным), но также и к невозможности существования совокупности любого вида, содержащей все связи. Если такой совокупности не существует, то нельзя сказать, что объект есть нечто одно (некоторая совокупность), содержащее все свои конституенты (среди которых имеются связи между некоторыми конституентами), а это положение кажется приемлемым. Следовательно, сложное сущее существовать не может. Таким образом, получаем доказываемый тезис «сущее есть единое», Q.E.D.
Замечу, что фрагмент Zen. D6 LM обычно интерпретируется иначе, чем приведенное доказательство, что неудивительно, поскольку последнее предложение «Таким образом … они бесконечны» выглядит для приведенного доказательства излишним. Обычно предполагается, что Зенон подразумевает теорию меры, в соответствии с которой мера отрезка, состоящего из несчетно бесконечного числа точек, должна быть нулевой. Таким образом, если в результате последовательной дихотомии отрезка, его частей и т. д. мы получим точки (т. е. поделим отрезок на несчетно бесконечное число частей), то мера всего отрезка будет «не иметь величины», т. е. будет нулевой. Также предполагается, что отрезок, поделенный на счетно бесконечное число частей, если его мера не равна 0, будет равна произведению этой ненулевой длины на бесконечное число частей, что, по Зенону, равно бесконечности, т. е. имеющий изначально конечную меру отрезок окажется «бесконечным», т. е. имеющим бесконечную меру. Каждое из этих предположений Зенона может быть отброшено, так что аргумент Зенона в этой интерпретации оказывается недействительным. Ту же интерпретацию аргумента Зенона, которую я представил выше, так просто опровергнуть не удастся14.
6. Положения (1Г) и (2Г) vs. современные исследования Зенона
Итак, выше мы указали на то место, которое занимает среди историко-философских интерпретаций первый тезис В. П. Горана (1Г) – тезис о том, что под «сущим» Парменид в своем тезисе «сущее есть единое» понимал тотальность всех реально существующих вещей. Второй же тезис В. П. Горана (2Г) заключается в том, что Зенон Элейский, хотя и отстаивает тот же тезис «сущее есть единое», понимает под «сущим» в нем произвольное реальное сущее, не являющееся этой тотальностью. Ослабление (1Г) & (2Г) можно записать в следующем виде (ослабление первого и второго тезисов В. П. Горана):
(ОГ) Парменид и Зенон отстаивают тезис «сущее есть единое», но придают значению термина «сущее» в этом тезисе различные значения.
Положение (ОГ) я полагаю вполне приемлемым. С моей точки зрения, при обосновании единства сущего Парменид понимает сущее как внутренний объект некоторого акта мышления. Такие сущие, являются: (1) интенциональными объектами актов мышления; (2) приписываемые таким сущим актами мышления характеристики описываются с помощью пропозициональных установок; (3) такие сущие тождественны друг другу если и только если приписываемые им этими актами мышления характеристики совпадают.
С другой стороны, Зенон не настаивает на том, что рассматриваемые в его обосновании тезиса «сущее есть единое» сущие являются внутренними объектами мышления, а значит, не настаивает на том, что они удовлетворяют условиям (1), (2) и (3). Рассуждение Зенона действительно как для сущих, являющихся внутренними объектами мышления в указанном выше смысле, так и для сущих других типов. Таким образом, в моей интерпретации, для Зенона «сущее» в тезисе «сущее есть единое» указывает на внутренний объект мышления, а для Зенона – как на внутренний объект мышления, так и на реальное (не являющееся ментальным: мыслящимся, чувственно воспринимаемым и пр.) сущее. Видно, что используемое этими двумя элеатами «сущее» имеет у них различное содержание, и, можно сказать, принадлежит разным типам. Помимо прочего, это выражается в том, что объем понятия «сущее», с которым имеет дело Зенон, шире объема понятия «сущее», с которым имеет дело Парменид. Следовательно, в моей интерпретации Парменида и Зенона (ОГ) истинно. Следовательно, нельзя сказать, что Зенон защищает ту же пропозицию, что и Парменид, – в силу того, что они придают термину «сущее» в признаваемом ими обоими предложении «сущее есть единое» разные значения, – что соответствует выводу В. П. Горана в приведенных выше цитатах, а также в других его статьях [Горан, 2015; Горан, 2016].
Этот вывод противостоит выводам большинства современных исследователей Зенона, которые (основываясь на свидетельстве Платона из Парменида Zen. R2 LM = 29 A 12 DK, т. е. на том же тексте из диалога Платона «Парменид», на который ссылается и В. П. Горан, см. выше) трактуют Зенона как аргументирующего в пользу того же по содержанию тезиса «сущее есть единое», который отстаивал Парменид, используя доказательство a contrario [см., например: Barnes,1982, p. 236; Vlastos, 1975; Комарова, 1988, с. 5-7].
Однако имеются и альтернативные точки зрения, авторы которых, основываясь на Zen. R10 a, b LM, полагают, что Зенон выдвигал аргументы также и против тезиса Парменида «сущее есть единое» [Booth, 1957; Solmsen, 1971]. Также Зенона можно трактовать как выводящего в Zen. D9 a* LM15 = 2 Lee16 из «подобия» («однородности», «гомогенности») сущего17 его делимость, и, следовательно, множественность, что Парменидом отрицается. Приведу обсуждаемый текст из Zen. D9 a* LM = 2 Lee:
«Если оно делимо, – говорит он, – разделим его надвое, а затем каждую из двух частей – [опять] надвое, и если повторять это [дихотомическое деление] постоянно, то либо останутся некие предельные величины, наименьшие и неделимые (ἄτομα), а числом бесконечные, так что универсум окажется состоящим из наименьших, числом бесконечных [величин], либо [сущее] бесследно исчезнет, и разложится в ничто, и окажется состоящим из ничего, однако и то и другое абсурдно. Следовательно, [сущее] не делится, но пребывает одно. К тому же если оно делимо, то, поскольку оно всюду подобно (ἐπεὶ πάντῃ ὁμοιόν ἐστιν), оно будет одинаково делимо везде, а не то что: вот тут делимо, а вот там нет. В таком случае, допустим, что оно разделилось везде [=в каждой точке]. Ясно опять, что не останется ничего, но [сущее] исчезнет бесследно, и если и будет состоять [из неких частей], то опять будет состоять из ничего. Ибо если нечто останется, то оно уже не будет «разделившимся везде». Так что и из этого тоже ясно, говорит он, что сущее неделимо, лишено частей и одно».
Скорее всего, видимость спора Зенона с Парменидом возникает из-за того, что Парменид и Зенон наделяли термин «ὁμοῖον» разными значениями. Для Парменида применение термина «ὁμοῖον» к сущему означает, что у сущего нет частей, характеристик и пр., таких, что о них и о самом сущем можно было бы сказать, что одно не есть другое (т. е. одно отлично от другого). Для Зенона же применение термина «ὁμοῖον» к сущему означает, что сущее однородно в смысле гомеомерий Анаксагора, т. е. каждая часть сущего наследует характеристики целого. Помимо прочего, это означает: если сущее делимо, то и любая его часть делима. Таким образом, применение термина «ὁμοῖον» к сущему имплицирует для Зенона бесконечную делимость сущего (но не имплицирует этого для Парменида).
Также трактовку термина «ὁμοῖον» можно обнаружить и в другом фрагменте Зенона. По С. Макину [Makin, 1982, p. 234], термин «ὁμοῖον» («подобное», «однородное», «гомогенное») применительно к сущему трактуется Зеноном в D9 a*= 2 Lee (который говорит о сущем как о «всюду подобном» (ἐπεὶ πάντῃ ὁμοιόν ἐστιν) – см. Симпликий, Комментарий на Физику Аристотеля, 140.1), как означающий делимость сущего до бесконечности, что, по Зенону, ведет к нелепости.
Итак, видимость спора возникает из-за того, что Парменид и Зенон использовали термин «ὁμοῖον» («подобное», «однородное», «гомогенное») в разных значениях: для Парменида сущее «подобно» в том смысле, что одно сущее не может отличаться от другого, для Зенона же – в том смысле, что сущее является протяженным и делимо до бесконечности, из чего Зенон пытается вывести, что такое «подобное» сущее (в зеноновском смысле) не может существовать и не может быть «единым». Поэтому нельзя сказать, что Зенон выводит тезис «сущее не есть единое» из содержания парменидовского тезиса «сущее есть подобное», так что нельзя сказать, что Зенон спорит с содержанием тезиса Парменида «сущее есть единое».
Отдельного рассмотрения достоин фрагмент Zen. R10 b LM, где Симпликий цитирует Эвдема. Эвдем же приписывает Зенону следующий аргумент:
«если бы кто-то объяснил (ἀποδοίη) ему [sc. Зенону], чтó именно есть единое, то он [sc. Зенон] мог бы сказать [чтó именно суть множественные] сущие».
Далее в Zen. R10 b LM утверждается, что точка не принадлежит к сущим, поскольку при прибавлении к имеющему ненулевую величину телу точки, эта величина не изменится, и также при отнятии от такого тела точки его величина не изменится. Таким образом, здесь предполагается следующая посылка, ограничивающая область сущего:
(О) То, что не изменяет величину при его прибавлении и отнятии, не существует.
Теперь, если точка есть то единое и неделимое сущее, о котором говорил Парменид, то так понимаемого «единого», действительно, не существует, а значит, придерживаться тезиса «сущее есть единое» невозможно. Таким образом, получается опровержение той мысли, которую Парменид выражал в тезисе «сущее едино».
Это рассуждение спорно, во-первых, потому, что посылка (О) спорна. Эта посылка, как кажется, ограничивает область сущего так, что в нее входит только то, что имеет величину, и исключает объекты вроде платоновских идей, чисел и пр. Замечу, что об ограничении области сущего только тем, что имеет величину, говорится во многих фрагментах Зенона, например, во фрагменте Zen. D5 LM:
«Если бы сущее не имело величины (μέγεθος), то оно не существовало бы».
Разбирая вопрос несколько подробнее, замечу следующее. Вполне можно сказать, что добавление к какому-либо объекту, имеющему величину (не важно, одномерному, двумерному или трехмерному) числа, качества (свойства), платоновской идеи, какой-либо мысли и пр. просто не определено. И даже если операцию добавления определить некоторым способом, – например, принять, что в результате операции добавления получается упорядоченная пара из исходного объекта, имеющего величину, и добавляемого объекта указанного типа, – то получившаяся упорядоченная пара по определению упорядоченной пары не будет иметь величины.
Можно, конечно, операцию добавления определить и иначе. Например, можно считать, что исходный объект, имеющий величину, при добавлении объектов указанных типов является объектом, имеющим величину, который имеет ту же исходную величину, которую имел, но, в отличие от исходного объекта, прибавляемые объекты указанных типов присущи ему как его свойства. Таким образом, прибавляемые объекты указанных типов оказываются не-сущими, поскольку они либо не могут считаться изменяющими исходный объект из-за того, что операция добавления для них не определена, либо они не изменяют исходный объект, поскольку операция добавления определена соответствующим образом. Однако такой подход не отвечает на вопрос: почему обладание величиной необходимо для признания объекта существующим? Ответа на этот вопрос нет у Зенона, и положение (О) до сих пор остается спорным.
Итак, если настаивать на признании Зеноном посылки (О) из Zen. D5 LM, то его рассуждения оказываются весьма уязвимыми.
Напротив, положение (ОГ) не может быть отвергнуто столь же легко и выглядит гораздо более надежным, чем рассуждение из Zen. R10 b LM и вывод о невозможности единого сущего. Положение (ОГ) допускает гораздо более философски значимые интерпретации рассуждений Зенона и Парменида (например, те, которые я предложил выше), чем приписываемое Зенону в Zen. R10 b LM доказательство невозможности единого сущего. В этой связи замечу, что многие ведущие историки философии полагают философскую значимость интерпретаций анализируемых текстов неотъемлемой частью историко-философского исследования, см. например:
«… любая серьезная история философии сама по себе должна быть упражнением (exercise) как в истории, так и в философии» [Kenny, 2005, p. 20].
Если одним из направлений в истории философии является поиск наиболее доброжелательных и философски интересных интерпретаций текстов философов, то, поскольку (ОГ) совместимо с такими интерпретациями, для такого направления истории философии предпочтительнее признать (ОГ), чем представленное в Zen. R10 b LM доказательство невозможности единого сущего.
7. Монизм Парменида vs. монизм Зенона
Как было отмечено выше, Парменид и Зенон в предлагаемой мною интерпретации, утверждая тезис «сущее есть единое», говорят о сущем разных типов, т. е. придерживаются разных видов монизма. Это соответствует тенденциям в современных исследованиях Парменида, в соответствии с которыми вопрос о том, какого именно монизма придерживался Парменид, является весьма дискуссионным, что снижает вероятность того, что Зенон придерживался монизма того же самого вида. Дискуссия о том, какого именно монизма придерживался Парменид, – большой вклад в развитие которой внесли А. Мурелатос и П. Кёрд [Mourelatos, 2008a; Curd, 2004], – продолжается вплоть до последнего времени [Sisko, Weiss, 2015]. Здесь отстаивается взгляд на Парменида как на субстанциального или материального мониста, и опровергаются точки зрения: (a) М. Ферта, Г. Оуэна и многих других (нумерический монизм); (b) П. Кёрд (предикационный монизм); (c) Дж. Палмера (нумерический монизм в отношении необходимого сущего – существует только одно единичное необходимое сущее).
В проведенной выше моей интерпретации позиций Парменида и Зенона, Парменид полагался, так сказать, ноэтическим монистом – поскольку доказывается невозможность для сложного объекта быть помысленным. Рассуждения же Зенона я проинтерпретировал как доказывающие невозможность для сложного объекта произвольного типа, но такого, что все его конституенты связаны друг с другом, существовать. Это специфический вид монизма – его можно назвать нумерическим монизмом в отношении связного объекта произвольного типа.
8. Способы доказательства у Парменида и Зенона
Продолжая рассматривать обсуждаемый В. П. Гораном вопрос о различии учений Зенона и Парменида, в заключении кратко коснусь того способа, которым эти философы обосновывали положение о единстве сущего. Аргумент Парменида в моей трактовке является прямым доказательством, а Зенона – доказательством a contrario, использующим regressus ad infinitum. При этом я признаю, что имеется множество интерпретаций поэмы Парменида, – возможно, лучше подтверждаемых текстом поэмы, чем предлагаемая мною интерпретация, – в соответствии с которыми Парменид в своей поэме использует несколько доказательств a contrario, в том числе при обосновании тезиса о единстве или немножественности сущего. Обсуждение доказательств a contrario у Зенона Элейского и предшествующих древнегреческих философов в контексте использования противопоставления (или «полярности») как метода обоснования в ранней греческой философии – в отличие от такого метода обоснования, как «аналогия» [см. в монографии: Вольф, 2012, с. 72]. Там же указываются дискуссии о том, был ли именно Зенон изобретателем доказательств a contrario, а также апория Дихотомия Зенона Элейского связывается со способами рассуждения других раннегреческих философов.
Как кажется, доказательство a contrario можно довольно легко усмотреть у Парменида. Допустим, что сущее возникло. Тогда сущее «не есть» до того, как оно возникло. Но, по Пармениду, любое предложение вида «a не есть b» ложно. Следовательно, по modus tollens, сущее является невозникшим (ἔγεντ’) – см. 28 B 8.20 DK.
Также можно рассматривать обоснование тезиса «… ибо [сущее] есть сейчас всё вместе единое, непрерывное (ἐπεὶ νῦν ἐστιν ὁμοῦ πᾶν ἔν, συνεχές·)» в 28 B 8.5-6 DK как доказательство a contrario. Допустим, что сущее не является единым (в значении «непрерывное»). Тогда сущее «не есть» где-то – а именно, там, где оно прерывается. Но любое предложение вида «a не есть b» ложно. Следовательно, по modus tollens, неверно, что сущее не является единым (в значении «непрерывное»).
Приведенную выше строку поэмы Парменида 28 B 8.22 DK: «… и [сущее] неделимо, ибо всюду подобно (οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν, ἐπεὶ πᾶν ἔστιν ὁμοῖον)» также можно рассматривать как доказательство a contrario. Допустим, что сущее является делимым. Тогда одна часть этого сущего «не есть» другая часть этого сущего – а именно, там, где оно прерывается. Но любое предложение вида «a не есть b» ложно. Следовательно, по modus tollens, неверно, что сущее является делимым. Следовательно, сущее является неделимым или является единым (в значении «неделимое» или «не имеющее различных конституент или характеристик»).
Но не во всех интерпретациях Парменида используется доказательства a contrario. Например, предложенная мною выше интерпретация рассуждения Парменида в виде доказательства, в котором из (1Б) и (2Б) выводится (3Б) является прямым доказательством, и не является доказательством a contrario.
Однако это доказательство может быть легко сформулировано как содержащее доказательство a contrario, причем текстуальные свидетельства в пользу наличия его в поэме Парменида остаются прежними. Пусть
(4Б) Конституенты a и b внутреннего объекта мышления О мыслятся вместе актом мышления А.
Сделаем допущение для доказательства a contrario:
(5Б) Конституенты a и b объекта О различны.
Примем следующий вариант Критерия различия конституент внутреннего объекта мышления:
(6Б) Две конституенты какого-либо внутреннего объекта мышления различны если и только если они не мыслятся вместе ни одним возможным актом мышления.
Замечу, что (6Б) можно рассматривать как отражение положения Парменида из уже цитировавшегося выше положения 28 B 8.54 DK, которое рассматривалось как свидетельство признания Парменидом (2Б).
Из (6Б) следует:
(7Б) Если две конституенты a и b объекта О различны, то конституенты a и b объекта О не мыслятся вместе актом мышления А.
По modus tollens, из (7Б) и (4Б) следует:
(8Б) Неверно, что две конституенты a и b объекта О различны.
Таким образом, из (4Б), (5Б) и (6Б) получено (5Б) & ¬(5Б). Значит, набор посылок (4Б), (5Б) и (6Б) как влекущий противоречие должен быть пересмотрен. Поскольку посылки (4Б) и (6Б) полагаются надежными, отбрасывается (5Б), и заменяется на ¬(5Б), т. е. на (8Б). В (8Б) провозглашается единство (как неразличимость конституент) сущего (как внутреннего объекта мышления).
Доказательства a contrario приписываются уже Ксенофану в трактате Псевдо-Аристотеля О Мелиссе, Ксенофане, Горгии (MXG, гл. 3, § 2, 977а 23-2418, часть трактата, относящаяся к Ксенофану, включена в 21 А 28 DK): если бы сущее (или бог) возникло, то оно возникло бы из не-сущего, что невозможно (поскольку не-сущего нет нигде – MXG, гл. 3, § 10, 977b 14). Правда, в сохранившихся фрагментах поэмы О природе самого Ксенофана мы не находим таких рассуждений.
Итак, попытка различить аргументы Парменида и Зенона по используемым в них приемам (прямое и косвенное доказательство) не представляется удачной.
9. Заключение.
В. П. Горан и «семантический поворот»
Подводя итог настоящей статье, я делаю вывод, что наиболее надежным тезисом, различающим концепции Парменида и Зенона, является тезис (ОГ). А именно, (ОГ) совместим с представленными выше интерпретациями обоснований Парменидом и Зеноном предложения «сущее едино», свободных от ненадежных допущений. В частности, (ОГ) совместим с моей интерпретацией Парменида, в которой обосновывается тезис «сущее есть единое», в котором «сущее» обозначает произвольный внутренний объект мышления, а «единое» обозначает тождество друг другу конституент (включая свойства и отношения, выражаемые предикатами) внутреннего объекта мышления в соответствии со специально определенным критерием тождества для конституент такого объекта. Это обоснование тезиса «сущее есть единое» свободно от так и не получившего надежного обоснования у Парменида и в последующей философии тезиса о ложности (немыслимости, недопустимости) предложений вида “a не есть b” (последняя интерпретация подробно разработана А. Мурелатосом); также предлагаемая мною интерпретация Парменида свободна от той несогласованности, которая присутствует в интерпретации П. Кёрд.
Также (ОГ) совместим с моей интерпретацией Зенона, в которой также обосновывается тезис «сущее есть единое», но «сущее» в этом тезисе обозначает любой объект произвольного типа (ментальный, физический, протяженный, непротяженный, …), а «единое» обозначает такое свойство объекта, что каждый такой объект имеет одну и только одну конституенту, – этой конституентой является он сам, т. е. для такого объекта невозможно иметь какие-либо собственные конституенты (включая свойства и отношения, выражаемые предикатами). Это обоснование тезиса «сущее есть единое» свободно от обычного для интерпретаций обоснования Зеноном единства сущего, но так и не получившего надежного обоснования у Зенона и в последующей философии, признания специфической зеноновской теории меры. Кроме того, обычно интерпретации обоснования Зеноном единства сущего действительны только для протяженного и бесконечно делимого сущего, тогда как моя интерпретация обоснования Зеноном тезиса «сущее есть единое» свободна от этого ограничения.
Некоторые историки философии (N. B. Booth; F. Solmsen) пытались показать, что Зенон спорил с тезисом Парменида «сущее есть единое». Как я показал выше, видимость спора возникает из-за того, что Парменид и Зенон использовали термин «ὁμοῖον» («подобное», «однородное», «гомогенное») в разных значениях: для Парменида сущее «подобно» в том смысле, что одно сущее не может отличаться от другого, для Зенона же – в том смысле, что сущее является протяженным и делимо до бесконечности, из чего Зенон пытается вывести, что «подобный» (в зеноновском смысле) объект не может существовать и не может быть «единым». Поэтому нельзя сказать, что Зенон выводит тезис «сущее не есть единое» из содержания парменидовского тезиса «сущее есть подобное» (ведь Парменид и Зенон придают термину «подобное» разные значения), он Зенон не спорит с содержанием тезиса Парменида «сущее есть единое».
Другие историки философии полагают, что Зенон спорит с парменидовским тезисом «сущее есть единое», когда признает, что «единым сущим» является точка, но точка, по Зенону, не существует, поскольку то, что не увеличивает величину при прибавлении и не уменьшает ее при отнятии, не существует. Но это означало бы ограничение парменидовского сущего областью только тех объектов, которые имеют величину, что невозможно подтвердить текстом поэмы из Пути Истины.
Также не производит впечатление убедительной попытка различить концепции Парменида и Зенона по используемым в них приемам (прямое и косвенное доказательство), поскольку можно предложить философски интересные интерпретации доказательств и Парменидом, и Зеноном тезиса «сущее есть единое» (при том, что каждый из этих философов придает свое значение терминам «сущее» и «единое»), в каждой из которых используется доказательство a contrario.
Итак, (ОГ) является тезисом, гораздо более надежным, чем рассмотренные в настоящей статье тезисы, в которых утверждаются другие способы различить учения Парменида и Зенона при сохранении высокой философской значимости рассуждений обоих элеатов.
Замечу, что этот вывод получен с помощью анализа терминов «единое» и «сущее» у Парменида и Зенона, и, таким образом, анализ в настоящей статье является наследником подхода Аристотеля, пытавшегося тщательно различать смыслы, в которых эти и другие философские термины используются в текстах философов. В терминологии А. Коффы, это семантический анализ. Действительно, согласно автору, семантиков
«…легко распознать: они уделяют необычное внимание пропозициям, смыслам – содержанию и структуре того, о чем мы говорим, в противоположность психическим актам, с помощью которых мы говорим это» [2019, с. 6].
Таким образом, анализ учений элеатов и их современных интерпретаций проведен в настоящей статье с точки зрения «семантического поворота», совершенного, согласно А. Коффе, в 1925–1935 гг. рядом группировавшихся вокруг Вены исследователей (Л. Витгенштейн, А. Тарский, Р. Карнап, М. Шлик, К. Поппер и Х. Райхенбах), которые начинали как сторонники неокантианства, но, анализируя и обсуждая неокантианство, положили начало «логическому позитивизму» [Коффа, 2019, с. 8]. Таким образом, в настоящей статье положено начало выявлению той роли, которую «семантический поворот» играет в изменении подходов к изучению наследия элеатов в истории философии, а также осмыслению способа, которым «семантический поворот» может повлиять на каноны, в которые историки философии встраивают аргументацию элеатов против множественности сущего.
Полученный в настоящей статье вывод, что (ОГ) является наиболее надежным тезисом, различающим концепции Парменида и Зенона, характеризует значимость вклада В. П. Горана в исследования учений Парменида и Зенона Элейского. Поставленные В. П. Гораном вопросы: «Соответствует ли принимаемому Парменидом и Зеноном предложению “сущее есть единое” одна и та же пропозиция?» и «Наделяют ли Парменид и Зенон в этом предложении термины “сущее” и “единое” одним и тем же значением?» находится в русле «семантического поворота» в методологии современных историко-философских исследований. Поэтому я полагаю подход В. П. Горана весьма актуальным и плодотворным, ясным парадигмальным случаем для тех историко-философских исследователей, которые стремятся использовать методологические требования «семантического поворота».
1 “DK” означает ссылку на [Diels, Kranz, 1951-1952].
2 Ссылки на Платона даются по: [Burnet, 1901-1907].
3 “LM” означает ссылку на нумерацию фрагментов Зенона Элейского по изданию и английскому переводу фрагментов ранних греческих философов [Laks, Most, 2016]; в настоящей статье по этому изданию цитируются только фрагменты Зенона Элейского (на что указывает “Zen.”), и цитируются они по расширяющем LM собранию фрагментов Зенона в переводе на русский язык из [Берестов, 2021].
4 Подход П. Кёрд противостоит более привычному взгляду [см., например: Stokes, 1971], что, хотя атомы Демокрита и наследуют такую характеристику парменидовского сущего, как неразрушимость, все‑таки множественность атомов несовместима с учением Парменида.
5 Перевод соответствует интерпретации этих строк в: [Owen, 1986a].
6 Речь идет о несобственных конституентах, т. е. среди конституент объекта находится он сам.
7 Приведенный перевод следует переводу П. Кёрд из [Curd, 2004, p. 110]: «not one of which is it right to name». Перевод и трактовка этого высказывания являются предметом оживленных дискуссий у исследователей, обсуждение полемики и альтернативные точки зрения см. в [Curd, 2004, pp. 109-110; Mourelatos, 2008a, pp. 80-87].
8 Это наше утверждение основывается на исследованиях: [Curd, 2004, pp. 109-110; Mourelatos, 2008а, pp. 106-110; 80-87; 131-132; Mourelatos, 2008c, pp. 347-348].
9 Приведенное рассуждение предвосхищает несколько рассуждений, которые позднее стали известны как «парадокс Брэдли» [см.: Bradley, 1916, pp. 31-33, 178]. Цель рассуждений Ф. Г. Брэдли состоит в доказательстве тезиса, что допущение существования сложного объекта ведет к бесконечному регрессу связей, получаемому только что описанным способом. На основании этого Ф. Г. Брэдли делает вывод, что множественность мира является лишь иллюзией, «видимостью», тогда как реальность абсолютно едина. На предвосхищение Зеноном Элейским рассуждений Ф. Г. Брэдли обратил внимание Г. Оуэн в [Owen, 1986b, p. 53].
10 Анализ аргументов через бесконечный регресс у Зенона Элейского в виде исходной версии ВЛ, использующей бесконечный регресс, был представлен нами в статьях: [Берестов, 2011б; 2012; 2014б; 2014в].
11 «Конституенты» здесь рассматриваются в несобственном смысле, так что одной из конституент целого является само это целое. Также конституентами целого являются его (собственные) части, свойства конституент и отношения между конституентами.
12 Здесь и далее в (NN) мы используем следующие выражения как взаимозаменимые: «вещи связаны (некоторой связью)», «вещи соотнесены (некоторым отношением)», «вещи соединены (некоторым объединителем)». Соответственно, «связь», «отношение», «объединитель» также взаимозаменимы.
13 В (NN) выражения вида «вещи A, B, C, … связаны друг с другом связью N» не обязательно подразумевают, что имеется одна и та же связь N, связывающая все вещи A, B, C, …, но могут трактоваться также и как сокращения для выражений вида «каждая вещь A, B, C, … связана с каждой вещью из A, B, C, … (за возможным исключением самой себя) хотя бы одним отношением – двухместным отношением или каким-либо отношением большей “местности”».
14 Подробнее об интерпретациях Zen. D6 LM и их скрытых допущениях [см.: Берестов, 2021, с. 107-129].
15 Знак “*” указывает, что фрагмент отсутствует в LM, но присутствует в собрании фрагментов Зенона Элейского из [Берестов, 2021], представляющем собой расширенную версию собрания фрагментов Зенона Элейского из LM.
16 “Lee” означает ссылку на издание и английский перевод фрагментов Зенона Элейского [Lee, 1936].
17 Это признается Парменидом в 28 B 8.22 DK: «и [сущее] неделимо, ибо всюду подобно (οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν, ἐπεὶ πᾶν ἔστιν ὁμοῖον)»
18 “MXG” означает ссылку на трактат «О Мелиссе, Ксенофане, Горгии», написан не установленным до сих пор автором. Долгое время MXG приписывался Аристотелю, и тогда он входил в собрания сочинений Аристотеля. В настоящей статье ссылки на MXG осуществляются по [Aristoteles, 1831, pp. 202-206], где трактат именуется «О Ксенофане, Зеноне, Горгии».
Об авторах
И. В. Берестов
Институт философии и права СО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: berestoviv@yandex.ru
доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ул. Николаева, 8, Новосибирск, Россия
Список литературы
- Берестов, И. В. (2011а). Принцип «неразличимости тождественных» в парменидовском обосновании немыслимости множественности и различий в сущем. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. Т. 9. № 3. С. 135-144.
- Берестов, И. В. (2011б). Regressus ad infinitum в обосновании Зеноном Элейским немножественности сущего. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 4(16). С. 131-145.
- Берестов, И. В. (2012). Довод regressus ad infinitum в обосновании немножественности сущего у Парменида и Зенона Элейского. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. Т. 10. № 1. С. 82-111.
- Берестов, И. В. (2014а). Внутренние объекты мышления у Парменида и Платона. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. Т. 12. № 4. С. 86-98.
- Берестов, И. В. (2014б). Способы представления некоторых аргументов Зенона Элейского «против множественности». Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 4(28). С. 219-233.
- Берестов, И. В. (2014в). Новый элеатизм: можно ли придать вес аргументам «против множественности» Зенона Элейского? Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. Т. 12. № 2. С. 33-43.
- Берестов, И. В. (2015а). «Единство сущего» у Парменида как неразличимость конституент ноэмы. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 4(32). С. 240-253. doi: 10.17223/1998863X/32/27.
- Берестов, И. В. (2015б). Сущее как интенциональный объект мышления и «единство сущего» у Парменида. Вестник Российского Университета дружбы народов. Серия: Философия. № 4. С. 23-36.
- Берестов, И. В. (2015в). Эпистемический холизм в 28 B 2 DK Парменида и в «Евтидеме» Платона. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. Т. 13. № 2. С. 104-114.
- Берестов, И. В. (2016). Парменидовские предпосылки в homo mensura Протагора. ΣΧΟΛΗ (Schole). Философское антиковедение и классическая традиция. Т. 10. № 2. С. 659-670.
- Берестов, И. В. (2020). Связь аргумента Зенона Элейского из 29 B 3 DK с современной семантикой и платоновским peritrope. Вестник Томского государственного университета. № 453. С. 54-62. doi: 10.17223/15617793/453/7.
- Берестов, И. В. (2021). Зенон Элейский в современных переводах и философских дискуссиях. Новосибирск: Центр изучения древней философии и классической традиции НГУ; Офсет-TM. 206 с. (Античная философия и классическая традиция. Приложение к журналу ΣΧΟΛΗ. Т. V; изд. с 2020 г.).
- Вольф, М. Н. (2012). Философский поиск: Гераклит и Парменид. СПб: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии. 382 с.
- Горан, В. П. (2014а). Зенон Элейский: радикальное преобразование учения Парменида под видом его защиты. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. Т. 12. № 4. С. 99-106.
- Горан, В. П. (2014б). Исторические истоки христианской догмы о сотворении мира «из ничего». Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. Т. 12. № 1. С. 123-132.
- Горан, В. П. (2015). Масштаб вклада элеатов в развитие философии. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. Т. 13. № 3. С. 141-149.
- Горан, В. П. (2016). Предыстория атомистики: Парменид и Зенон. Сибирский философский журнал. Т. 14. № 1. С. 206-220.
- Комарова, В. Я. (1988). Учение Зенона Элейского. Л.: Изд-во ЛГУ. 264 с.
- Коффа, А. (2019). Семантическая традиция от Канта до Карнапа: к Венскому вокзалу. Под ред. Л. Весселс. Пер. с англ. В. В. Целищева. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация». 528 с. (Сер. Библиотека аналитической философии).
- Робинсон, Т. (1997). Парменид на пути истинного знания бытия (on coming-to-know of the real). Пер. с англ. В. А. Кульматова. Универсум платоновской мысли: Рационализм или философская религия? Эпистемология Платона: материалы IV-й Платоновской конференции 14 мая 1996 г. и историко-философского семинара 29 марта – 2 апреля 1997 г. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета. С. 49-63. (Впервые опубликовано на англ. яз. в 1996 г.).
- Лебедев, А. В. (ред.) (1989). Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М.: Наука. 576 с.
- Aristoteles. (1831). De Xenophane, de Zenone, de Gorgia. In Bekker, I. (ed.). Aristotelis Opera. Vol. 2. Berolini. G. Reimer. Pp. 202-206.
- Barnes, J. (1982). The Presocratic Philosophers. 2nd ed. London and N. Y. Routledge. xvii. 601 p. (First published in two volumes in 1979 by Routledge & Kegan Paul)
- Barrington, J. (1973). Parmenides’ “The way of Truth”. Journal of the History of Philosophy. Vol. 11. Pp. 287-298.
- Booth, N. B. (1957). Were Zeno’s Arguments a Reply to Attacks upon Parmenides? Phronesis. Vol. 1. Pp. 1-9.
- Bradley, F. H. (1916). Appearance and Reality: A Metaphysical Essay. 6th rev. ed. London. George Allen & Unwin Ltd. 628 p. (Originally published in 1893)
- Burnet, J. (ed.). (1901-1907). Plato. Platonis Opera. In 5 vols. Oxford. Clarendon Press.
- Cornford, F. M. (1939). Plato and Parmenides. Parmenides’ Way of Truth and Plato’s Parmenides: Translated with an Introduction and a Running Commentary. London. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. LTD. 251 p.
- Curd, P. (2004). The Legacy of Parmenides: Eleatic Monism and Later Presocratic Thought. Las Vegas. Parmenides Publishing – xxxix. 280 p. (Originally published in 1998 by Princeton University Press)
- Diels H., Kranz W. (Hrsg.). (1951-1952). Die Fragmente der Vorsokratiker: in drei Bänden (=DK). Die sechste Auflage. Hildesheim. Weidmannsche Verlagsbuchhandlung.
- André Laks A, Most, G. (2016). (eds.). Early Greek Philosophy (=LM). Vol. V. Pt 2. Cambridge (Mass., USA). London (UK). Harvard University Press. 801 p. (Loeb Classical Library; Vol. 528).
- Kenny, A. (2005). The Philosopher’s History and the History of Philosophy. In Sorell, T., Rogers, G. A. G. (eds.) Analytic Philosophy and History of Philosophy. N. Y. Oxford University Press. Pp. 13-24.
- Lee, H. P. D. (ed. and transl.). (1936). Zeno of Elea. A Text, with Translation and Notes. (= Lee). Cambridge. Cambridge University Press. vi. 125 p. (Ser. Cambridge Classical Studies).
- Makin, S. (1982). Zeno on Plurality. Phronesis. Vol. 27. Pp. 223-238.
- Mourelatos, A. P. D. (2008a). The Route of Parmenides. In Mourelatos, A. P. D. The Route of Parmenides: Revised and Expanded Edition; With a New Introduction, Three Supplemental Essays, and an Essay by Gregory Vlastos. Las Vegas. Zürich. Athens. Parmenides Publishing. I-L. Pp. 1-293 (Originally published in 1970 by Yale University Press)
- Mourelatos, A. P. D. (2008b). Heraclites, Parmenides and the Naïve Metaphysics of Things. In Mourelatos A. P. D. The Route of Parmenides: Revised and Expanded Edition; With a New Introduction, Three Supplemental Essays, and an Essay by Gregory Vlastos. Las Vegas. Zürich. Athens. Parmenides Publishing. Pp. 299-332. (Originally published in 1973).
- Mourelatos, A. P. D. (2008c) Determinacy and Indeterminacy, Being and Non-Being in the Fragments of Parmenides. In Mourelatos A. P. D. The Route of Parmenides: Revised and Expanded Edition; With a New Introduction, Three Supplemental Essays, and an Essay by Gregory Vlastos. Las Vegas. Zürich. Athens. Parmenides Publishing. Pp. 333-349. (Originally published in 1976).
- Mourelatos, A. P. D. (2008d). Some Alternatives in Interpreting Parmenides. In Mourelatos A. P. D. The Route of Parmenides: Revised and Expanded Edition; With a New Introduction, Three Supplemental Essays, and an Essay by Gregory Vlastos. Las Vegas. Zürich. Athens. Parmenides Publishing. Pp. 350-363. (Originally published in 1979).
- Owen, G. E. L. (1986a). Eleatic Questions. In Nussbaum, M. (ed). Owen G. E. L. Logic, Science, and Dialectic: Collected Papers in Greek Philosophy. Ithaca. Cornell University Press. Pp. 3-26. (Originally published in 1960)
- Owen, G. E. L. (1986b). Zeno and the Mathematicians. In Nussbaum, M. (ed). Owen G. E. L. Logic, Science, and Dialectic: Collected Papers in Greek Philosophy. Ithaca. Cornell University Press. Pp. 45-61. (Originally published in 1957-1958)
- Sisko, J. E., Weiss, Y. (2015). A Fourth Alternative in Interpreting Parmenides. Phronesis. Vol. 60. No. 1. Pp. 40-59.
- Solmsen, F. (1971). The Tradition about Zeno of Elea Re-examined. Phronesis. Vol. 16. Pp. 116 141.
- Stokes, M. C. (1971). One and Many in Presocratic Philosophy. Washington. Center for Hellenic Studies. ix. 355 p.
- Vlastos, G. (1975). Plato’s Testimony Concerning Zeno of Elea. Journal of Hellenic Studies. Vol. 95. Pp. 136-162.
Дополнительные файлы