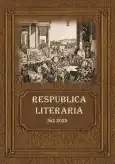Historical and Philosophical Foundations of the Bioethics Development in Latin America: From the Colonial Legacy to the Philosophy of Liberation
- Authors: Druzhkin S.M.1
-
Affiliations:
- Moscow City University
- Issue: Vol 6, No 2 (2025)
- Pages: 144-152
- Section: SOCIOCULTURAL IDENTITY AND HISTORICAL DYNAMICS
- URL: https://journal-vniispk.ru/2713-3125/article/view/305636
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2025.6.2.144-152
- ID: 305636
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the analysis of the formation and development of bioethics in Latin America, where traditional Western principles face unique (regionally determined) socio-economic and socio-cultural realities. The purpose of the study is to identify the specifics of bioethics in Latin America, focusing on issues of social justice, protection of vulnerable groups and criticism of neocolonialism. The author applies historical, philosophical and comparative methods, analyzing the works of key thinkers (Florencia Luna, Ruth Macklin, Enrique Dussel) and the influence of factors such as liberation philosophy, Catholic ethics and social inequality. The study shows that in the process of bioethics formation in Latin America, universal principles (autonomy, benevolence, non-harm and justice) are integrated with the local context, which leads to the formation of approaches aimed at overcoming structural violence and marginalization. The concept of the Luna's "multi-layered vulnerability" reveals the complex impact of economic, gender, and cultural factors on access to medicine. At the same time, discussions about reproductive rights and the protection of indigenous peoples demonstrate a conflict between global standards and local traditions. The article's conclusions emphasize that bioethics research in Latin America makes a significant contribution to global discourse by offering a model that combines ethical principles with active social policy. This is especially true in the context of pandemics, environmental crises and increasing inequality.
Full Text
Введение
Биоэтика начала развиваться в условиях нарастающего научно-технического прогресса и масштабных социально-политических трансформаций, что привело к формированию особой междисциплинарной области знания, интегрирующей философские, медицинские, правовые, антропологические, теологические и иные научные подходы, во второй половине XX столетия. Истоки ее институционального становления закономерно принято связывать с интеллектуальными школами США и Европы, формировавшими базовые этические принципы, однако и современные латиноамериканские философы внесли значимую лепту в развитие биоэтики. Уникальный контекст региона – сплав культурного многообразия, религиозного синкретизма и острых социально-экономических диспропорций – определил специфику местной биоэтической традиции, сместив фокус исследования на защиту уязвимых групп, обеспечение справедливости в доступе к ресурсам и этику коллективной ответственности перед обществом.
Формирование современной биоэтики и миграция идей в Латинскую Америку
Можно выделить две основные точки зрения о возникновении понятия «биоэтика». Первая точка зрения сводится к тому, что создателем термина мог быть Фриц Яр, поскольку в 1927 г. он опубликовал труд под названием «Биоэтика: размышления об этических отношениях человека к животным и растениям» [Фриц, 2013, с. 50-53]. В данной работе он использовал слово «биоэтика» в контексте взаимодействия человека с животным: «… принципиальное уравнивание человека и животного как объектов изучения в психологии … От био-психики – всего один шаг до био-этики, то есть до допущения моральных обязательств в отношении не только людей, но и вообще всех живых существ» [Фриц, 2013, с. 51]. Современное употребление термина «биоэтика» (bioethics) восходит к концу 1960-х – началу 1970-х гг. Американский ученый Ван Ренселлер Поттер «заново» ввел термин «bioethics» и охарактеризовал ее как «науку о выживании» [Potter, 1971, pp. 15-16], стремящуюся объединить биологические знания и гуманитарные ценности ради сохранения человека и среды обитания. Параллельно в США под эгидой Института этики им. Дж. Кеннеди (Джорджтаунский университет) начал формироваться академический центр по изучению биомедицинской этики. Том Бичам и Джеймс Чайлдресс вскоре вывели концепцию четырех принципов («уважения автономии личности», «делай добро (beneficence)», «ненанесение вреда», «справедливости») [Beauchamp, Childress, 2001], которая приобрела статус «канонической» в США и повлияла на международные биоэтические стандарты, включая подходы к работе этических комитетов во многих странах. В Европе биоэтика развивалась на основе персоналистской, экзистенциалистской и феноменологической традиций [Gracia, 2001]. Весомое влияние на формирование этического взгляда в медицине оказали мысли Альберта Швейцера о «благоговении перед жизнью» [Швейцер, 1973], а также идеи Эммануэля Левинаса о «другом» [Левинас, 1948] и ответственности перед ним. Католическая церковь, сильная в ряде европейских государств, активно включилась в обсуждение вопросов репродуктивной медицины, эвтаназии и пр. [Pessini et al., 2010]. Подобное религиозно-философское наследие сыграло важную роль и в Латинской Америке, где католичество традиционно занимает ведущее место в общественной и культурной жизни.
Специфика региона показывает, что Латинская Америка объединяет страны с многообразным этнокультурным составом, где сосуществуют коренные народы, афро-латиноамериканские общины и слои населения европейского происхождения. Глубокое социальное расслоение, бедность широких слоев населения, неравномерное распределение медицинских услуг, а также маргинализация групп по этническому и социальному признаку создают особую почву для развития этики, акцентирующей проблемы коллективных прав и защиты уязвимых категорий [Garrafa, Porto, 2003, p. 30].
Взаимодействие универсальных биоэтических принципов
и локальных культурных традиций
Испанская экспансия XVI в. утвердила в латиноамериканском регионе антропоцентрическую парадигму католического толка, сакрализующую жизнь как божественный дар и трактующую страдание как инструмент искупления. Однако культурный синтез эпохи колонизации не сводился к механическому переносу доктрин. Рамон Гросфогель, исследуя миграционные процессы как следствие исторической несправедливости, раскрывает корреляцию между ответственностью за воспроизводство бедности, эскалацией социальных конфликтов и формированием морально-этических коллизий, актуализируя дискуссии о пределах социокультурной толерантности [Grosfoguel, 2003]. Эти интеллектуальные построения косвенно эксплицируют зарождение биоэтической проблематики в колониальном контексте. Сегодня биоэтика в Латинской Америке, наследуя это диалектическое противоречие, фокусируется на защите прав пациентов и коренных сообществ через призму деколониальной оптики, противопоставляя глобализированной медицине критику ее неоколониальных практик.
Становление биоэтической мысли в регионе неразрывно связано с философией освобождения – интеллектуальным движением 1960-х гг., представленным такими фигурами, как Х. Ассманн, Г. Гутьеррес, Э. Дуссель, М. Касалья и др. Данное направление, акцентируя деколонизацию мышления, поставило во главу угла эмансипацию народов через критический анализ латиноамериканских реалий и создание автохтонных эпистемологических моделей. Центральный тезис, развитый Энрике Дусселем, утверждает неразрывность этики и социальной справедливости [Dussel, 2006], что трансформировалось в дискурс о неравенстве доступа к медико-фармацевтическим ресурсам. Эти императивы кристаллизовались в концепцию «биоэтики защиты» [Possamai, Siqueira-Batista, 2022], фокусирующейся на моральной легитимности политик здравоохранения, гарантирующих права маргинализированных групп – от коренных народов до жертв структурного насилия. Яркой иллюстрацией служат публичные дебаты в бразильском Национальном конгрессе (2005 г.), где столкнулись утилитаристская логика и необходимость защиты племени зуруаха от эксплуатации [Feitosa et al., 2010]. Данный кейс демонстрирует, что сохранение биокультурного наследия (на примере Амазонии) невозможно без гарантий прав ее хранителей, ежедневно сталкивающихся с экологическими преступлениями и системными нарушениями прав человека. Биоэтика защиты утверждает приоритет поддержки локальных лидеров, общин и правозащитных институтов как ключевого механизма противодействия неоколониальным практикам в глобализированной медицине и экополитике. Именно поэтому в исследованиях по биоэтике в Латинской Америке классический «принципиализм» часто дополняется требованиями социальной справедливости и учетом разнообразных локальных традиций [Tealdi, 2008, p. 130].
Особое влияние на формирование биоэтики в Латинской Америке оказала аргентинский философ и биоэтик Флоренсия Луна, показавшая, что классические подходы, опирающиеся на индивидуальную автономию, должны быть переосмыслены в контексте социально-экономического неравенства [Luna, 2006, pp. 35-38]. Луна вводит концепцию «многослойная уязвимость» (layered vulnerability) [Luna, 1999 p. 155], отмечая, что факторы уязвимости многогранны: от бедности и низкой образованности до политической нестабильности.
Концепция «многослойной уязвимости», предложенная Ф. Луной, базируется на тезисе о кумулятивном характере уязвимых состояний, при которых индивид оказывается в пересечении нескольких дискриминационных систем – экономической, гендерной, политической и культурной [Luna, 2009]. Автор подчеркивает, что эти слои не существуют изолированно, а взаимодействуют, образуя комплексные формы социальной эксклюзии, требующие этико-правового анализа в контексте биоэтических исследований.
Наряду с Флоренсией Луной существенную роль в развитии биоэтики в Латинской Америке сыграла Рут Маклин – североамериканский философ, чьи работы оказались востребованы в латиноамериканском академическом сообществе. Р. Маклин указывает на опасность культурного релятивизма, когда местные традиции начинают оправдывать дискриминацию и нарушение прав человека [Macklin, 1999, pp. 48-50]. Она выступает за сохранение «этических универсалий» (уважение к достоинству, справедливость и др.), подчеркивая, что их можно адаптировать к локальным условиям без утраты смысла.
Р. Маклин предприняла попытку синтеза классической либеральной парадигмы автономии с идеей коллективной ответственности общества перед маргинализированными группами, чья свобода выбора ограничена структурными барьерами. Предложенная Маклин модель этического анализа, объединяющая принцип самоопределения индивида с императивами социальной справедливости, предполагает, что государственные и медицинские институты обязаны выходить за рамки формального равенства, интегрируя в политику анализ реальных условий жизни – от экономического неравенства до системной дискриминации [Macklin, 1998]. Концепция Ф. Луны развивает этот подход, актуализируя тезис Маклин о необходимости контекстуализации этических норм. Однако Луна вводит принципиально новое измерение вопросов биоэтики – феномен кумулятивной уязвимости, – демонстрируя как множественные формы социальной эксклюзии (гендерная, экономическая, образовательная, медико-экологическая) наслаиваются на конкретного индивида, формируя «эффект синергетической угнетенности» [Luna, 2013]. Яркой иллюстрацией служит ситуация беременной женщины из аргентинских трущоб: ее уязвимость определяется не просто суммой факторов (бедность + гендерное неравенство), а их взаимным усилением, приводящим к системному отчуждению от базовых прав – от медицинской помощи до безопасных условий труда [Luna, 1999]. Это дополняет философию Маклин, которая пусть и не формулирует прямо теорию многослойной уязвимости, но утверждает, что этика должна учитывать факторы, формирующие социальную несправедливость [Macklin, 2012, р. 27]. Таким образом, Луна предлагает более детализированный инструмент для описания конкретных ситуаций неравенства, что особенно полезно в латиноамериканском контексте. Если Маклин заложила основу для критики структурного неравенства, то Луна предложила инструментарий интерсекционального анализа, позволяющий деконструировать конкретные кейсы маргинализации – от гендерного насилия до экологической эксплуатации, что особенно релевантно для Латинской Америки с ее социокультурной гетерогенностью.
Работы Маклин не только расширили дискурс о правах уязвимых групп, но и трансформировали само понимание уязвимости в регионе. Латиноамериканские исследователи, опираясь на ее тезисы, включили в анализ расово-этнические различия, географическую периферийность (например, изолированные андские или амазонские сообщества) и колониальное наследие как системообразующие факторы угнетения [Macklin, 1998, p. 414]. Этот подход стал методологической основой для требований к государству: обеспечение прав человека трактуется не как пассивное соблюдение норм, а как активное устранение исторически укорененных дисбалансов.
Особую значимость идеи Маклин приобрели в контексте борьбы за репродуктивную справедливость. В Бразилии и Мексике аргументы Маклин об автономии тела цитируются активистами, оспаривающими патерналистские законы об абортах, а в Аргентине – защитниками доступа к контрацепции для женщин из виллы-мисерия (трущоб). При этом теологические дебаты о «святости жизни» и светские требования прав человека образуют уникальный латиноамериканский синтез, где авторитет Маклин как международного эксперта служит мостом между глобальной биоэтикой и локальными реалиями. Р. Маклин и Ф. Луна напоминают, что биоэтика, зародившаяся в США в 1970-х гг., уже к 1980-м гг. активно распространилась в Аргентине и других странах Латинской Америки. Более того, и Луна, и Маклин полагают, что в плане методологии биоэтика в Латинской Америке с самого начала своего распространения на континенте и по сей день является в той или иной степени латиноамериканской «версией» американской биоэтики [Luna, Macklin, 1996]. Тем не менее, концепты автономии, благодеяния и справедливости наполнились новыми смыслами: если в США акцент делается на индивидуальном выборе, то в Аргентине или Колумбии – на коллективной ответственности государства перед жертвами структурного насилия. Даже модель «врач-пациент» здесь трансформируется: непатерналистский подход сочетается с обязательным учетом культурной компетентности (например, уважение к традиционной медицине коренных народов).
Не случайно многие латиноамериканские исследователи, такие как Волней Гаррафа и Дора Порто, делают акцент на уникальных чертах латиноамериканской биоэтики, продвигая, в частности, идею «этики справедливости» [Garrafa, Porto, 2003]. Они утверждают, что в Латинской Америке именно неравенство в доступе к медицинским услугам – главный барьер на пути к полноценной реализации базовых прав человека. Хуан Карлос Теальди – редактор латиноамериканского словаря биоэтики – подчеркивает важность создания общего понятийного аппарата для всего латиноамериканского региона [Tealdi, 2008)]. Фермин Роланд Шрамм и Мигель Коттоу указывают, что биоэтика должна расширяться за рамки клинических аспектов и охватывать общественное здравоохранение [Schramm, Kottow, 2001, pp. 949-950].
В целом биоэтика в Латинской Америке формируется под влиянием сразу нескольких источников: классического принципиалистского подхода, католической моральной теологии, а также движений за социальную справедливость и права меньшинств [Have, Gordijn, 2013]. Одна из главных дискуссий – «универсальность» биоэтических норм. Сторонники универсального подхода (например, Маклин) считают, что есть ряд неизменных принципов – уважение к личности и справедливости, которыми нельзя жертвовать во имя местных традиций [Macklin, 1999, pp. 60-62]. Однако другие исследователи, например, такие как Флоренсия Луна и Волней Гаррафа настаивают, что абстрактные универсалии должны дополняться анализом локального социокультурного фона [Luna, 2006, pp. 40-41; Garrafa, Porto, 2003, pp. 400-401]. В свою очередь, католическая церковь, чрезвычайно влиятельная в странах региона, формирует морально-этическую повестку в вопросах абортов, эвтаназии, вспомогательных репродуктивных технологий. Несмотря на прогрессирующий характер некоторых локальных церковных движений, зачастую церковная иерархия занимает консервативную позицию, конфликтующую с либерально-гуманистическими или феминистскими подходами [Pessini et al., 2010].
Глобальная значимость латиноамериканской биоэтики состоит в том, что она подчеркивает взаимосвязь между клинической, правовой и социально-политической составляющими, указывая на важность коллективных и общественных факторов в этическом анализе [Garrafa, Porto, 2003, pp. 402-404]. Такой подход дает возможность развивающимся и развитым странам в диалоге переосмыслить собственные модели здравоохранения, учитывая проблемы неравенства и разнообразия культур.
Заключение
Историко-философские основания биоэтики в Латинской Америке складывались под влиянием западных исследовательских традиций, однако получили оригинальное развитие в условиях социальной несправедливости, культурной неоднородности и политической нестабильности.
Формирование биоэтической мысли в Латинской Америке эволюционировало от узких рамок медицинских идей до комплексной междисциплинарной дисциплины, институционально интегрированной в научный и общественный дискурс. Ее становление неразрывно связано с драматическими историческими контекстами региона – эпохой военных диктатур, перманентным социально-экономическим неравенством, экологическими кризисами и технологическими вызовами. Сегодня биоэтика в Латинской Америке утвердилась как значимый участник глобального диалога, предлагая оригинальные модели осмысления социальной справедливости, инклюзивности здравоохранения и взаимодействия научного прогресса с культурными традициями.
В отличие от западной биоэтики, развивавшейся преимущественно в философско-клиническом ключе, латиноамериканская версия дисциплины изначально приобрела социально-политическую направленность. Это обусловлено уникальным сочетанием факторов: синкретизмом доколумбовых и католических ценностей, персистенцией колониальных структур власти, глубокой социальной стратификацией и адаптацией международных научных трендов к локальным потребностям. Колониальная эпоха заложила противоречивый фундамент: с одной стороны, это – католическая антропоцентрическая доктрина, сакрализующая жизнь, с другой – биополитический контроль над телами через механизмы инквизиции и подавление автохтонных целительских практик. Эти исторические противоречия артикулируются в современных дебатах о телесной автономии, перекликающихся с критикой неоколониализма в глобальной медицине.
Прорывным явлением для латиноамериканской гуманитарной науки стала философия освобождения 1960-х гг., трансформировавшая этику в инструмент социальной трансформации. Ее принципы легли в основу «биоэтики освобождения», фокусирующейся на правах маргинализированных групп – от коренных народов, лишенных доступа к базовой медпомощи, до жертв структурного насилия, чьи уязвимости обострились во время пандемии COVID-19. Параллельно религиозный синкретизм (сплав католицизма с культами вроде почитания Святой Смерти в Мексике) сформировал уникальное отношение к танатологическим вопросам, влияя на этику паллиативной помощи и интеграцию духовных практик в клинические протоколы. Флоренсия Луна с ее концепцией «многослойной уязвимости» и Рут Маклин, подчеркивающая важность умеренного универсализма, актуализируют биоэтические вопросы, вокруг которых разворачиваются дискуссии об идентичности, приоритетах и перспективах биоэтики в регионе. В целом развитие биоэтики в Латинской Америке демонстрирует уникальную интеграцию принципиалистских методик, религиозно-этических положений и фокуса на социальной справедливости.
About the authors
S. M. Druzhkin
Moscow City University
Author for correspondence.
Email: solo_adelante@list.ru
Assistant at the Department of Philosophy and Social Sciences 2nd Agricultural passage, 4, Moscow
References
- Levinas, E. (1998). Time and the Other. Paribka, A. V (transl.). St. Petersburg. 264 p. (In Russ.)
- Fritz, Ya. (2013). Bioethics: on the Ethics of Human Relations to Animals and Plants. Yudin, B. G. (transl.). Human. No. 6. Pp. 50-53. (In Russ.)
- Schweitzer, A. (1973). Culture and Ethics. Zakharchenko, N. A. and Kolshansky, G. V. (transl.). Moscow. 342 p. (In Russ.)
- Beauchamp, T. L., Childress, J. F. (2001). Principles of Biomedical Ethics. Oxford. Oxford University Press. 454 p.
- Dussel, E. (2006). Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. México. Trotta. 661 p.
- Feitosa, S. F., Garrafa, V., Cornelli, G., Tardivo, C., Carvalho, S. J. (2010). Bioethics, Culture and Infanticide in Brazilian Indigenous Communities: the Zuruahá case. Cadernos de Saude Publica. Vol. 26. No. 5. Pp. 853-865.
- Grosfoguel, R. (2003). Colonial Subjects: Puerto Ricans in a Global Perspective. Berkeley. Univ. of California press, cop. 268 с.
- Garrafa, V., Porto, D. (2003). Bioethics, Power and Injustice: for an Ethics of Intervention. Journal International de Bioethique = International Journal of Bioethics. Vol. 14(1). Pp. 23-40. https://doi.org/10.3917/JIB.141.0023.
- Gracia, D. (2001). History of Medical Ethics. In Have, H., Gordijn, B. (eds.). Bioethics in a European Perspective. Switzerland. Springer Netherlands. Pp. 17-50.
- Have, H., Gordijn, B. (eds). (2013). Handbook of Global Bioethics. Springer, Dordrecht. 1685 p. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2512-6.
- Luna, F., Macklin, R. (1996). Bioethics in Argentina: A Country Report. Bioethics. Vol. 10. No. 2. Pp. 140-153.
- Luna, F. (1999). ¿Procrear o no Procrear? Sida y Derechos Reproductivos. Analisis Filosofico. Vol. 19. No. 2. Pp. 153-172.
- Luna, F. (2006). Bioethics and Vulnerability: A Latin American View. Amsterdam. Rodopi. 177 p.
- Luna, F. (2009). Elucidating the Concept of Vulnerability: Layers Not Labels. IJFAB: International Journal of Feminist Approaches to Bioethics. No. 1(2). Pp. 121-139.
- Luna, F. (2013). Infertilidad en Latinoamérica. En Busca de un Nuevo Modelo. Revista de Bioética y Derecho. No. 28. Pp. 33-47.
- Macklin, R. (1998). Ethical Relativism in a Multicultural Society. Kennedy Institute of Ethics Journal. No. 8(2). Pp. 411-427.
- Macklin, R. (1999). Against Relativism: Cultural Diversity and the Search for Ethical Universals in Medicine. Oxford. Oxford University Press. 290 p.
- Macklin, R. (2012). Global Bioethics: Narrow or Broad? Journal of Medicine and Philosophy. No. 37(2). Pp. 17-38.
- Pessini, L., Barchifontaine, C. P., Stepke, F. L. (eds.). (2010). Ibero-American Bioethics. History and Perspectives. Springer. Dordrecht. 397 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9350-0.
- Possamai, V. R., Siqueira-Batista, R. (2022). Schramm and Kottow’s Bioethics of Protection: Principles, Scopes and Conversations. Revista Bioética. Vol. 30. No. 1. Pp. 10-18.
- Potter, V. R. (1971). Bioethics: Bridge to the Future. Englewood Cliffs. Prentice-Hall. 205 p.
- Schramm, F. R., Kottow, M. (2001). Principios bioéticos en salud pública: limitaciones y propuestas [Bioethical Principles in Public Health: Limitations and Proposals]. Cadernos de Saude Publica. Vol. 17 (4). Pp. 949-956. https://doi.org/10.1590/s0102-311x2001000400029.
- Tealdi, J. C. (ed.). (2008). Diccionario Latinoamericano de Bioética. Bogotá. UNESCO – Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética. Universidad Nacional de Colombia. 660 p.
Supplementary files