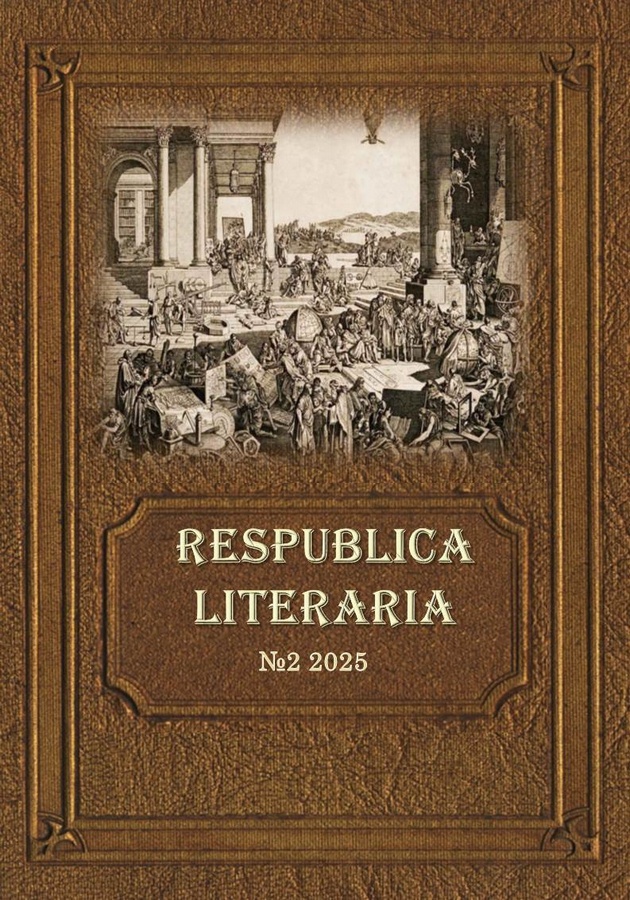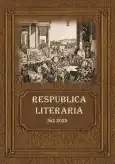Проблема предметной специфики философии: сопоставление позиций А. Н. Чанышева и В. П. Горана
- Авторы: Зеленкина Л.М.1
-
Учреждения:
- Новосибирский государственный университет
- Выпуск: Том 6, № 2 (2025)
- Страницы: 46-53
- Раздел: К 85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ В. П. ГОРАНА
- URL: https://journal-vniispk.ru/2713-3125/article/view/305637
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2025.6.2.46-53
- ID: 305637
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе рассматриваются два решения проблемы предметной специфики философии, которые на первый взгляд кажутся плохо совместимыми друг с другом. А. Н. Чанышев определяет философию как системно-рационализированное мировоззрение, а В. П. Горан называет философию метамировоззренческой рефлексивной теорией. В результате проведенного исследования оказывается, что между позицией А. Н. Чанышева и позицией В. П. Горана больше общего, чем можно было предполагать изначально. Оба подхода вписываются в единое направление мысли, определяя перспективу дальнейшего изучения предмета и специфики философии.
Ключевые слова
Полный текст
Истоки дискуссий о природе философии теряются в глубине веков. Все профессиональные философы и многие образованные люди так или иначе соприкасаются с проблемой дифференциации философии от того, что философией не является. Для моего научного руководителя В. П. Горана вопрос предметной специфики философии стал темой многолетнего исследования. Василий Павлович во время занятий со студентами увлекательно рассказывал о своих изысканиях, вдохновляя слушателей на разработку тех проблем, которыми он занимался сам. Именно так сформировался интерес к спецификации философии у автора данного текста, что в свое время привело к появлению соответствующей статьи [Зеленкина, 2002]. Сейчас, по прошествии более чем двух десятков лет со времени появления той публикации, многие ее моменты кажутся требующими переосмысления и переформулировки. Целью настоящей работы является создание рабочего варианта определения философии в рамках направления мысли, заданного работами А. Н. Чанышева, В. П. Горана и многих других философов.
Существует огромное количество определений философии, созданных разными людьми. Определением, или дефиницией, обычно называют такую формулировку, в которой раскрывается специфика некоего явления или понятия. Логическая процедура определения подразумевает указание на ближайший род и перечисление видовых отличий определяемого. Некоторые дефиниции философии сводятся к другим дефинициям полностью или частично, выражая примерно те же самые мысли иными словами, а некоторые дефиниции, наоборот, несводимы друг к другу или даже несопоставимы друг с другом. Выбор определения философии обретает смысл при наличии исследовательской «сверхзадачи», в рамках которой определение будет использовано. В роли «сверхзадачи» может выступать, например, проблема происхождения древнегреческой философии [Горан, 2007, с. 12-13; Зеленкина, 2002]. Изучение генезиса философии обнаруживает особую актуальность внятного отграничения философии от исторически предшествовавших и сопутствовавших ей форм духовной культуры – мифологии, религии и искусства. Что же касается науки, то многие исследователи говорят об отсутствии ярко выраженной дифференциации исторических форм существования философии от форм бытия науки в Древней Греции (эта дифференциация, судя по всему, едва наметилась во времена софистов). Соответственно, процедура отграничения определения философии от определения науки слабо мотивируется контекстом проблемы генезиса философии. Может быть, именно поэтому отечественный исследователь генезиса философии А. Н. Чанышев определил философию как системно-рационализированное мировоззрение, не обозначив ясно границу между философией и наукой [Чанышев, 1982, с. 41; Чанышев, 1999, с. 13]. Науку ведь, в принципе, тоже можно определить как системно-рационализированное мировоззрение. Разумеется, не все согласятся с таким пониманием науки. В философской среде существует традиция неприменения к науке термина «мировоззрение» в качестве родовой характеристики. А. Н. Чанышев, судя по всему, был довольно близок к этой традиции во времена написания книги «Начало философии», однако явным образом к ней не присоединялся [Чанышев, 1982, с. 40-43]. В поздний период своего творчества (во время написания «Философии Древнего мира») А. Н. Чанышев дистанцировался от указанной традиции и стал вполне недвусмысленно говорить о научном мировоззрении [Чанышев, 1999, с. 13].
Чанышевская дефиниция философии обладает несомненной эвристической ценностью, но, на наш взгляд, является слегка недоработанной. Во-первых, в этой дефиниции есть критически важная недоговоренность, связанная с понятием мировоззрения. Ниже будет сказано об этой недоговоренности подробнее. Во-вторых, определение Чанышева не позволяет эффективно разграничить науку и философию. В-третьих, не очень понятно, что имеет в виду автор, говоря про рационализированное мировоззрение. Рационализацию мировоззрения можно трактовать как появление понятийных форм мысли либо как более глубокую трансформацию мышления, предполагающую развитие последовательного критицизма и аргументации.
Василий Павлович Горан, не принимая определение философии Чанышева [Горан, 2007, с. 24], утверждает, что это определение вполне может быть спроецировано на теологию. Заметим, однако, что системно-рационализированным уровнем религиозного мировоззрения теологию можно назвать только в том случае, если принимается ослабленная трактовка рационализации, не предполагающая формирования критицизма и аргументации как условий этой самой рационализации.
Интересно, что доводы В. П. Горана против чанышевского определения строятся вовсе не на признании указанного определения чрезмерно широким, охватывающим наряду с философией какие-то другие явления (теологию, например). Складывается впечатление, что Василий Павлович в принципе не считает понятие мировоззрения подходящим родом для спецификации философии. Приведем серию цитат, которые помогут нам реконструировать систему понятий Горана. «Под мировоззрением мы будем понимать достигшую определенного уровня системности совокупность воззрений того или иного субъекта (отдельного человека, какой-либо общности людей) на мир как на некоторую целостность, себя и свое место в мире»1 [Горан, 2007, с. 17]. «Профессиональная философия … может быть специфицирована по отношению к мировоззрению как такой уровень теоретизирования, который дает теорию, т. е. развитую форму логической организации знания, выраженного понятийными средствами…» [Там же, с. 23-24]. «Философию следует специфицировать не как теоретическое мировоззрение, а как мировоззренческую теорию, причем теорию особого рода. Это такая теория, для которой мировоззрение есть ее объект, или, другими словами, по отношению к мировоззрению это теория метауровня. <…> Чтобы создать такую теорию, основы мировоззрения должны быть отрефлексированы концептуальными средствами. <…> Философия и есть метамировоззренческая теория, теория метауровня по отношению к тому мировоззрению, концептуальные основы которого она выявляет и обосновывает. <…> Для решения задачи обоснования мировоззрения на уровне метамировоззренческой теории необходимо, чтобы теоретическое мышление самоопределилось относительно своих собственных возможностей применительно к решению данной задачи. Поскольку это задача обоснования мировоззрения, его основ, к которым принадлежит и соответствующая картина мира, и представления о человеке, о его месте в мире, постольку теоретическое мышление не может не упереться в конечном счете в вопрос об отношении самого себя, то есть мышления, к бытию, словом, не может не упереться в основной вопрос философии. Ведь рефлексия – это обращенность мысли на себя. <…> Итак, суть нашего ответа на вопрос о том, что такое философия, может быть выражена фразой из трех слов: рефлексивная метамировоззренческая теория» [Там же, с. 29‑30].
Построения В. П. Горана могут показаться парадоксальными, если переформулировать их следующим образом: а) философия – это метамировоззренческая теория, которая обращена на мировоззрение и выявляет его концептуальные основы; б) философия рефлексивна, она обращена на себя самое и выявляет собственные концептуальные основания; в) философия – это не мировоззрение. В итоге получается, что философия является метамировоззренческой теорией, будучи обращенной на другие формы духовной культуры, но при этом философия не является метамировоззренческой теорией, будучи обращенной на себя. К этой парадоксальной конфигурации смыслов мы вернемся в дальнейших рассуждениях и попытаемся найти способ избавления от парадокса.
С точки зрения Василия Павловича, философия – это метамировоззренческая теория или метамировоззренческое теоретизирование. Теория может быть понята как определенный результат познания. Если на философское познание смотреть как на процесс, как на индивидуальную или общественную деятельность, то философия предстает уже не в виде теории, а в виде теоретизирования. Таким образом, мы обнаруживаем у В. П. Горана не одно определение философии, а два взаимосвязанных определения философии. Если бы можно было воспользоваться достаточно емким указанием на род, то два определения – процессуальное и результативное – свелись бы к одному. Понятие мировоззрения обладает хорошей емкостью, оно содержит в себе возможность отсылки к процессу и результату. При этом мировоззрение может ассоциироваться как с индивидом, так и с обществом. Не случайно А. Н. Чанышев использует в качестве рода для философии именно понятие мировоззрения, называя возникающую в Греции философию новой формой мировоззрения или формой общественного сознания [Чанышев, 1982, с. 37]. Однако нельзя не заметить, что Василий Павлович Горан настороженно относится к попыткам спецификации философии через понятие мировоззрения, несмотря на удобства использования данного понятия. Для этой настороженности есть, с нашей точки зрения, основания. Мы попытаемся выявить проблему, связанную с понятием мировоззрения, чтобы указанное понятие можно было доработать и оптимальным образом встроить в определение философии.
Проблема, возможно, заключается в том, что понятие мировоззрения опирается на неоднозначное и диалектически подвижное представление о мире. В узком смысле мир трактуется как природа, которая существует в физическом пространстве и времени, воспринимается при помощи органов чувств, противопоставляется человеку, изучается естественными науками. В более широком смысле мир – это не только природа, но и человеческая культура с ее информационными, концептуальными конструктами. Эти концептуальные конструкты в одних контекстах противопоставляются реальному миру, в других – признаются частью последнего. Речь не идет о противостоянии материализма и идеализма. Чтобы исключать из объективной реальности смысловые построения, не нужно придерживаться материалистических взглядов. Философы позитивистского толка в принципе отказывались говорить о внешней реальности, жестко закрепляя смыслы за определенными высказываниями и привязывая эти высказывания к субъективному опыту [см., напр.: Шлик, 2006]. Смысловые конструкции, взятые вне конкретных языковых форм выражения и эмпирических привязок, не рассматривались логическими позитивистами как предметы познания, и традиционная философия с точки зрения позитивизма оказывалась разговорами ни о чем.
Чтобы признавать реальное (объективное) существование процессов мышления и идей, вовсе не обязательно принимать идеалистическую онтологию. Культурно-субъективную составляющую мироздания можно представлять в неразрывной связи с природно-объективной составляющей мира, описывая эволюцию культуры как продолжение процессов природной самоорганизации и рассматривая культуру как надприродный слой в структуре реальности.
Границы между понятиями культуры и природы, смысла и вещи не являются вечными и неизменными, они изменяются от контекста к контексту, исчезают и появляются. Возникнув однажды в истории человечества, эти границы могут со временем затеряться среди других понятийных разграничений и утратить свою актуальность. Однако нельзя недооценивать текущую функциональную значимость упомянутых границ. Удобно различать бытие идей и бытие вещей. Рожденные в человеческой культуре смыслы, существуя на физических носителях и отсылая к физическим реалиям, обладают относительной независимостью от этих носителей и реалий: одни и те же концепты могут воспроизводиться на разных носителях одинаковым образом, возникновение или исчезновение концептуальной конструкции не сводится к физическому возникновению или исчезновению чувственно воспринимаемой вещи в физическом пространстве-времени, люди способны обдумывать и обсуждать ситуации, не существующие в физическом мире.
Использование понятия мировоззрения в качестве рода для философии может выглядеть спорным предприятием в такой системе понятий, в которой мышление и его продукты исключаются из реальности, не признаются аспектом или частью мироздания. Если мировоззрение трактовать как совокупность взглядов на физический мир и на пространственно-временные координаты человека в этом мире, то философию в качестве разновидности такого мировоззрения будет сложно представить.
Многие исследователи предметной специфики философии, включая В. П. Горана, говорят о том, что философское познание обращено к мыслям, концептам, образующим каркас той или иной картины мира. Здесь важно подчеркнуть то, что, в отличие от наук, изучающих общество и культуру эмпирическими методами, философия интересуется конкретными социально-историческими и лингвистическими формами реализации концептуальных схем лишь постольку, поскольку эти формы ведут к прояснению отношений между смыслами. Приоритеты гуманитарных и общественных наук развернуты относительно философских приоритетов зеркальным образом. Ученых не интересуют смыслы как таковые, их интересуют пространственно-временные формы человеческого существования и конкретные способы реализации концептуальных схем.
Расширенное многослойное представление о реальности подразумевает включение в мироздание не только культуры в ее конкретных текстуально-исторических проявлениях, но и тех смыслов, которые возникают в рамках культуры. Если мы определим мир именно таким образом, то соответствующее этой трактовке мира понятие мировоззрения можно рассматривать как родовое по отношению к понятию философии. При этом несовместимость предложенных Гораном и Чанышевым дефиниций философии перестает быть очевидной, недоопределенность чанышевской трактовки мировоззрения устраняется и разрешается парадокс, связанный с горановским определением философии. Понятно, что если возникающие в человеческой культуре концептуальные конструкции идентифицируются как аспект мироздания, связанный воедино с другими аспектами бытия, то ничего не мешает рассматривать философию как специфическую разновидность мировоззрения. В этом случае результат философского познания будет метамировоззренческой теорией независимо от того, на что это познание направлено – на философию или на другие формы культуры. Можно сказать, что дефиниция В. П. Горана дополняет чрезмерно лаконичную формулировку А. Н. Чанышева, фокусируя наше внимание на существенных характеристиках философии, отличающих философию от других форм духовной культуры.
Определения А. Н. Чанышева и В. П. Горана вписываются, на наш взгляд, в единое направление мысли, которое противостоит многочисленным и разнообразным попыткам представить философию как беспредметное рассуждение. Популярность позитивизма сегодня уменьшилась, но разговоры об отсутствии у философии предмета продолжаются. Современный норвежский философ Ларс Свендсен пишет: «… справедливо будет утверждать, что зачастую философия вообще не имеет никакого предмета, а скорее занимается размышлениями о предметах. Другими словами, предметом философии может быть все, что угодно, а потому попытка дать определение философии через ее предмет начисто лишена смысла» [Свендсен, 2017, с. 23]. Позволим себе не согласиться со Свендсеном. Развивая линию мысли Чанышева и Горана с учетом высказанных выше соображений, мы можем сформулировать определение философии таким образом: философия – теоретическая форма мировоззрения, в рамках которой мироздание рассматривается со стороны понятий, при этом выявляются смысловые конструкции, изучаются закономерности их существования и создаются новые системы понятий. Выражение «теоретическая форма мировоззрения» указывает на понятийную и аргументативно-критическую основу философского мышления. Метамировоззренческий характер философии фиксируется, когда мы говорим, что философия рассматривает мироздание со стороны понятий. Данное определение позволяет отделить философию от допонятийного мифологического сознания, от образно-понятийного, но не критического религиозного мировоззрения, от искусства, для которого понятийно оформленный критицизм нехарактерен, и от науки, которая фокусируется не на концептуальных схемах, а на чувственно воспринимаемых обстоятельствах и на конкретных способах реализации смысла. Полученную дефиницию можно использовать как рабочее определение в контексте проблемы генезиса философии2.
1 Горановское определение мировоззрения на первый взгляд не противоречит тому определению мировоззрения, которое дал А. Н. Чанышев в книге «Начало философии»: «Под мировоззрением мы понимаем здесь прежде всего духовное освоение мироздания с определенной точки зрения – с точки зрения взаимоотношения таких основных частей мироздания, как природа и человек. Объект мировоззрения – мир в целом. Но предмет мировоззрения, т. е. то, что мировоззрение выделяет прежде всего в объекте, – это именно отношение мира природы и мира человека, макрокосмоса и микрокосмоса. <...> Мировоззрение – это система образов и представлений или понятий и категорий, ориентированная на вопрос о месте людей в природе, в мироздании как таковом ...» [Чанышев, 1982, с. 38-39]. Однако аргументация В. П. Горана против использования понятия мировоззрения в качестве рода для понятия философии [Горан, 2007, с. 20-51] выявляет существенную недоопределенность, присущую подобным представлениям о мировоззрении. В. П. Горан говорит, что основной вопрос мировоззрения (отношение человека и мироздания) не совпадает с основным вопросом философии (отношение мышления и бытия) [Горан, 2007, с. 20-51]. Действительно, указанные вопросы не тождественны. Но в зависимости от трактовки эти вопросы могут не совпадать по‑разному. Они могут не пересекаться друг с другом, если мышление жестко противопоставляется бытию, исключается из мироздания, а человек при этом признается физическим объектом и частью мироздания. Если мышление рассматривается как сторона человеческого существования и включается в мироздание вместе с человеком, то основной вопрос мировоззрения и основной вопрос философии могут соотноситься как проблема и подпроблема.
2 Нельзя не заметить некоторых проблем, сопряженных с выбором данного определения. Если искусство – скорее образная форма восприятия мира, чем понятийная, а мифологическое мышление древних людей многими исследователями расценивается как допонятийное, то как можно представить себе философию искусства и философию мифологии? Ведь философия предполагает работу с понятиями. Развернутый ответ на этот вопрос не вписывается в рамки данной статьи. Он требует специального исследования. Однако уже сейчас можно сказать, что изучение концептуальных конструкций подразумевает постижение их эволюции и границ, которое становится возможным при сопоставлении понятий с тем, что понятиями не является.
Об авторах
Л. М. Зеленкина
Новосибирский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: l.zelenkina@g.nsu.ru
старший преподаватель кафедры философии Института философии и права ул. Пирогова, д. 1, Новосибирск, Россия
Список литературы
- Горан, В. П. (2007). Теоретические и методологические проблемы истории западной философии. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 269 с.
- Зеленкина, Л. М. (2002). Проблема спецификации философии в контексте проблемы генезиса философии. Философия: история и современность. 2001-2002. Науч. ред. В. П. Горан, В. Н. Карпович. Новосибирск: Изд-во НГУ. С. 245-259.
- Свендсен, Л. (2017). Философия философии. М.: Прогресс-Традиция. 280 с.
- Чанышев, А. Н. (1982). Начало философии. М.: Изд-во МГУ. 184 с.
- Чанышев, А. Н. (1999). Философия Древнего мира. М.: Высш. шк. 703 с.
- Шлик, М. (2006). Позитивизм и реализм. Журнал “Erkenntnis” («Познание»). Избранное. М.: Изд. дом «Территория Будущего», Идея-Пресс. Т. III. С. 283-309.
Дополнительные файлы