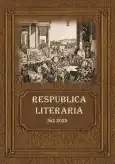Reflections on the Concept of Philosophy in the Works of V. Goran
- Autores: Maslov D.K.1
-
Afiliações:
- National Research University Higher School of Economics
- Edição: Volume 6, Nº 2 (2025)
- Páginas: 54-70
- Seção: DEDICATED TO THE ANNIVERSARY OF V. P. GORAN
- URL: https://journal-vniispk.ru/2713-3125/article/view/305638
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2025.6.2.54-70
- ID: 305638
Citar
Texto integral
Resumo
In the present article, some reflections on the concept of philosophy are made in the light of the definition of philosophy as a reflexive meta-worldview theory, proposed by Vasily Pavlovich Goran. The reflections pertain to the currently popular trend of conceptual engineering, that allows for a different meta-philosophical perspective presenting philosophy as a special kind of activity of working with the most fundamental concepts.
Palavras-chave
Texto integral
I
Философия и ее сущность как предмет исследования в последнее время вызывают постоянный интерес. Сегодня для обозначения исследований о философии популярен термин метафилософия, или иногда используется философия философии1. Основной круг вопросов такого исследования состоит в том, чем является философия, в чем ее задачи, границы (по отношению к другим дисциплинам и практикам) и методология.
В течение последних десятилетий увидело свет множество статей и книг по этому вопросу, относящихся к разным течениям, как за рубежом, так и в России. В рамках аналитической традиции существует как минимум один журнал (Metaphilosophy), посвященный исследованию философии. Среди прочих работ вышли книги Даммета [Dummett, 2010], Уильямсона [Williamson, 2007], Решера [Rescher, 2014]. Эта тенденция находит отражение и в дискуссиях в отечественных журналах [Никифоров, 2009; Васильев, 2019а; Williamson, 2019; Скрипник 2020]. Помимо этого, в русскоязычной среде не утихают споры о понятии и природе аналитической философии [Шрамко, 2007; Шохин, 2013, 2015, 2018а, 2018б, 2024; Целищев, 2018; Джохадзе 2016; Скрипник, 2018; Макеева, 2019; Васильев, 2019б].
В рамках континентальной традиции определение философии давали (и это весьма неполный список): [Хайдеггер, 1992; Ортега-и-Гассет, 1991; Делез, Гваттари, 1998]. Сегодня весьма популярны такие подходы, как антифилософия и не-философия [Laruelle 2013], темное просвещение и пр., которые также высказываются о сути философии, как правило, в нормативном ключе. В немецкой философской традиции ведутся длительные дебаты о сущности философии и метафизики, ее raison d'être. Можно выделить сборник “Warum noch Philosophie?” [Ackeren et al., 2008], не считая бесчисленного количества работ по метафизике, например “Wozu Metaphysik?” [см.: Erhard et al., 2018]. Стоит заметить, что в немецкой философской традиции термин «метафизика», как правило, используется для обозначения исследования основных проблем философии, что также включает (или отграничивает) практические контексты.
В русскоязычном пространстве еще в советское время этой тематике было посвящено несколько работ [Ойзерман, 1969; Потемкин, 1980; Мамардашвили, 1992], и в пост-советское время этот интерес, так или иначе, продолжился [Бибихин, 2009; Потемкин, 2003; Никифоров, 2001].
К определению философии можно подходить нормативно, что нередко соседствует с малым или отсутствующим интересом к истории философии и попыткой начать все с чистого листа2. Такой подход либо отвечает новым вызовам, либо стремится пересмотреть неудачи прошлой философии, и поэтому он несет с собой (или как минимум претендует на) определенный элемент новизны. Особенно это касается новых вызовов, и это связано с возникновением потребности в осмыслении и концептуализации новых дискурсов и практик. Иной способ связан с изучением уже существующей философии, исследованием устройства и функциональности эмпирически данных проектов и систем в истории философии [ср.: Горан, 1996, с. 6]; такой подход дает понимание философии на сегодняшний день, и, пожалуй, можно охарактеризовать его как историю духа в терминах Р. Рорти [Рорти, 2017; см. также: Джохадзе, 2017; Философия и ее история…, 2021]. Эти подходы представляют собой идеальные типы, и в действительности все попытки осмыслить философию так или иначе содержат соотношение указанных подходов, так что и нормативные философы не могут избежать отказа от эмпирического материала из истории философии [Васильев, 2019а, с. 8], равно как и историки философии не свободны от нормативности. Нормативность проявляется и в самой истории философии, и это служит основанием актуальности философии прошлого, ее идей и аргументов для настоящего, и также это выражается в том сходстве и преемственности основных позиций, которые можно наблюдать в истории философии.
К дескриптивному подходу относится концепция философии, предложенная Василием Павловичем Гораном, которая, как кажется, незаслуженно обойдена вниманием [Горан, 1996, 1997, 2007]. Василий Павлович продолжает советскую традицию философствования, развивая идеи Гегеля, Маркса и Ленина, он предлагает понятие философии как рефлексивной мета-мировоззренческой теории [Горан, 2007, с. 30; Горан, 1996, с. 13]. Мировоззрение оказывается родовым типом познания, и сама философия является видом мировоззрения. Под последним понимается совокупность взглядов на мир и нас самих, т. е. определенное понимание того, что такое мир и какое место мы в нем занимаем. В частности, в ранней статье Горан пишет: «Речь идет о том, что философию следует специфицировать не как теоретическое мировоззрение, а как мировоззренческую теорию, причем теорию особого рода. Это – такая теория, для которой мировоззрение есть ее объект. Или, другими словами, по отношению к мировоззрению это – теория метауровня. Ее язык можно квалифицировать как метаязык, тогда как язык мировоззрения – как объектный язык. Задача философии – выявление концептуальных оснований мировоззрения соответствующего субъекта (не только и не столько индивида, но и той или иной социальной общности) соответствующей эпохи, теоретическое обоснование этих его концептуальных оснований и уже на этой теоретической основе – дальнейшая проработка собственно мировоззренческих вопросов» [Горан, 1996, с. 13].
Особо стоит выделить то, что философия понимается как деятельность в отношении мировоззрения: «Философия и есть метамировоззренческая теория, теория метауровня по отношению к тому мировоззрению, концептуальные основы которого она выявляет и обосновывает» [Там же]. Философия оказывается по времени следующей за, вторичной, в некотором смысле паразитической деятельностью в отношении других практик, предметных областей и дискурсов (мировоззрения), которая выступает в разных функциях.
Философия является теорией, т. е. логически упорядоченной, претендующей на систематическую полноту понятийной деятельностью. Прежде всего задача философии состоит в выявлении концептуального содержания мировоззренческих представлений, а затем – в конструировании концептуальных основ такого мировоззрения. За этим следует процесс обоснования [Горан, 1997, с. 5-6]. Стоит отметить, что за этим также может следовать перестройка, критика, легитимация и т. д., т. е. концептуализация не обязательно имеет оправдывающий характер, но может выступать и в критической функции.
В этом отношении понимание философии как деятельности метауровня, носящей рефлексивный характер, также находит свое отражение и в современной немецкой философии. Пирмин Штекелер понимает философию или метафизику как комментарий над нашими речевыми практиками и объектными областями речи. Штекелер выбирает для этого название «логическая география», которое восходит к Райлу и даже Канту [см.: Stekeler-Weithofer, 2023, p. 166; Stekeler-Weithofer, 2025, in print]. Последний метафорически именовал так Юма [Kant, 1900f., AA 3, A760/ B 788], и конечно понимал таким образом и свою деятельность. Здесь стоит вспомнить его метафорику картографии, мореплавания и поиска земли, а также расчерчивания границ и функций разума [см.: Kant, 1900f., АА 5 p. 192-3].
Философия играет служебную роль в отношении мировоззрения, однако Горан уравнивает ее в целом с разумом и рациональностью, рациональной деятельностью по экспликации, классификации, обоснованию и т. д., основанной на аргументации. Такая служебная роль оказывается доминирующей, вполне в духе диалектики господина и слуги, в духе гегелевской метафоры. Горан пишет: «Ее служебная роль того же рода, что и служебная роль разума для человека. Разум – “слуга” человека, но такой “слуга”, который, как правило, руководит своим “господином”. Хотя возможны и ситуации, когда разум бывает и “отстраненным” от такого руководства, например, ситуации чрезвычайного эмоционального возбуждения человека. Но такие ситуации и выявляют пределы власти разума над человеком, демонстрируя, что разум – всего лишь одно из орудий человека, а не человек орудие разума как чего-то самодовлеющего» [Горан, 1997, с. 14-5].
Разумеется, в истории философии достаточно примеров, когда философия понимается как не и внеразумная деятельность (зачастую это связано с «анти-философами», такими как Шопенгауэр и Ницше). Сам вопрос о рациональном характере и методике философии оказывается метафилософским. Даже такая деятельность критики самого разума при всем отрицании определенных концепций разума (как правило, в роли такого чучела выступает Гегель) прибегает к изощренной аргументации, явной или неявной. Поэтому такая философия все же движется в рамках минимальной рациональности как понятности (хотя иногда и пытается из нее выйти), если использовать определение рациональности Г. Шнедельбаха [см.: Шнедельбах, 2018].
Таким образом, Василий Павлович Горан сводит философию к мировоззрению, обслуживание которой является ее «единственной» или, скорее, родовой функцией. Она не только выявляет содержание, но и логически организовывает его в теорию, а также обосновывает на метауровне [Горан, 2007, с. 48]. В целом Горан выделяет метамировоззренческую функцию, которая распадается на праксиологическую (а также ее подфункцию – социальную), гносеологическую, и аксиологическую, онтологическую, логическую, идеологическую (как подфункцию аксиологии), а также методологическую [Горан, 2007, с. 49-51].
Итак, философия играет также и активную, направляющую и легитимирующую роль в отношении дискурсов. Она занимается тем, что является не первым для нас (привычные или известные дискурсы и понятия), но первым по природе, если использовать понятия Аристотеля, т. е. так или иначе известными, но в определенном смысле скрытыми от нас принципами и правилами, которые понимаются как фундаментальные для нашей привычной речи. Мы всегда уже живем в нормативном мире, упорядоченном по правилам, зачастую не осознавая этих правил и принимая их за данность. Только контексты разрыва указывают на нормы и функции, пробуждают наше осознание их3. Как правило, потребность в философском размышлении особенно остро возникает при радикальных переменах в мировоззрении или в терминологии марксистов, в общественном сознании, так что такая экспликация имеет целью восстановление убеждений, легитимацию новых и т. д. Самые яркие примеры – это классический период развития философии, связанный с кризисом полисного устройства в Афинах и фигуры Сократа, Платона и Аристотеля, стоиков как философов эпохи эллинистических монархий и римской империи; Кант и немецкий идеализм как попытка осмыслить просвещение и революцию и т. д.
Сама традиция рассматривается как то, что подвластно влиянию теоретических выводов исследований по философии, и полученные выводы: «… могут способствовать как ее укреплению, так и изменению, расшатыванию, разрушению» [Горан, 1996, с. 8]; это происходит в моменты возникновения «трещин в мировоззренческом сознании» [Там же, с. 13]. В другом месте Горан пишет: «Философия всегда оказывала значительное влияние на жизнь общества, в том числе и на практическую его составляющую» [Горан, 2007, с. 49], т. е. философия как деятельность играет направляющую роль в отношении убеждений, так что определенная философия как бы закладывает основы будущего «мировоззрения» или системы убеждений.
Это отсылает нас к теме взаимодействия и влияния теоретической деятельности на общество, человечество и его историю. Горан прямо выделяет в ней вопрос об отношении мышления к бытию как основной для философии [Горан, 1997, с. 8]. Однако он на самом деле скрывает за собой вопрос о том, насколько философия (как и наука – в некотором смысле ее порождение) может влиять на процессы в мире и обществе, и насколько философия может менять мир. Выше мы указали на его мысль о том, что философия оказывает влияние на общество, из чего следует сделать вывод о том, что «идеализм» в конечном счете неустраним4. На это указывает то, что философия влияет на практику путем работы с понятиями, что является разумной целесообразной деятельностью, которая является условием объективности и вообще существования теории (и истины) как таковой. Более того, марксистское понятие «средств производства» и производственных отношений, которые рассматриваются как сугубо «материалистические», уже включает в себя целерациональность и телеологию, что, в сущности, является элементом «идеализма». Разумеется, эти короткие указания еще не развиты в полновесную аргументацию и их следует прочитывать как приглашение к размышлению.
Итак, стоит согласиться с таким выделением подфункций. Однако, по нашему мнению, Горан делает больший упор на философии как мировоззрении, тогда как стоит сделать упор на ней как на определенного рода (хотя и теоретической!) деятельности, связанной с изучением и изменением понятий.
II
Вопрос о сущности той теоретической деятельности, которая называется философией (или метафизикой), относится к ведению самой философии5. Философия является понятийной деятельностью, несмотря на свой статус теории; тем самым традиционное, строгое разделение философии на теорию и практику оказывается проницаемым и в некоторых контекстах иррелевантным. Философия – это не только и не столько миро-воззрение (Weltanschauung), сколько и миро-созидание: по крайней мере, это касается теоретического образа мира, а также социального мира.
Философия является также понятийной деятельностью, т. е. предметом ее исследования и воздействия являются понятия. Кант писал, что все события совершаются по правилам [Кант, 1980, с. 319], и понятия являются этими правилами. Они так или иначе отражают мир, а не являются просто «конвенциями», т. е. они объективны. Эта объективность имеет различную степень модальной жесткости – от отражения свойств объектов в науке до установленных норм и правил принятого поведения в сообществе. (Поспешным было бы объявлять физические тела более «реальными», однако оставим в стороне этот вопрос.) Философия как дисциплина исследует категории и понятия наиболее общего характера, т. е. их применение в разных областях знания. Так, мы говорим о философии науки (физики, биологии и т. д.), исследуем такие категории и понятия, пронизывающие разные предметные области и практики, как благо, причинность, мир, бог, красота и т. д. Философия не исследует предметный мир напрямую, но из этого, однако, не следует делать вывод, что философия оторвана от опыта, – напротив, ее отношение к опыту опосредованно понятиями и категориями, при этом она играет серьезную роль. Ее значение поэтому определяется тем, что понятия и категории оказываются формирующими, направляющими опыт. Философия исследует эти понятия, и поэтому хотя она и находится над непосредственным или повседневным опытом, проживаемым через понятия, она связана с ним, влияет и испытывает воздействие и оказывает влияние.
Совокупность понятий и суждений, в которых они появляются, составляет тело знания6. Такое знание устроено инференциально, т. е. это логическое пространство, наполненное содержанием и оформленное на основании логических правил следования, непротиворечия и т. д. Знание находится в постоянном изменении и движении, как в обыденной речи, так и в речи ученых и философов. Статичная картина в отношении знания и истины выступает в качестве нормативного идеала как полная и законченная совокупность всех истинных утверждений, однако было бы ошибочно гипостазировать этот идеал. Тело знания постоянно развивается. Система – тело знания – устроена холистически, так что изменение некоторого понятия в конечном счете повлияет на всю сеть понятий, хотя это изменение займет какое-то время.
Философская деятельность заключается в работе с понятиями (как правило) высшего уровня, их создании или элиминации, в изменении или сохранении. Так говорят про понятие стола, лошади и пр., а не об этой или другой особи или об особенностях вида лошадей или столов. Разумеется, понятия семантически относятся к предметам (предметы подпадают под понятия) или понятиям низшего уровня (субординация понятий), которые так или иначе относятся к предметам. Понятия высшего уровня – это правила / принципы для работы с понятиями объектного уровня, часто они называются категориями.
Философия осуществляет работу над понятиями особого рода, понятиями метауровня или категориями, – тем самым она обозревает и в некотором смысле формирует все понятия. В современных дебатах сходная тематика получила название «концептуальная инженерия», однако, пожалуй, на русский язык это может быть переведено как «понятийное строительство». Эта деятельность пронизывает всю философию и историю философии – в частности, экспликация, уточнение, «припоминание» (анамнесис у Платона, recollection Брэндома) также относятся к такой работе с понятиями.
Философия – это работа по изменению понятий для их лучшего функционирования в разных отношениях и лучшего соответствия разного рода стандартам. Как правило, добродетелями понятий считаются точность и однозначность, однако эти свойства не исчерпывают требования к понятиям. Прежде всего, эти понятия должны отвечать теоретическим или практическим проблемам и предлагать их решение, которое выражается в понятийном прогрессе, что концептуальные инженеры выяснили для себя только недавно [Queloz, 2022]. (Гегель называл такое изменение определенным отрицанием, так что понятийное новшество оказывается ответом на теоретическую или практическую проблему, должно отвечать некоторым нуждам, разрешать «противоречие».)
В силу своего фундаментального характера философские понятия выражают практики, так что философия призвана совершать работу в отношении понятий, что принимает различные формы в зависимости от контекста. В отличии от антифилософов, я утверждаю, что подлинное изменение подготавливается и осуществляется именно на уровне понятий, и позже на уровне практики, поскольку мы способны изменять их, и если понятие укореняется, то это приводит к самым существенным и долгосрочным изменениям, особенно в случае философских концепций. В этом состоит правильное прочтение мысли, скрывающейся в знаменитом 11 тезисе Маркса о Фейербахе, поскольку заклинаемое действие рождается из предшествующего понятия (пусть и смутного), так что действие – это осуществление, Verwirklichung понятия. В определенном отношении практика следует за понятиями, хотя это двусторонний или круговой процесс, так что изменение практики дает основание для рефлексии и выделения новых понятий, отражающих совершившиеся изменения в уточненных и до определенного момента закрепленных понятиях. Это слишком большая и сложная проблема для обсуждения в рамках статьи, однако стоит заметить, что и изменение практик на низшем уровне абстракции также сопровождается неосознанным и неконтролируемым изменением понятий обыденного мира. Часто это происходит в виде смещения значений терминов, т. е. правила (понятия) претерпевают эволюционное изменение «сами по себе», а не посредством контролируемого и сознательного вмешательства философов или ученых.
Это ставит ряд вопросов о том, в чем состоит наша способность изменять понятия и насколько мы способны вызывать изменения в практиках, соответствующих понятиям, в долгосрочной перспективе, и какова степень, и глубина нашего воздействия. Иными словами, это вопрос о том, каковы пределы нашего влияния на нас самих и мир посредством понятийного строительства, насколько это действительно в нашей власти и каковы пределы возможного.
III
Философия является определенного рода практикой, деятельностью. Как и всякая речь, философия – это практика суждений или употребления понятий, в том числе и относящихся к сфере практического, действий. Так, справедливость – это совершение справедливых поступков и т. д. Философия как речевая и понятийная деятельность также является видом прагматических и перформативных речевых актов. Философия делает что‑то и, занимаясь философией, мы делаем что-то, что не является просто речью или словами. Это в общих чертах указывает на связь философии с (социальным) миром. Отсюда возникает вопрос о ее соотношении с практикой вообще, который мы уже затронули в первой части статьи.
Аристотель отличал созерцательные науки от практических и пойетических, так что наука и философия относились именно к теории, созерцанию, и строго противопоставлялись практике как гражданской и этической деятельности в рамках полиса, и тем более противопоставлялись производящей, пойетической или технической деятельности ремесленников и художников [Аристотель, 1975, Met. I 2, 982а, 982b 3, VI 1 1025 23-26]. Кант также отделял теоретическую философию от практической на том основании, что в практической действие совершается на основании идеи свободы и особого рода причинности, свойственной воле разумных существ. Действия в теоретической философии направляются правилами, свойственными для нее, т. е. согласно понятию необходимости; построение треугольника происходит по правилам, которые не ведут свое начало из свободы, но принадлежат миру природы, подчиняющемуся замкнутой причинности, хотя сама познавательная деятельность – это проявление свободы. Кант в «Критике способности суждения» выделял такие правила, как технически-практические [Kant 1900f, АА 5, S. 2-3, 172-4]. В отличии от них Платон связывал действие с познанием, обладанием понятиями (эйдосами), так что правильные действия рождаются из правильного познания.
Философия – это понятийная деятельность над особого рода понятиями, абстрактными сущностями, не имеющими прямых референтов в материальном мире. Такие понятия являются правилами, направляющими объектные понятия, и они задают наше включение и исключение объектов в классы и связанные с этим действия. Понятия не следует рассматривать как только лишь ментальные образы, населяющие наш ум, но скорее они – это интерсубъективные (или по выражению Пирмина Штекелера – транссубъективные, т. е. «объективные» правила, доступные индивидам и группам, но не сводимые только к конвенциям; такие правила относятся к объектам, миру [см. работу Дэвидсона: Davidson, 2001]). Можно сломать артефакт, например, стул, и это, как правило, не возбраняется, однако убийство живого существа, как правило, возбраняется, то есть понятия несут в себе скрытую нормативность – по меньшей мере prima facie не следует убивать или плохо обходиться с живым существом. Сами понятия выражают, описывают, в некоторых случаях направляют нашу речь, практики и события в мире.
Практика и понятия, если мы разумеем их как правила, процессы или действия, проистекающие по правилам, оказываются двумя сторонами одной медали. Понятия – это абстрагированная практика, практика – это «живые», живущие понятия. Понятия выражают наши практики, а наши практики направляются понятиями, в том числе относящимися к социальной сфере, такими как справедливость, свобода и т. д. Очевидно, что часто используются разные понятия, выражаемые одними терминами, что создает двусмысленность и может служить источником путаницы. Устранение двусмысленности (disambiguation) также относится к понятийной деятельности. Разумеется, следует отличать теоретическую или понятийную деятельность per se от действия согласно понятиям в действительности. Связующим звеном prima facie являются, разумеется, перформативные речевые акты, когда высказывание и составляет деяние. Однако всякое осмысленное действие, т. е. действие в собственном смысле слова так или иначе уже укоренено в понятии (различении вещей и правил обхождения с ними).
Понятия находятся, по крайней мере, в определенной степени в нашей власти. Это значит, что мы можем менять понятия. Если мы меняем наши понятия, то мы меняем наши практики; также и изменение практик может приводить к изменению (философских) понятий. Однако, как кажется, смена практики осуществляется именно через понятия как среду и посредника, поскольку такие изменения происходят целесообразно и преследуют некоторую пользу; изменение понятий повседневного уровня затем находит выражение в письме и теории. Следует помнить, что, как правило, понятия подвижны и / или расплывчаты в нашем использовании, – они живут7.
Наша проблема состоит в выяснении соотношения понятий и понятийной практики, т. е. действия согласно понятиям (в конечном счете – более или менее эксплицитной теории). Эта проблема восходит к знаменитому 11 тезису Маркса о Фейербахе. В современности, да и самим Марксом, это соотношение было понято не совсем верно и, как правило, совсем неверно среди последователей Маркса в романтическом, героическом ницшеанском ключе произвольного воздействия на мир. Популярен взгляд, что изменение понимается Марксом как дело практики, а не философии (интерпретации), поскольку философия понимается как бесплотное умствование, не способное к действию само по себе. Тем самым, он сформулировал теоретическую позицию, утверждающую главенство практики по отношению к теории, напоминающую разделение теоретической и практической рациональности по Аристотелю. В некотором смысле такая позиция, критикующая «кабинетные умствования», верна, однако в основном она промахивается в своей критике философии.
Это напряжение между теорией (абстрактными понятиями) и практикой весьма характерно иллюстрируется следующим курьезным примером из истории, быть может, впервые представляемым отечественному читателю. Дитер Хенрих, один из ведущих историков немецкой философии послевоенного времени, вспоминает про конфронтацию Ильи Теодоровича Ойзермана с немецкими студентами в 1968 г. В ответ на вопрос о том, как они относились к марксизму в странах «восточного блока», т. е. к марксизму-ленинизму, он писал следующее: «Когда студенческий бунт уже выдыхался, я пригласил Теодора Ильича Ойзермана на философский семинар в рамках моих попыток установить контакты внутри советской империи. Ойзерман был русским евреем и видным представителем той части советской философии, которая фокусировалась на Гегеле. Он дожил до 103 лет, кстати, и до самой смерти (в 2017 г.) он был по обыкновению не прочь выпить (trunkfreudig), если я могу доверять информации из Москвы. Для студентов, конечно, было большим событием услышать речь советского марксиста на немецком языке. Но Ойзермана тут же раскритиковали за то, что он ничего не сказал о политической практике. В ответ на его позицию, что теория – это руководство практикой, ему было сказано, что характер его лекции был совершенно немарксистский. Он резко возразил: “Вы враждебно относитесь к теории, а это совершенно не по-марксистски. Последний из тезисов Маркса о Фейербахе: “Философы лишь интерпретировали мир по-разному, тогда как дело в том, чтобы изменить его”. Но они его интерпретировали! Без рациональной интерпретации мира одно лишь желание изменить его слепо и иррационально”. Поучительно было наблюдать, как советский философ противоречил студентам, которых прежде всего волновало действие как таковое, с совершенно неожиданной стороны» [Henrich, 2021, p. 133].
Такое различие понимания соотношения интерпретации (понятийной работы) и действия представлено и в самой теории. Выше упомянуты проекты анти- и не-философии, которые являются определенным ответом (традицией ответов) на проблему соотношения философии как теории и практики. Антифилософия предстает как предпочтение действия над теорией (этот термин предпочитает Бадью). Очень огрубляя, можно сказать, что не‑философия стремятся выйти из философии как (по их мнению, пустого) теоретизирования или слить теорию и действие воедино [Laruelle, 2013]. Тем самым, как представляется, совершается попытка устранения зазора между словом и делом, «субъектом и объектом» и т. д. Это представляется интересной стратегией, у которой, однако, имеются свои проблемы. Здесь весьма уместна отсылка к идеям Адорно, высказанным им в «Негативной диалектике». Известно, что такие философы, как Фуко и Деррида, как, вероятно, и многие другие, мыслили в русле или находились под прямым влиянием франкфуртцев; в любом случае, French theory так или иначе развивает идеи, высказанные ими. Адорно так открывает «Негативную диалектику»: «Философия, которая однажды казалась преодоленной, продолжает жить, потому что был упущен момент ее осуществления» (курсив мой – Д. М.) [Adorno, 1966, p. 13]8. Там же он добавляет, что, возможно, виной этому служит то, что существующая интерпретация не дотягивает до осуществления обещанного перехода к практике. Отсюда проистекает пессимизм и пораженчество в отношении разума. Это, по его мысли, приводит к тому, что после провала философии в том, что она оказывается единой с реальностью (очевидная отсылка к тезису Гегеля), она должна подвергнуть себя беспощадной критике. Его рецепт – это отказ от «тождества» мышления, которое подчинено логике калькулятивного мышления, и попытка выхода в сферу не-тождества, что бы это ни значило. Итак, по мнению Адорно, сама теория оказывается недостаточной или ущербной, неспособной осуществить себя в практике, бесплотной тенью. Тем не менее ни революционный порыв социалистов всех видов не достиг своих целей, несмотря на попытки реального социализма, ни тем более Адорно с его парадоксальной попыткой изобрести другое мышление (что также относится и к Хайдеггеру).
Отдельной темой будет исследование адекватности понимания мысли Гегеля Адорно, впрочем, как и адекватности предложения последнего. Скорее следует согласиться с мыслью, намеченной Ойзерманом. Любое действие следует из определенной интерпретации или понятийной работы, которая задает правила для мышления, суждения и действия. Изменение происходит не в результате действия, но инициируется понятийной работой, исходя из которой и за которой следует действие9. Действия без понятий слепы и даже не могут быть квалифицированы как действия в некотором смысле, понятия без действия пусты. Отказ от теории и понятийной работы невозможен или же наивен. Всякому действию предшествует понятийная работа, и именно на уровне понятия и теории совершается настоящее изменение10. Если какое-то долгосрочное и глубокое действие, изменение возможны, они возможны только на основании предшествующей и сопутствующей понятийной деятельности, которая направляет нашу практику. Высшей формой такой деятельности является философия как такая деятельность, которая работает с наиболее фундаментальными понятиями.
В связи с этим можно кратко представить несколько ключевых проблем.
Очевидно, что мы можем менять наши понятия (а не просто термины или слова), примером чему служит история мысли в широком смысле. Однако также очевидно, что мы ограничены в своих возможностях изменения понятий в разных отношениях, прежде всего в том, насколько изменение понятий приведет к изменению в практиках, скажем, социальных. Можем ли мы на самом деле менять понятия? Как далеко простирается такая способность? Насколько изменение понятий зависит от нашего произволения и планирования? Каковы условия для того, чтобы изменения понятий были приняты сообществом и подействовали? Иными словами, насколько мы можем контролировать и направлять свое существование в коллективных практиках посредством понятий?
Пожалуй, здесь, при первом приближении, можно выделить два варианта, которые я бы обозначил как модель Гегеля и модель Маркса, и они касаются произвольного изменения.
Попытки романтического, прекраснодушного отказа от мира (что напоминает Хайдеггера, Адорно и сходных критиков разума) ввиду того, что мир не отвечает нашим представлениям о справедливости и доброте и пр., Гегель отвергал как (неразумное?) прекраснодушное требование (Sollen) или хотение воплощения идеала в действительности. Тезис Гегеля о действительности и разумности не следует прочитывать так: если мы полагаем, что нечто должно быть таким-то и таким-то, то оно должно воплотиться именно в таком виде. Эти попытки он рассматривал как наивные. Р. Пиппин в крайней форме выразил это так: «Для Гегеля задача философии состоит в том, чтобы познать [мир], а не изменить. Это так по простой причине, которую Маркс никогда собственно не понимал: она неспособна на это» [Pippin, 2008, p. 272]. (Тем не менее, хотя изменение и совершается духом, но оно регистрируется в философии, которая начинает свою работу с завершения процесса своего предмета.)
С другой стороны, можно представить себе обладание «единственно истинной» теорией, за которой должна следовать практика, которая легитимизирует все или практически все. Иной вариацией этого является «романтическое» стремление к воплощению утопии и «фантазий» посредством волевого действия или, может быть, даже понятийной работы. Однако проблема в том, что такие попытки часто терпят крах, потому что понятия и мир не изменяются желаемым нами образом. Это вызывает разочарование в разуме и силе теории – антифилософские (ре)сентименты. Отсюда вытекает необходимость правильно понять принципы, способность и дальнодействие, укоренение наших способностей изменять понятия в философии как философскую деятельность и пытаться применять это на практике через работу с понятиями. Требуется срединный путь между предложенными альтернативами.
Итак, на основе продуктивного и укорененного в традиции понятия философии как рефелексивной метамировоззренческой теории Василия Павловича Горана были предложены некоторые размышления о философии как активной понятийной деятельности, которая носит активный и формирующий характер для нашего употребления понятий. В этом сочетаются нормативный и дескриптивный подходы: с одной стороны, в этом ретроспективно угадываются мотивы в истории философии, однако, с другой стороны, осознание такой активной роли философии (в том числе как речевой практики) накладывает нормативные требования на философию и обязательства к осмыслению ее не просто как отражающей и постигающей мир. Тем самым в определенном смысле философия оказывается не просто воззрением на мир, но систематической теоретической работой над понятием, и тем самым в некоторой степени конструированием мира. Этот вывод касается отношения теории и практики, которые понимаются как стороны использования понятий, однако требуется дальнейшее исследование в отношении принципов, условий возможности, пределов нашей способности произвольно менять понятия, и тем самым наши практики мысли и действия.
1 К метафилософии в широком смысле можно отнести и мета-метафизику, мета-этику, экспериментальную философию и пр., т. е. дисциплины, отвечающие на вопрос о «что» и «как» в философских субдисциплинах.
2 Ср. кантовский принцип рассмотрения метафизики как не случившейся дисциплины (“als ungeschenen anzusehen”; [Kant, 1900f., AA IV, p. 255, ср. AA 3, КЧР B 23-4], или же еще более резкий тезис Крипке о том, что вся предшествующая философия ложна.
3 В этом контексте стоит рассматривать знаменитое понятие Angst, предложенное Хайдеггером, описывающее состояние, пробуждающее наше осознание структур посредственности и вырывающее из повседневности, а также Zuhandenheit и сбой в функционировании такой подручности и т. д.
4 Как писал Гегель, дух, или сознание и мышление, является идеалистом в собственном смысле вообще [см.: Hegel, 1970, TWA 5, p. 173; Гегель, 1975, НЛ 1, с. 222], поскольку он «снимает», т. е. переносит содержание внешнего мира в себя через ощущение, представление и т. д. Разумеется, это не влечет за собой частое и неверное прочтение Гегеля как идеалиста, который говорит о Духе, Боге и пр. в трансцендентном, сугубо догматическом смысле. Эти понятия вводятся как тематические для рассмотрения сложных процессов человеческой практики и институтов познания и совместного бытия, и бога следует понимать в аристотелевском смысле как фигуру мыслящей себя сущности.
5 В отличии от других наук, поскольку история физики является отдельной от физики дисциплиной и в целом может рассматриваться как не имеющая значения для текущих исследований. Подобно метафилософии, история философии изучается самой философией. Более того, известно возражение против полного отказа от философии в пользу науки (в духе Хокинга), которое гласит, что вопрос о том, что такое наука, является, в сущности, философским, следовательно, философия неустранима.
6 Гегель называл это Arbeit am Begriff; однако и тот коллективный субъект, осуществляющий эту работу, есть также Понятие, так что мы также говорим и про Arbeit des Begriffs [см.: Маслов, 2022, 2023; Maslov, 2025 in print]. Разумеется, иная, более привычная терминология имеет то же содержание, что и гегелевские понятия, как, например, наука у Куайна, нормативность и институциональный мир Серла, логический универсум рассуждений Селларса или припоминание Брэндома и т. д.
7 Это позволяет некоторым философам утверждать, что это не мы говорим языком, но язык говорит в нас / нами. Ср. хайдеггеровское: die Sprache spricht.
8 Разумеется, сам Адорно во время протестов 1968 г. остался совершенно пассивен в смысле практики, за что и подвергся известному Busenattentat.
9 Насколько мне известно, сходную мысль высказывал Аббаньяно.
10 Из этого не следует, что из любой теории автоматически следует ее воплощение или действие, как на это надеются утописты.
Sobre autores
D. Maslov
National Research University Higher School of Economics
Autor responsável pela correspondência
Email: dkmaslov@hse.ru
Candidate of Philosophical Sciences, Research Fellow at the International Laboratory of Logic, Linguistics and Formal Philosophy Staraya Basmannaya Str., 21/4, building 1, Moscow, Russia
Bibliografia
- Aristotle. (1975). Essays in four volumes. Vol. 1. Metaphysics. About the Soul. Moscow. (In Russ.)
- Bibikhin, V. V. (2009). The Reading of Philosophy. Saint Petersburg. (In Russ.)
- Vasiliev, V. V. (2019a). Metaphilosophy: History and Perspectives. Epistemology and Philosophy of Science. Vol. 56. No. 2. Pp. 6-18. (In Russ.)
- Vasiliev, V. V. (2019b). What is Analytic Philosophy and why it is Important to Ask? Philosophy Journal. Vol. 12. No. 1. Pp. 144-158. (In Russ.)
- Hegel, G. W. F. (1975). Science of Logic. In 3 vols. Vol. 1. Moscow. (In Russ.)
- Goran, V. P. (1996). Philosophy. What it Is? Philosophy of Science. No 1 (2). Pp. 3-14. (In Russ.)
- Goran, V. P. (1997). Philosophy. What it Is? Part II. Philosophy of Science. No. 1 (3). Pp. 3-15. (In Russ.)
- Goran, V. P. (2007) Theoretical and Methodological Problems of History of Western Philosophy. Novosibirsk. (In Russ.)
- Dzhokhadze, I. D. (2016). Analytic Philosophy Today: Identity Crisis. Logos. Vol. 26. No. 5. Pp. 1-18. (In Russ.)
- Dzhokhadze, I. D. (2017). Rorty and His History of Philosophy. In Rorty R. Historiography of Philosophy: Four Genres. Moscow. Pp. 4-48. (In Russ.)
- Deleuze, J., Guattari, F. (1998). What is Philosophy? Zenkin, S. N. (transl.). St. Petersburg. (In Russ.)
- Kant, I. (1980). Treatises and Correspondence. Moscow. (In Russ.)
- Maslov, D. K. (2022). The Notion in Hegel’s Subjective Logic. Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science. No. 70. Pp. 119-136. (In Russ.)
- Maslov, D. K. (2023). Making Sense of Hegel’s Dialectic: What Kind of a Method is it? Logos. Vol. 33. No. 2. Pp. 103-142. (In Russ.)
- Mamardashvili, M. K. (1992). How I Understand Philosophy. Moscow. (In Russ.)
- Nikiforov, A. L. (2001). Nature of Philosophy. Foundations of Philosophy. Moscow. (In Russ.)
- Nikiforov, A. L. (2009). Nature of Philosophy. Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science. No. 3 (7). Pp. 7-17. (In Russ.)
- Oiserman, I. T. (1969). Problems of Historical-Philosophical Science. Moscow. (In Russ.)
- Ortega-y-Gasset, J. (1991). What is Philosophy? Moscow. (In Russ.)
- Potemkin, A. V. (1980). The Problem of Philosophy’s Nature in the Diatribic Tradition. Rostov on Don. (In Russ.)
- Potemkin, A. V. (2003). Metaphilosophical Diatribes at Kisiterinka. Rostov on Don. (In Russ.)
- Rorty, R. (2017). The Historiography of Philosophy: Four Genres. Moscow. (In Russ.)
- Skripnik, K. D. (2018). Analytic philosophy: identity crisis and quest for identity. Logos. Vol. 28. No. 6. Pp. 224-233. (In Russ.)
- Skripnik, K. D. (2020). Metaphilosophy and Philosophical Methodology: Towards the Points of Consideration. The South Pole. Research on the History of Modern Western Philosophy. Vol. 6 (1 2). Pp. 16-26. (In Russ.)
- Volf, M. N. (ed., transl.). (2021). Philosophy and its History. Discussions. Training Manual. Novosibirsk. (In Russ.)
- Heidegger, M. (1992). What is Philosophy? Vladivostok. (In Russ.)
- Tselishev, V. V. (2018). Analytic Philosophy and Revisionism Beyond the Bounds. The Philosophy Journal. Vol. 11. No. 2. Pp. 138-155. (In Russ.)
- Schnedelbach, G. (2018). Philosophy as a Theory of Rationality. Logos. Vol. 28. No. 2. Pp. 225 247. (In Russ.)
- Shokhin, V. K. (2013). What Exactly is Analytical Philosophy? In Defense and Strengthening of “Revisionism”. Questions of Philosophy. No. 11. Pp. 137-148. (In Russ.)
- Shokhin, V. K. (2015). Analytic Philosophy: Some Unbeaten Tracks. The Philosophy Journal. Vol. 8. No 2. Pp. 16-27. (In Russ.)
- Shokhin, V. K. (2018a). A New Phenomenon: Emotions run high for Analytic Philosophy. The Philosophy Journal. Vol. 11. No. 4. Pp. 106-114. (In Russ.)
- Shokhin, V. K. (2018b). Analytical Philosophy in Search of a Subject. Epistemology and Philosophy of Science. Vol. 55. No. 1. Pp. 8-25. (In Russ.)
- Shokhin, V. K. (2024). Analytical Philosophy: Has it Finally been Defined? (Hans Johann Glock. Analytical Philosophy as it is). Logos. Vol. 34 (6). Pp. 297-320. (In Russ.)
- Shramko, Ya. V. (2007). What is Analytic Philosophy? Epistemology and Philosophy of Science. Vol. 11. No. 1. Pp. 87-110. (In Russ.)
- Ackeren, M., Kobusch, T., Müller, J. (eds.) (2008). Warum noch Philosophie? Historische, systematische und gesellschaftliche Positionen. Berlin. De Gruyter.
- Adorno, T. W. (1966). Negative Dialektik. Frankfurt am Main. Suhrkamp.
- Davidson, D. (2001). Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford. Clarendon Press.
- Dummett, M. (1993). The Origins of Analytical Philosophy. London. Duckworth.
- Dummett, M. (2010). The Nature and Future of Philosophy. New York. Columbia University Press.
- Erhard, C., Meißner, D. Noller, J. U. (eds.) (2018). Wozu Metaphysik? Historisch-systematische Perspektiven. München. Karl-Alber Verlag.
- Henrich, D. (2021). Ins Denken ziehen: Eine philosophische Autobiographie. München. C. H. Beck.
- Kant, I. (1900f.). Gesammelte Werke. Akademieausgabe. Berlin. De Gruyter.
- Laruelle, F. (2013). Philosophy and Non-Philosophy. Univocal Publishing.
- Maslov, D. (2025). (forthcoming). Metaphysics: from Explication to Conceptual Engineering. A Reply to Pirmin Stekeler-Weithofer. Epistemology and Philosophy of Science. (In print)
- Pippin, R. (2008). Hegel’s Practical Philosophy. Rational Agency as Ethical Life. NY. Cambridge University Press.
- Rescher, N. (2014). Metaphilosophy: Philosophy in Philosophical Perspective. Lanham. Lexington Books.
- Stekeler-Weithofer, P. (2023). Nature, Spirit and Their Logic. Hegel’s Encyclopaedia of the Theoretical Sciences as Universal Semantics. The Philosophy Journal. Vol. 16. No. 2. Pp. 165-175.
- Stekeler-Weithofer, P. (2025). On the Transcendental Turn of Metaphysical Reflections. Practical forms Presupposed in a Full Language. Epistemology and Philosophy of Science. (In print)
- Queloz, M. (2022). Function-Based Conceptual Engineering and the Authority Problem. Mind. Vol. 131. Iss. 524. Pp. 1247-1278.
- Williamson, T. (2007). The Philosophy of Philosophy. Oxford. Blackwell.
- Williamson, T. (2019). Armchair Philosophy. Epistemology and Philosophy of Science. Vol. 56. No. 2. Pp. 19-25.
Arquivos suplementares