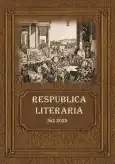The Impact of Communication on Human Identity: Argumentation Analysis
- Authors: Skripkina T.K.1
-
Affiliations:
- Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 6, No 2 (2025)
- Pages: 153-162
- Section: SOCIOCULTURAL IDENTITY AND HISTORICAL DYNAMICS
- URL: https://journal-vniispk.ru/2713-3125/article/view/305641
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2025.6.2.153-162
- ID: 305641
Cite item
Full Text
Abstract
The article presents a brief overview of the scientific discussion on the influence of communication processes on the construction, development and destruction of human identity. The argumentation of two key positions within this discussion is reconstructed. It is shown that the supporters of one of the points of view characterize the influence of communication on the formation and development of identity as constructive, and from the point of view of their opponents, involvement in communication processes contributes to the destruction of a stable human identity or complicates its formation. Conclusions are made that the position in the discussion depends on the grounds on which, from the point of view of the authors of the approach, the concept of identity is based, in connection with which each of the approaches can be applied to solve a certain range of research problems depending on the object and purpose of the study.
Keywords
Full Text
Современный человек в ходе осуществления своих повседневных практик оказывается неизбежно вовлечен в широкий спектр коммуникативных ситуаций, формальных и неформальных, межличностных, групповых и массовых, вербальных и невербальных, а в отдельных случаях коммуникация может осуществляться не только с другими людьми, но и с цифровыми алгоритмами. Это позволяет утверждать, что одним из инструментов производства смыслов в современной социальной реальности становятся коммуникационные процессы. Частным случаем такого производства можно назвать воздействие на идентичность человека, т. е. на его устойчивые представления о себе самом.
В исследованиях, посвященных анализу влияния коммуникационных процессов на становление и трансформацию идентичности человека, признано установленным фактом то, что данное влияние существует [Кириллина, 2023, с. 154]. Это явление в последние годы находится в фокусе внимания различных научных направлений: социологи исследуют коммуникацию в процессе социализации человека и механизмы его включения в социальную систему [Барышева, 2022, с. 169], специалисты в области психологии рассматривают влияние коммуникации на формирование личности [Максимова, Федорова, 2025, с. 105], работы философов нацелены на оценку роли тех или иных типов медиа в процессах формирования «Я» человека [Труфанова, 2010, с. 19], а культурологи и антропологи обращают внимание на то, каким образом коммуникативные ситуации опосредуют взаимодействие индивида с дискурсом той социокультурной реальности, в которой он находится [Олешкова, 2023, с. 72]. В целом, вне зависимости от специфики конкретных исследований, авторы работ соглашаются с тем, что участие в коммуникативных ситуациях, а также отдельные характеристики таких ситуаций, являются в числе факторов, оказывающих влияние на формирование, развитие, поддержание или разрушение идентичности человека.
Однако сохраняется дискуссия относительно того, в чем данное влияние заключается и какие именно эффекты – позитивные или негативные – оказывают коммуникационные процессы на конструирование идентичности человека. Существует множество подходов к исследованию данной проблемы, но в целом их можно разделить на две крупные традиции. Сторонники первой отстаивают позицию о том, что включенность в коммуникационные процессы является необходимым условием становления, развития или реализации идентичности. Представители второй традиции утверждают, что вовлечение человека в коммуникационные процессы, особенно множественные, способствует нарушению целостности его «Я», и, следовательно, разрушению идентичности.
При рассмотрении подобных дискуссий распространенными направлениями анализа являются: определение, какая позиция в большей мере обоснована; оценка корректности приведенных аргументов, а также степени релевантности того или иного подхода для проведения практико-ориентированных исследований. Однако мы придерживаемся той точки зрения, что позиция каждой из сторон дискуссии может быть обоснованной, но базироваться на различных посылках и подходить для различных направлений работы. В связи с этим в рамках данной работы мы планируем предпринять попытку обосновать применимость позиции каждой из сторон дискуссии к различным категориям практико-ориентированных задач. Для этого мы сосредоточимся на каждом из двух вышеупомянутых полемизирующих подходов, проанализируем позиции, выдвигаемые философами, психологами, социологами и культурологами, разделяющими ту или иную точку зрения, выделим специфику их аргументации и ключевые методологические различия, а затем охарактеризуем релевантные для данных направлений области эмпирических исследований.
Прежде чем перейти к анализу конкретных подходов, уточним значение ключевых понятий. В рамках данной статьи мы будем, вслед за И. В. Лысак, трактовать термин «идентичность» как ощущение субъектом самотождественности и непрерывности своего существования во времени и пространстве, а также некую устойчивость индивидуальных, социокультурных, национальных или цивилизационных параметров, позволяющих ответить на вопрос «Кто я?» [Лысак, 2017, с. 136]. Что касается коммуникации, то мы обратимся к широкой трактовке этого понятия, предлагаемой Н. А. Ореховской, и будем определять это явление как «взаимодействие между субъектами, осуществляющими обмен мыслями и идеями», которое позволяет установить контакты между субъектами коммуникации, выстроить стратегию взаимодействия, а также организовать совместную деятельность социальных агентов [Ореховская, 2016, с. 106]. Определившись с ключевыми понятиями, перейдем к рассмотрению содержания исследуемой дискуссии.
Коммуникация как инструмент конструирования и репрезентации идентичности
Начнем рассмотрение данной дискуссии с анализа позиции, согласно которой коммуникация является одним из если не ключевых, то неотъемлемых оснований становления, конструирования и развития идентичности человека. Рассмотрим несколько точек зрения, представленных в рамках различных исследовательских подходов.
Среди ключевых социологических текстов изложение данной позиции можно найти в работе Дж. Г. Мида «Разум, Я и общество» [Mead, 1972], посвященной формированию самости человека. В данном тексте автор использует понятие “self”, как правило, переводимое на русский язык как «Я» или «самость». Автор трактует это явление как способность человека осмыслять и переживать в опыте самого себя, причем значимым признаком “self” является его целостность [Ibid., p. 136], поэтому, несмотря на некоторое терминологическое расхождение, в данной статье мы будем считать его синонимичным понятию «идентичность». Говоря о формировании “self”, автор характеризует это понятие как «нечто развивающееся; оно не дано с самого начала, от рождения, а вырастает в процессе социального опыта и деятельности» [Ibid., p. 135]. При этом одним из необходимых условий освоения такого опыта автор прямо называет коммуникацию: «… индивид переживает самого себя как такового в опыте не непосредственно, но лишь косвенным образом, с особых точек зрения других индивидуальных членов той социальной группы, к которой он принадлежит, или же с обобщенной точки зрения этой социальной группы в целом» [Ibid., p. 138]. Также автор, выделяя два компонента “self” – “I”, обозначающее представление человека о самом себе, и “me”, отражающее представления человека о том, как его воспринимает окружение [Ibid., p. 175], акцентирует внимание на том, что для функционирования каждого из данных элементов взаимодействие с социальным окружением является одним из необходимых условий, поскольку в первом случае речь идет, в частности, о самовыражении индивида (одной из значимых форм которого выступает трансляция различного рода сообщений) [Ibid., p. 200], а во втором – об обобщении социального опыта, полученного от окружения, что также подразумевает включенность в коммуникацию [Ibid., p. 197]. Таким образом, в данном случае коммуникация постулируется как критерий конструирования идентичности человека посредством усвоения и осмысления социальных ожиданий, которые окружение транслирует индивиду в ходе коммуникации, а также следования или сопротивления этим ожиданиям. Каждый из указанных процессов подразумевает включенность в различного рода коммуникативные ситуации.
В рамках культурологического подхода схожие утверждения можно найти в работах М. Бахтина, хотя и несколько в ином контексте: рассуждая о потенциале самовыражения человека в мире, он отмечает «несамодостаточность, невозможность существования одного сознания. Я осознаю себя и становлюсь самим собою, только раскрывая себя для другого, через другого и с помощью другого» [Бахтин, 1986, с. 172]. Далее М. Бахтин пишет о том, что формирование самосознания человека, неотъемлемой, с точки зрения автора, части его идентичности, происходит «на границе своего и чужого сознания», а изоляция и отрыв от взаимодействия – это «основная причина потери себя самого» [Там же]. В данном случае, хотя и отстаивается та же позиция, что и у Дж. Мида, используются иные аргументы. Если в рамках предыдущего подхода акцент сделан на социальном контексте, социальных ожиданиях и формировании у человека представлений о самом себе, и, следовательно, конструировании идентичности, то позиция М. Бахтина сосредоточена на проблеме возможностей проявления человека в мире: вступить в коммуникационную ситуацию – значит раскрыть себя миру, проявить себя во взаимодействии с другими участниками коммуникации. В данном случае ключевой аргумент касается не формирования идентичности человека и усвоения культурных паттернов, а возможностей для проявления и утверждения этой идентичности в мире. Однако ключевая позиция остается прежней: для того, чтобы идентичность человека, его «Я», могло раскрыться, взаимодействие с окружением, в том числе коммуникационное, выступает одним из необходимых условий.
Многие представители психологического подхода также обращаются к анализу данного вопроса. Рассмотрим в качестве примера работу Дж. Келли «Теория личностных конструктов» [Kelly, 2003]. Согласно позиции автора, личность человека организована набором «личностных конструктов» – более или менее устойчивых представлений о реальности, «способов истолкования мира», которые основываются на пережитом опыте и используются для выстраивания стратегий взаимодействия с окружением [Ibid., p. 7]. Конструкты могут как сохраняться в структуре личности, так и отбрасываться, если их использование для прогнозирования реальности и выстраивания поведенческих стратегий оказывается неэффективным [Ibid., p. 56]. Таким образом, сохранение и развитие идентичности человека – т. е. целостности его личности – напрямую зависит от того опыта, который человек получает, взаимодействуя с внешним миром. Как и в случае с подходом Дж. Мида, такой опыт оказывается тесно связан с процессами коммуникации, хотя и в несколько ином ключе: построение личностных конструктов неразрывно связано с процессом интерпретации полученного извне социального опыта (в том числе в рамках коммуникативных ситуаций) [Ibid., p. 65], а также с анализом отклика на попытки использовать тот или иной опыт при построении поведенческих стратегий, что также требует включенности в коммуникационные процессы [Ibid., p. 57]. Кроме того, в некоторых случаях передачи опыта личностные конструкты могут «передаваться от одного человека другому», будучи транслируемыми агентом коммуникативной ситуации, а затем воспринимаемыми и заново интерпретируемыми реципиентом, что автор уже напрямую связывает с процессом коммуникации [Ibid., p. 7]. Таким образом, как формирование новых личностных конструктов, так и разрушение тех, что показали свою неэффективность, – это процессы, от которых зависит конструирование и развитие идентичности человека, и которые невозможны без включения в различные коммуникативные ситуации.
Если обратиться к современным философским подходам, то в рамках этого направления один из ярких представителей данной традиции – британский философ Р. Харре, который, опираясь на работы Л. Витгенштейна, Л. Выготского и Дж. Брунера, утверждает, что формирование «Я» индивида неизбежно происходит в процессе коммуникации с другими людьми в рамках определенной культуры. С его точки зрения, «индивидуальные и приватные употребления символических систем, которые конституируют мышление, формируются в результате межличностного дискурсивного процесса, являющегося главным свойством человеческого окружения» [Харре, 2007, с. 19]. То есть ключевым элементом формирования и развития идентичности человека становится его включение в тот или иной культурный дискурс, а также конструирование сознания на основе символических систем в рамках данного дискурса и освоение навыков взаимодействия с такими системами. В качестве необходимого способа знакомства с символическими системами и формирования навыка оперирования ими утверждается использование различных элементов дискурса в процессе коммуникации с другими людьми.
Таким образом, сторонники данной позиции, отстаивая утверждение о том, что коммуникация не просто оказывает положительное влияние на становление и развитие идентичности человека, но и является его необходимым условием, исходят из посылки о том, что формирование идентичности происходит в ходе взаимодействия человека с миром, а коммуникация в широком смысле представляет собой один из ключевых инструментов такого взаимодействия и, следовательно, может оказывать влияние как на конструирование и развитие, так и на проявление идентичности. Данный подход представляется наиболее перспективным в рамках исследований культурной и социальной идентичности, а также для анализа процессов социализации человека и воздействия индивида на культурный дискурс.
Коммуникация как фактор разрушения идентичности человека
Если говорить о противоположной стороне дискуссии, то сторонники данной точки зрения утверждают, что вовлеченность в коммуникационные процессы оказывает негативное влияние на идентичность человека и даже способствует ее разрушению, поскольку взаимодействие с миром (в частности, коммуникативное) нарушает единство и автономию «Я» человека.
Наиболее широко эта позиция представлена в работах исследователей психологического направления. Так, например, К. Герген утверждает, что вовлеченное во множество коммуникативных процессов, фрагментированное, «насыщенное» (в оригинале – saturated) «Я» перестает быть целостным, теряет свою монолитную идентичность, а потому, в конечном счете, исчезает, постепенно теряя свои элементы в каждом из актов коммуникации [Gergen, 1991, p. 18]. В данном случае аргументация строится на предположении о том, что ключевой элемент идентичности человека – его автономия и независимость от окружения. В связи с этим в данном контексте ставится вопрос уже не о конструировании или реализации, а о сохранении идентичности человека, причем подразумевается, что это должно быть сохранение от воздействий извне. И это сохранение становится возможным только при поддержании максимально возможной независимости человека от контактов (в том числе коммуникационных) с окружением.
В рамках социологического подхода одним из примеров данной точки зрения можно назвать позицию З. Баумана. Автор обосновывает идею о том, что в условиях «текучей современности» – т. е. ситуации, когда социальная реальность теряет устойчивую форму и, подобно жидкости или газу, оказывается под воздействием постоянных изменений [Бауман, 2008, с. 8], – человек сталкивается с необходимостью постоянной адаптации к стремительно меняющейся «текучей» реальности. Если для мира эпохи модерна ключевой задачей была необходимость сохранения стабильной, «фиксированной» идентичности, то в условиях текучей современности на первый план выходит стремление такой фиксации избежать [Бауман, 1995, с. 133]. Более того, даже в контексте переживаемого человеком личного опыта идентичность также оказывается «хрупкой, уязвимой и постоянно раздираемой внутренними силами, раскрывающими ее текучесть, и внешними течениями, угрожающими разорвать на куски и унести любую воспринятую форму» [Бауман, 2008, с. 92]. Способом репрезентации идентичности становится не принадлежность к той или иной группе, как это было характерно для эпохи модерна [Там же, с. 118], а специфические формы потребления, которые в данном случае оказываются одной из форм коммуникации: используя те или иные стратегии потребления, человек «сообщает» миру о себе [Там же, с. 92]. При этом поскольку под воздействием моды социально одобряемые стратегии потребления постоянно трансформируются и каждый раз человек сталкивается с необходимостью транслировать новые «сигналы», то его идентичность оказывается подвергнутой постоянным колебаниям, а поддержание ее стабильности оказывается невозможным [Там же, с. 96]. Таким образом, идентичность в прежнем понимании, характерном для эпохи модерна, оказывается разрушена в том числе под воздействием коммуникативных процессов – в данном случае процессов репрезентации человека посредством сигналов, связанных с формами потребления.
Если обратиться к культурологическому подходу, то интересную интерпретацию этой позиции можно найти в работе А. В. Коневой и А. А. Лисенковой. Обращаясь к феномену цифровой коммуникации, авторы акцентируют внимание на «онтологии мобильности» – новой форме социальной реальности, где каждый социальный агент оказывается перманентно если не включен в коммуникационные процессы, то доступен для них [Конева, Лисенкова, 2018, с. 215]. В таких условиях «идентичность человека становится конструктивной, представляя собой воплощение тоффлеровского “модульного Я”, отражающего принцип детского конструктора LEGO» [Там же], а человек испытывает потребность в поиске «связующего стержня», который позволит ему ощутить свою позицию в мире ясно и однозначно [Там же]. Другая проблема, связанная с цифровой реальностью, по мнению авторов, – это проблема «видимости»: для того, чтобы ощутить собственное существование, индивиду необходимо постоянно «присутствовать» в цифровой среде [Там же, с. 216]. Отталкиваясь от этих двух посылок, А. В. Конева и А. А. Лисенкова утверждают, что одним из инструментов «верификации» идентичности человека в цифровой среде становится цифровое фото или, точнее, конкретный его жанр «селфи» [Там же, с. 226]. Однако этот инструмент, транслируя и утверждая существование человека в цифровой реальности, при этом превращает его собственное бытие в «бытие под взглядом», что нарушает автономию идентичности человека и заменяет ее транслируемой видимостью. Сама же идентичность в таких условиях оказывается если не разрушенной, то как минимум неустойчивой.
В рамках философского подхода схожую позицию формулирует Е. О. Труфанова, хотя и в более мягкой формулировке, чем предыдущие авторы. С одной стороны, исследовательница не отрицает, что формирование идентичности происходит в процессе освоения социального опыта, а возможность для выражения «Я» обеспечивает текст, т. е. коммуникативный акт [Труфанова, 2010, с. 14]. Однако, развивая эту идею, автор опирается на концепцию «протеевской идентичности» – понятия, введенного Р. Дж. Лифтоном. Автор исходного термина обращается к мифологическому образу Протея – персонажу, постоянно и вынужденно меняющему собственный облик, – и утверждает, что современный человек, будучи включенным в широкий спектр различных взаимодействий, не исключая коммуникативные, подобно Протею оказывается неспособен сформировать стабильную идентичность [Lifton, 1993]. При этом одним из факторов формирования такого типа идентичности исследователи называют специфику современных средств массовой информации, которая приводит к «взаимопроникновению культур, непрестанному обмену культурными ценностями и способности к моментальному распространению информации из одного конца мира в другой» [Труфанова, 2010, с. 19]. Современный человек, неизбежно включенный в медиасреду, оказывается в тесном контакте с различными, порой противоречивыми культурными паттернами, что, согласно данному подходу, затрудняет формирование устойчивой идентичности. Кроме того, включенность в коммуникативные процессы и множественность социальных статусов приводят к формированию множества «Я-образов», что усложняет структуру «Я» и затрудняет построение единой системы идентичности [Там же, с. 21]. При этом, хотя Е. О. Труфанова и утверждает, что в современном мире подобная ситуация неизбежна, в отличие от предыдущих авторов исследовательница не считает, что это обязательно приводит к разрушению идентичности человека: если социальный агент будет «сам выбирать, как именно, на каком фундаменте и из каких элементов ему конструировать свое Я и свою идентичность» [Там же, с. 22], то разрушения идентичности можно избежать.
Таким образом, ключевой аспект данного направления дискуссии – это рассмотрение идентичности человека как некоей более или менее устойчивой автономной структуры, которая при взаимодействии (в том числе коммуникативном) с окружением может быть нарушена. Учитывая специфику трактовки как понятия, так и механизмов функционирования идентичности, данный подход наиболее релевантен для исследования «внутренних» процессов идентичности человека, анализа его ментальных состояний, самосознания и автономии «Я» в рамках психологического и философского подходов. Кроме того, данный подход позволяет исследовать воздействия различных уровней коммуникационной и информационной нагрузки на идентичность человека.
Заключение
Итак, в рамках данной статьи представлено содержание дискуссии о влиянии коммуникативных процессов на идентичность человека на материале социологических, психологических, культурно-антропологических и философских подходов. Охарактеризованы две традиции, которые различным образом трактуют данную проблему: представители одной точки зрения утверждают, что коммуникация является как минимум одним из необходимых условий конструирования и развития идентичности, представители второй позиции настаивают на том, что вовлечение в коммуникацию способствует разрушению устойчивой структуры идентичности человека.
Ключевое различие между данными позициями в дискуссии зависит от того, что именно авторы рассматривают в качестве основного параметра, конструирующего идентичность человека, – его вовлеченность в некоторый социокультурный дискурс или автономию от какого бы то ни было окружения. Эти основания можно рассматривать в качестве критериев применимости данных подходов к тем или иным направлениям эмпирических исследований влияния коммуникационных процессов на идентичность человека в зависимости от объекта и методов данных исследований.
В связи с вышесказанным, можно утверждать, что подходы, принадлежащие к первой традиции, корректно использовать в качестве теоретического основания для эмпирических исследований, посвященных проблемам социализации человека, взаимодействия индивида и дискурса, а также анализу специфики социальной и культурной идентичности. Идеи, озвученные представителями второй стороны дискуссии, могут лечь в основу эмпирических исследований, посвященных анализу внутренних состояний человека и их трансформаций под влиянием коммуникативного воздействия.
About the authors
T. K. Skripkina
Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: Skripkina-BSC11@yandex.ru
Junior Researcher Nikolaeva Str., 8, Novosibirsk, Russia
References
- Barysheva, Yu. S. (2022). Socialization and Enculturation of Russian Children and Teenagers in the Digital Environment: Main Problems and Research. Bulletin of Moscow State Linguistic University. Humanities. No. 1 (856). Pp. 166-176. (In Russ.)
- Bauman, Z. (1995). From Pilgrim to Tourist. Sociological Journal. No. 4. Pp. 133-154. (In Russ.)
- Bauman, Z. (2008). Liquid Modernity. St. Petersburg. (In Russ.)
- Bakhtin, M. M. (1986). Aesthetics of Verbal Creativity. Moscow. (In Russ.)
- Kirillina, N. V. (2023). Real and Perceived Identity in the Digital Environment. Communicology. No. 11 (2). Pp. 150-157. (In Russ.)
- Koneva, A. V., Lisenkova, A. A. (2018). “A Day Without a Selfie Is Wasted”, or Digital Visual Strategies of Self-Identification. Bulletin of Tomsk State University. Cultural Studies and Art Criticism. No. 32. Pp. 214-228. (In Russ.)
- Lysak, I. V. (2017). Identity: The Essence of the Term and the History of its Formation. Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science. No. 38. Pp. 130-138. (In Russ.)
- Maksimova, L. N., Fedorova, A. V. (2025). Modern Personality in the Information Society from the Standpoint of Socio-Psychological Knowledge. Bulletin of the Volga Region Institute of Management. No. 25 (1). Pp. 103-115. doi: 10.22394/1682-2358-2025-1-103-115 (In Russ.)
- Oleshkova, A. M. (2023). “Newspeak” as a Way of Discursive Construction of Identity. Society: Philosophy, History, Culture. No. 4 (108). Pp. 68-73. (In Russ.)
- Orekhovskaya, N. A. (2016). On the Definition of the Concept of “Social Communication”. Social and Humanitarian Knowledge. No. 2. Pp. 104-109. (In Russ.)
- Trufanova, E. O. (2010). Man in the Labyrinth of Identities. Questions of Philosophy. No. 2. Pp. 13-22. (In Russ.)
- Harre, R. (2007). Philosophy of Mind as a Problem of Philosophy and Science. Epistemology & Philosophy of Science. № 4. Pp. 13-29. (In Russ.)
- Gergen, K. (1991). The saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life. N.Y.
- Kelly, G. (2003). The Psychology of Personal Constructs. Vol. 1. A Theory of Personality. London. Routledge.
- Lifton, R. J. (1993). The Protean Self. Human Resilience in an Age of Fragmentation. N.Y.
- Mead, G. H. (1972). Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago and London. The University of Chicago Press.
Supplementary files