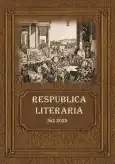Coexistence of Philosophical Traditions in Pivotal Turning Points of the History of Philosophy
- Authors: Streltsov A.M.1
-
Affiliations:
- Institute of Philosophy and Law SB RAS
- Issue: Vol 6, No 2 (2025)
- Pages: 110-123
- Section: DEDICATED TO THE ANNIVERSARY OF V. P. GORAN
- URL: https://journal-vniispk.ru/2713-3125/article/view/305643
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2025.6.2.110-123
- ID: 305643
Cite item
Full Text
Abstract
The article treats coexistence of philosophical schools at the pivotal turning points within the history of philosophy. V. P. Goran in his methodology, views such turning points as an integral part of the periodization of the history of philosophy, which implies determination of the historical-philosophical process within his framework. Dealing with historical-philosophical material, apart from Hegelian or Marxist discourse, allows for other interpretations, such as viewing different philosophical trends as philosophical traditions in conflict, with its outcome far from being predetermined. It is thus demonstrated that dependence of historical-philosophical reconstruction on philosophical stance of an historian of philosophy, enables representations of alternative scenarios characterizing pivotal turning points in the history of philosophy, which is not without its relevance in continuing “turns” of the modern age.
Full Text
В монографии «Теоретические и методологические проблемы истории западной философии» [Горан, 2007], ставшей одной из ключевых в историко-философской карьере Валентина Павловича Горана, при обсуждении фундаментальных проблем теории историко-философского процесса он уделил особое внимание проблеме его детерминации и периодизации (соответственно, гл. II первой части его исследования). Горан подразделяет историко-философские эпохи на «эволюционные» и «переломные» [Там же, с. 67, 73]. К переломным эпохам Горан причисляет генезис самой философии, период возникновения христианской философии и эпоху Возрождения.
Нас, как автора настоящей статьи, интересовали две из этих переломных эпох. Пересечениям терминологии в неоплатонической и христианской философии в эпоху поздней античности была посвящена наша диссертация, а по нюансам мировоззренческих конфликтов эпохи Реформации и особенно Просвещения как идейного преемника Ренессанса или Возрождения выпущен ряд статей. В этой связи поднятая Василием Павловичем проблематика переломных эпох нам не чужда, и мы полагаем, что для историка философии во многом эти эпохи способны пролить свет на понимание самого процесса сохранения и распространения философского знания несмотря на меняющийся – временами резко и необратимо – внешний контекст.
В данном исследовании мы изложим позицию Горана в отношении периодизации историко-философского процесса и особенно так называемых «переломных эпох» в истории философии, после чего попытаемся сопоставить его исследование как с рассмотрением отдельных примеров сосуществования историко-философских школ или традиций в исследуемые эпохи, так и с трактовкой этого вопроса в рамках иных, чем у Горана, подходов.
Горан признает сложность проблемы детерминации историко-философского процесса и различные подходы к ней, при этом саму проблему он изначально полагает реальной, а не псевдопроблемой. В качестве одного из крайних подходов Горан выделяет позицию Р. Рорти, который выступает за контингентность (а не исторически детерминированный характер) различных философских языков сменяющих друг друга эпох. С точки зрения Горана, признание со стороны Рорти, что целые сообщества людей по какой-то причине подхватывают возникшие в сознании отдельных людей философские представления [Горан, 2007, с. 57; Рорти, 1996, с. 55], выявляет непоследовательность и противоречивость его позиции, поскольку, если сообщество начинает в рамках своего исторического контекста использовать общие для него представления, это уже служит демонстрацией того, что характеризуется как «не случайное, а, напротив, закономерное и исторически детерминированное» [Горан, 2007, с. 58]. Таким образом, в отношении историко-философского процесса рассматривается дихотомия «случайность – детерминация», причем случайность отвергается Гораном как невозможная.
С другой стороны, в исследовании подвергается критике упрощенный подход к детерминации, который Горан характеризует как «вульгарный социологизм» [Горан, 2007, с. 58]. Этому подходу он противопоставляет основанную на гегелевской философии концепцию детерминированного исторического развития, которую сам он называет «самодетерминацией» [Там же, с. 59]. Таким образом, генезис самой проблематики детерминации историко-философского процесса рассматривается в известной концепции раскрытия абсолютной идеей собственного содержания в процессе развертывания истории. Историко-философский материал, согласно Горану, становится тогда в том числе «источником саморазвития философии» [Там же, с. 66].
Выделяются три глобальных периода историко-философского процесса: античный, средневековый и нововременной, которые обозначаются как «эволюционные» [Горан, 2007, с. 67]. В Большом толковом словаре эволюция в философском смысле определяется как форма развития природы и общества, состоящая в постепенном количественном изменении, подготавливающем качественное изменение [Кузнецов, 2000]. Таким образом, в некотором смысле наименование процесса «эволюционным» уже подразумевает трактовку его с точки зрения гегелевской диалектики.
Эволюция проявляется в том, что античности свойственен акцент на онтологии, средневековье помимо онтологии обращает внимание на гносеологию (отношения типа Бог – мир, но также и знание – вера, реализм – номинализм), а в новое время основной темой становится собственно гносеология (субъект-объектный подход) [Горан, 2007, с. 68-70].
Также различия проводятся по отношению к самой традиции. Античности свойственен рационализм, при этом нет почтения к традиции. Для средневековья, наоборот, характерен «особый пиетет к традиции» [Там же, с. 71, 72], причем традиция понимается как восходящая в самому Богу. В новое время вновь преобладает критическое отношение к традиции, происходит атака на «корпоративизм».
Каждой эпохе тогда соответствует и определенный способ философствования, совпадающий с делением европейской истории. Далее рассматриваются переходы от одной эпохи к другой. Горан считает, что именно марксизм предложил «наиболее адекватную … историческую концепцию» переходов от одной эпохи к другой [Там же, с. 73]. Вводится, таким образом, ключевое для Горана понятие переломные эпохи в истории философии. В эти эпохи отрицается предыдущий способ философствования и создается новый. Горан обращает особое внимание на «феномен переломности как таковой», который он также понимает в смысле марксистской философии [Там же, с. 74]. Исследователь выделяет 4 переломные эпохи: 1) возникновение самой философии, 2) формирование христианской религиозной философии, 3) эпоха Возрождения, 4) современная эпоха.
С нашей точки зрения, если говорить об историко-философском процессе с точки зрения сосуществования философских направлений или соперничества сменяющих одна другую философских школ, то уместно говорить все-таки о двух переломных эпохах, а не четырех. Генезис самой философии как переход к философскому типу мышления, которое не было представлено ранее, не позволяет рассматривать этот «перелом» в смысле последующих пограничных или переломных эпох. Это не переход от одного типа философии к другому, а появление философии как таковой. Проблема зарождения западной философии в древнегреческом обществе по-своему уникальна и до сих пор не решена, подтверждением чему служат многочисленные интерпретации, ни одна из которых пока не смогла добиться широкого консенсуса исследователей.
С другой стороны, настоящая эпоха пока не позволяет нам, находящимся изнутри процесса, оценить какова новая и другая модель, приходящая на смену современной философии, и имеется ли она. Большое видится на расстоянии, так что выводы такого рода можно будет сделать только спустя много лет. Даже если, как утверждается, выделенные на примере других эпох признаки переломности присущи и современной эпохе [Горан, 2007, с. 74], это вполне может быть аберрацией восприятия.
С учетом этого, две оставшиеся переходные или переломные эпохи оказываются связанными с христианской философией: в первом случае она пришла на смену философии поздней Античности, во втором – сама уступила ведущие позиции нововременной философии, занявшей по отношению к ней и особенно схоластике, как ее ведущему направлению, резко критическую позицию.
В своем исследовании Горан разворачивает целый механизм процесса смены историко-философских концепций или способов философствования. Общественные формы имеют решающее влияние на историко-философские процессы, хотя в более спокойные эволюционные эпохи зависимость философии от социальной истории не так наглядно проявляется. А в переломных эпохах социально-историческая обусловленность историко-философского процесса становится очевидной. В переломную эпоху проявляется «экстраординарная острота противостояния старых и новых мировоззренческих ориентаций» [Горан, 2007, с. 75]. Нарастают кризисные явления – настроения, критические по отношению к господствующей до этого традиции, причем критика становится в некотором роде испытанием для существующей модели философствования, проверяющим ее на прочность: «Человек становится философом через приобщение (даже в форме критики) к определенной, к тому времени уже сложившейся философской традиции» [Там же, с. 96]. Когда же перелом завершается, старые тенденции «оказываются в тени» [Там же]. Таким образом, переломная эпоха заканчивается и уступает место новой продолжительной эволюционной эпохе с присущей ее стабильностью.
***
Поднятая Василием Павловичем Гораном проблематика переломных эпох как существенных частей историко-философского процесса заслуживает серьезного внимания историков философии. С одной стороны, в контексте столкновения старого и нового, в ситуации соперничества или конфликта различных философских подходов возможно более наглядно увидеть присущие самим философским школам подходы. Внутренний механизм конкретной философии раскрывается в противостоянии с ее философским соперником на контрасте, что происходит даже при попытке заимствования отдельных элементов из соперничающих школ. Такое впечатление производят, в частности, отдельные усилия неоплатоников IV–V вв. по созданию собственного философского канона и поддерживаемых ими теургических практик.
Хотя для полного представления об историко-философской методологии В. П. Горана следует обратиться к самой его монографии, уже из вышеприведенного обзора релевантной для наших целей ее части очевидно, что предлагаемый им подход обусловлен его марксистской философской позицией. С учетом такой позиции полученный им результат выглядит ожидаемым, но является ли он, так сказать, детерминированным с точки зрения любого другого историка философии?
И это, в свою очередь, создает любопытную коллизию, с одной стороны, между самими дисциплинами философии и истории философии, а с другой – между философской позицией самого исследователя и предлагаемой им реконструкцией историко-философского процесса. Как отмечают сами историки философии, при описании современных дискуссий в своей предметной области, с одной стороны, действительно, «философия обеспечивает основание для истории философии», а с другой – «именно история философии призвана анализировать содержание, которое создает философия, а вместе с ним – философский язык, на котором говорит конкретная эпоха, школа или направление» [Берестов и др., 2019, с. 9].
Учитывая широту поднятой проблематики, нам представляется уместным попробовать рассмотреть переломные эпохи под другим углом, сузив фокус и ограничившись только одной такой эпохой, а именно поздней Античностью, и в ее случае отдельными примерами и интерпретациями, которых тем не менее самих по себе будет достаточно, чтобы увидеть возможность и обоснованность альтернативных сценариев.
Взглянем на зарождающуюся христианскую философию на стыке с двумя философскими школами поздней Античности: стоицизмом и платонизмом. Широко известно, что среди христианских мыслителей большинство склонялось к среднему или неоплатонизму как потенциальному союзнику или, по крайней мере, источнику концептуального аппарата. Тертуллиан был одним из ярких исключений с его знаменитым противопоставлением Афин Иерусалиму, выступая, с одной стороны, против тех, кто «хотел сделать христианство и стоическим, и платоническим, и диалектическим» [Тертуллиан, 1994, с. 109], а с другой – являя сходство и где-то даже зависимость именно от стоических систем [Горан и др., 2010, с. 353]. Горан рассматривает сам стоицизм как философию кризисной эпохи, подготовившую почву для переориентации на потусторонний мир, характерный для христианства [Горан, 2007, с. 91-92], что является смелым предположением с учетом очень большой исторической протяженности самой стоической традиции, простиравшейся от Зенона, Клеанфа и Хрисиппа до римских стоиков, бывших уже современниками раннехристианских мыслителей.
В альтернативном подходе к историко-философскому процессу, особенно в переломные эпохи, существование различных философских систем рассматривается как конфликт конкурирующих традиций, каждая из которых имеет собственные рациональные, а также внерациональные обоснования собственной правоты. Почему какие-то традиции исторически «проигрывают», по крайней мере, на отдельном временном отрезке? И другой немаловажный вопрос: является ли это необратимым, исторически детерминированным. Конечно, с одной стороны, невозможно отрицать непосредственное влияние социально-политического контекста на этот процесс. В конце концов, платоновская традиция была прервана, когда христианский император Юстиниан закрыл Платоновскую Академию в Афинах в 529 г. Однако платонизм никуда не делся: на византийском востоке труды Платона и неоплатоников всегда были доступны, а на латинском Западе воздействие платонической традиции опосредованно ощущалось посредством философии Августина и далее Иоанна Скота Эриугены. Основание флорентийской Платоновской академии в Кареджи в 1462 г., предпринятый Марсилио Фичино масштабный перевод корпуса сочинений Платона и другие события, позволяющие утверждать влияние ренессансного платонизма вплоть до XIX в. [Kristeller, 1979, p. 65], просто не дают нам трактовать античную философскую платоническую традицию как отошедшую в прошлое даже с учетом всех отличий эпохи Возрождения от платонизма поздней Античности.
Обоснования для рассмотрения переломных эпох истории философии как конфликта конкурирующих и при этом внутренне устойчивых традиций содержатся в трудах Аласдера Макинтайра. Центральным тезисом Макинтайра в «После добродетели» служит утверждение, что человек рассматривает себя как составную часть истории, которую он рассказывает. Его целеполагание и сама истинная ориентация неразрывно связаны с этой историей [MacIntyre, 2007, p. 231]. Философское исследование выражено в его практических импликациях, а вопросы практического характера основываются на философских предпосылках [MacIntyre, 1990, p. 128]. Иначе говоря, определенный ответ на насущные жизненные вопросы подразумевает встраивание в ту или иную философскую традицию. Не только осмысленный разговор, но также и рационально обоснованный конфликт выразим в кругу представителей одной и той же традиции [MacIntyre, 1988, p. 350].
Философия как сугубо частное интеллектуальное упражнение – это на временной линии истории философии до сих пор относительное новшество. До Декарта было само самим разумеющимся, что усвоение философии предполагает становление частью сообщества, встраивание в определенную традицию, что включает признание авторитетного начала над собой в рамках этого сообщества. Согласно Макинтайру, Декартов поиск эпистемологической достоверности через сомнение как исходное условие познания – приглашение не к философии, а к психическому расстройству [Философия и ее история …, 2021, с. 106].
В компаративистском исследовании Кавина Роу [Rowe, 2016], посвященном противоборствующим традициям стоиков и христиан, предлагается жесткий и, несомненно, открытый для критики тезис, выступающий против «энциклопедического» подхода, согласно которому невозможно оценивать или понимать те или иные учения с некой нейтральной позиции, с заявленной объективностью, занимая позицию стороннего наблюдателя. На примере двух школ поздней Античности Роу стремится продемонстрировать, что это две традиции, каждая из которых предлагает определенный образ жизни, причем понимание того, как устроена конкретная традиция, нельзя отделить от участия в самой традиции, с позиций которой далее оценивается и другая, конкурирующая с ней. Роу последовательно рассматривает трех представителей римского стоицизма (Сенеку, Марка Аврелия и Эпиктета) и трех представителей раннего христианства (Павла, Луку и Иустина Философа) и на этом материале приходит далее к более общим положениям, которые можно выразить как пять взаимосвязанных аспектов отношений между традициями:
- Конкретные термины производят такой смысл, что перевод таких слов как «Бог» из одной традиции в другую требует пересказа всей истории, в которой слова изначально обрели смысл.
- По причине несоизмеримости самих историй невозможно пересказать одну историю в терминах другой: они традиции, находящиеся в конфликте.
- Традиции согласны по крайней мере в том, что для познания истины целого необходимо участвовать в конкретной традиции, о которой говорят тексты.
- Это согласие есть в то же самое время глубочайшее несогласие, которое нельзя разрешить, не находясь в одной либо другой традиции.
- Традиция требует жизненного выбора, а именно принятия либо сознательного отвержения конкретного образа жизни [Rowe, 2016, p. 237].
Перейдем к конкретным примерам, которые выражают интуиции Макинтайра и Роу в отношении сосуществующих конкурентных традиций. Начнем с внутрихристианских споров. Горан справедливо отмечает, что в раннехристианской мысли велись интенсивные споры внутри самой традиции по выработке нормативного учения [Горан, 2007, с. 83].
Вопрос стоял не просто об отдельных терминах, но о том, как вероучительные термины и понятия могли бы быть встроены в более общую схему. Хорошей иллюстрацией может служить пример, приведенный в антигностическом трактате Иринея Лионского, написанном во второй половине II в. В Adv. haer. 1.9 Ириней обвиняет гностиков, говоря, что «отняв у истины каждое из приведенных выражений и злоупотребляя именами1, они перенесли их в собственную систему» [Ириней Лионский, 1996, с. 47]. На языке Иринея используется ключевое понятие ὑπόθεσις, которое в русском переводе помимо слова «система» передаётся ещё как «предположение» и «приложение». Далее Ириней приводит два хорошо известных примера или иллюстрации того, как с его точки зрения гностики искажают содержание писания. Первый – центонная поэзия, гимназическая забава, в которой фрагменты классических поэм переставлялись, приводя к новому содержанию. С точки зрения Иринея, это именно то, что делают гностики: они берут одни и те же слова и образы из священного текста, но выстраивают из них принципиально другую схему, так что знающий первую и основную схему признает фрагменты, но не признает общее построение: «Знающий Гомеровы песни стихи эти признает, а содержания не признает» [Там же, с. 48]. Другой пример с мозаикой, когда из изображения царя берутся фрагменты и из них складывают изображение собаки или лисицы. Этому Ириней противопоставляет предание или традицию и то, что он называет «правило истины» (κανὼν τῆς ἀληθέιας). Как усвоить правильную «гипотезу»? Согласно Иринею, для этого необходимо стать частью традиции, в рамках которой гипотеза истинна.
Старший современник Иринея Иустин Философ делится в первых главах «Разговора с Трифоном иудеем» элементами своего жизненного пути. Этот его трактат сконструирован как пространный ответ на прямо заданный ему вопрос этим самым Трифоном: «Какая твоя философия» [Иустин Философ, 1995, с. 134] (Трифон признал Иустина как философа, потому что тот носил философскую мантию). Иустин начинает ответ не с теоретических положений, а с воспоминаний о выборе своего образа жизни. Для него, тогда молодого человека, выбор философии был равнозначен выбору учителя. Проведя со стоиком много времени, он оставил его, потому что тот его так ничему и не научил. Потом он обратился к перипатетику, но тот назначил большую плату за свои уроки. Пифагореец отказался брать его в ученики, потому что он не знал музыку, астрономию и геометрию. Наконец, Иустин пристал к платоникам, поступив в обучение к «одному из знаменитых платоников». «Казалось, – говорит он, – я сделался мудрецом, и в своем безрассудстве надеялся скоро созерцать самого Бога, ибо такова цель Платоновой философии» [Там же, с. 136]. Но далее он повстречался на пути с неким «древним старцем», который провел с ним беседу, изменившую дальнейшую жизнь Иустина. В начальной части этой беседы наблюдается интересная игра слов. Старец спрашивает его, что он делает в том уединенном месте. Иустин отвечает на это, что он любит гулять, потому что так можно думать и ни на что не отвлекаться: «Эти места удобны для “филологии”» (так в оригинале, в русском переводе сказано «для умственных занятий») [Там же, с. 137]. В ответ на это старец говорит: «Так ты любитель умствований (φιλόλογος), а не дел (φιλεργός) и истины (φιλαλήθης), и не стараешься быть более деятельным мудрецом («практиком»), а не софистом (οὐδὲ πειρᾷ πρακτικὸς εἶναι μᾶλλον ἢ σοφιστής)» [Там же]. И далее по ходу беседы, после того, как старец говорит Иустину, что душа не способна производить жизнь сама по себе, но должна получать жизнь извне (быть причастной жизни), Иустин спрашивает: «Какому же учителю человек может довериться?» [Там же, с. 145]. То есть вопрос по-прежнему стоит о вхождении в традицию, об ученичестве. Для Иустина эта традиция представлена определенными текстами и определенной интерпретацией этих текстов (это важно, что у Трифона и Иустина большая часть авторитетных текстов общая, но их интерпретация разнится, концептуальные схемы2 разные). Большая часть дальнейшего диалога Иустина и Трифона соответственно посвящена разной интерпретации текстов.
Если другая философская традиция – другая концептуальная схема, которой присуще собственное понимание, в которой используется собственный язык, различные авторитетные тексты, то возникает вопрос совместимости или соизмеримости этих концептуальных схем и способности перевода как конкретного и частного случая соизмеримости. Одни и те же слова могут пониматься по-разному в разных традициях. При переносе таких слов и выражений в другую концептуальную схему происходит их переосмысление.
Возьмем слово «бесстрастие» (ἀπάθεια). Аристотель говорил об умеренности в отношении страстей, о способности ума контролировать страсти. Стоики были гораздо более пессимистичны в отношении страстей, которые они, вслед за Зеноном Китийским, понимали как неразумные и противные природе движения души [Диоген Лаэртский, 1979, с. 302]. Соответственно, целеполаганием стоиков было совершенное избавление от страстей. В христианских текстах можно многое найти, что похоже на выражения стоиков. Но в то же время на языке христиан страсти (πάθη) подразделялись на греховные и природные или естественные, такие как страх, огорчение, голод и усталость. Иначе говоря, не все страсти предосудительны.
Среднеплатонический либо стоический философ Цельс, который примерно в 170 г. написал трактат против христианства, говорил, что страх и скорбь Христа в Гефсимании показывают его ущербность: «Зачем же Иисус взывает о помощи и рыдает, зачем он молится о том, чтобы миновал его страх погибельный, зачем ему было говорить следующие слова: “Отче, если возможно, да минует чаша сия”» [Ориген, 2008, с. 530]? В ответ на это Ориген отвечает, что следующее выражение «впрочем, не как я хочу, но как ты» указывает на то, «с каким послушанием подверг Себя Иисус тем страданиям» [Там же].
Последующие христианские авторы, в частности, Григорий Нисский и Кирилл Александрийский, говорили, что Бог дозволял воспринятой им плоти испытать естественные страсти и удерживал от греховных страстей.
Если стоики полагали «жалость» (ἔλεος, misericordia) одной из страстей [Диоген Лаэртский, 1979, с. 302], от которой необходимо избавиться, то в христианском нарративе, где это слово скорее передается как «милость» или «милосердие», как известно, дело обстоит совершенно иначе: «Блаженны милостивые (ἐλεήμονες), ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7).
В концептуальных схемах стоиков и христиан не только используются одинаковые слова и выражения, которые понимаются по-разному. Имеются слова или понятия, которые невозможно выразить на языке другой концептуальной схемы. Они принципиально непереводимы.
В частности, в стоицизме нет объяснения проблемных человеческих обстоятельств. Отчуждение от природы признается, но не объясняется, а просто принимается как данность. Природа, с которой стоику необходимо соразмерять свою жизнь, устроена рационально, и ей присуща смертность. Как уже сказано, стоики уделяли большое внимание страстям. Страсти – симптомы заболевания, при этом самого заболевания не существует или о нем ничего не говорится. С точки зрения христианского нарратива стоики не имеют никакого эквивалента «грехопадения».
С другой стороны, в христианском дискурсе отсутствует понятие судьбы (fortuna на языке Сенеки). «Фортуна не сбивает с пути – она опрокидывает и кидает на скалы» [Сенека, 1986, с. 44]. Это понятие просто невозможно выразить на языке христианской традиции или концептуальной схемы. Там есть злые либо добрые силы и воздействия: грехи, бесы, промышление Бога. Но в рамках нарратива стоиков у христиан отсутствует то, что стоики называют «фортуна».
Вряд ли можно сказать, что одна из традиций «сильнее» или «слабее» в самом нарративе. Сами традиции предлагают различные нарративы, конкурирующие между собой в том, как они предполагают выстраивание самой человеческой жизни, ее целеполагание, но из этого не следует, что один нарратив должен был неизбежно одолеть другой в умах современников.
Рассмотрим концептуальный конфликт платонической традиции и христианства при схожести или даже идентичности терминологии. Плотин говорил в Enn. 3.6.1 о «бесстрастных страстях» (ἀπαθῆ πάθη) души в ее соединении с телом. Хотя последующие неоплатоники не использовали само выражение, то же учение содержится у Порфирия и Прокла. В теологических трактатах, направленных против крайностей антиохийской христологии, христианский автор V в. Кирилл Александрийский говорит о «бесстрастном страдании» (patiebatur … impassibiliter) Бога [Pusey, 1875, p. 574]. Это то же самое выражение. Похоже на то, что Кирилл заимствовал его у Плотина, хотя это нельзя доказать.
В рамках христианского нарратива Кирилла изначальное выражение Плотина приобрело иной смысл. Плотиновская концепция бесстрастных страстей, сводится к тому, что душа бесстрастна по своей природе, поскольку ощущение (αἴσθησις) души – не страсть, так что при претерпевании тела душа по-прежнему не подвержена страстям, но на нее находят «бесстрастные страсти». В употреблении Кирилла при поверхностном сходстве имеется существенное отличие в сравнении с употреблением этих терминов в философии Плотина. Самое принципиальное расхождение связано с разным пониманием телесного. В случае Плотина принадлежащее душе тело является ее временным попутчиком, взятой на время одеждой, будущее души с ним не связано. Душа может двигаться как вверх, так и вниз, если будет слишком привязана к телу. Душа всегда останется бесстрастной, а тело (в союзе с душой) неизбежно будет подвержено страстям. В концептуальной схеме Кирилла использование лексической парадигмы бесстрастного страдания подразумевает, что посредством ипостасного соединения Бога и человека воспринятое тело в процессе страдания само становится бесстрастным и перестает претерпевать. Его страдание становится выражением бесстрастия Бога. Ипостасное соединение не имеет обратного хода, оно необратимо.
Это последнее отличие связано с тем, что в мысли Кирилла принципиальное место занимает воплощение (Ин. 1:14, «Слово стало плотью», был текстом, который он использовал в своих работах, пожалуй, чаще всего). Именно акцент Кирилла на Воплощении позволяет нам сказать, что в традиции, которую представляет Кирилл Александрийский, лексическая парадигма «бесстрастного страдания» функционально имеет другой смысл, чем у Плотина. И важнее всего здесь то, что преодоление страстей или страданий в самой жизни понимается по-разному в концептуальных схемах неоплатонизма и христианства. Ведь, в самом деле, это не одно и то же: доказательство мнимости страданий и страстей и стремление к окончательному избавлению от тела и, с другой стороны, преодоление страданий в теле посредством страданий же, где телеологически главный акцент делается именно на воскресении или возвращении тела к жизни. В практическом аспекте это имело отношение к ритуалам погребения: отказ от кремации и перенос кладбищ внутрь городских стен. Одно из основных обвинений Юлиана Отступника против христиан заключалась как раз в том, какое у них было отношение к умершим: «А сколько вы потом придумали, прибавив к старому трупу свежие трупы! … Вы все заполнили могилами и гробницами…» (Contra Galilaeos 335C) [Ранович, 1990, с. 428].
Упоминание о важности телесности как важнейшем отличительном аспекте христианской концептуальной схемы в сравнении с неоплатонизмом позволяет нам перейти к последнему примеру из Поздней Античности. И это Августин и его связь с неоплатонизмом и зависимость от неоплатонизма. В описании изменения своих взглядов в «Исповеди» Августин особо отмечает, как платонизм явился для него переходным этапом на пути от манихейства к христианству. В его руки попали «книги платоников» (libri platonicorum) в латинском переводе Мария Викторина, в которых содержалось многое из того, к чему он далее пришел, но не было представления о воплощении (Conf. 7.9) [Августин, 1998, с. 572]. Этими книгами предположительно были отдельные Эннеады Плотина, возможно, что-то из Порфирия. Встает вопрос, как здесь выражается Августин, когда он говорит, что в этих книгах было многое из христианского учения. Он описывает свой переход, рефлексирует о своих ощущениях во время смены концептуальной схемы? Привносит неоплатонизм в свое понимание? Или главное здесь нужно усматривать в педагогическом моменте, попытке убедить адресатов своей книги, находящихся на распутье, подобно тому, как когда-то это было с Августином?
В недавней монографии Лайлы Цволло об Августине и Плотине автор ожидаемо показывает теснейшую связь их языка. Она убеждена, что Плотин оказал на Августина положительное влияние, при этом она выделяет следующие расхождения между Августином и Плотином, вызванные христианской, библейской ориентацией Августина:
- Христология. Воплощение. Возможность личного общения со второй Ипостасью как с тем, кто прожил человеческую жизнь.
- Акцент Августина на любви к другим людям, в его случае тесно связанный с любовью Бога к человечеству.
- Связь в мысли Августина божественной любви со справедливостью.
- Восхождение ума к Богу, visio intellectualis, ограничено в этой жизни и окончательно осуществится только в воскресении.
- Акцент Августина на жизни общины. Духовная любовь проявляется в благотворительности (делах милосердия), дружбе, совместном проживании людей в церковной среде или в монастырях. Улучшение души осуществляется тогда как общее дело посредством общих молитв и созерцательной жизни.
- Эсхатология Августина библейская и основана на посланиях Павла [Zwollo, 2016, pp.28-29].
Эти пункты показывают, что даже в случае Августина с его более явно выраженной связью с неоплатонизмом все равно произошел переход в другую концептуальную схему, которая неизбежно означала для него разрыв с неоплатонической традицией по ключевым пунктам.
***
Вопрос о сосуществовании непримиримых и в этом смысле несовместимых традиций особенно важен при рассмотрении пограничных или переломных эпох истории философии. В случае стоицизма и неоплатонизма обычно подчеркиваются отличия по отдельным пунктам, какие бывают среди схожих философских школ. Например, известно, что в Платоновской академии более позднего периода преподавали стоицизм, и сам стоицизм того толка не так сильно отстоял от среднего платонизма.
Говоря же о христианской теологии и философии, с одной стороны, и о стоицизме и неоплатонизме – с другой, мы сталкиваемся с гораздо более фундаментальным расхождением. В этом смысле трудно себе представить, чтобы в той же Платоновской академии так же легко преподавали христианскую мысль – её бы там нашли несостоятельной по ключевым пунктам, подвергли насмешкам и отмахнулись бы от неё в стиле эпикурейских и стоических философов на Афинском ареопаге, прервавших в Деян 17:32 проповедь апостола Павла о телесном воскресении: «Об этом послушаем тебя в другое время». Обратное, кстати, имело место: будущие каппадокийские отцы получили образование в Афинах и использовали этот багаж в выработке положений своей теологии и философии. Так или иначе, это были находящиеся в конфликте традиции в гораздо большей степени, чем различные течения внутри самой древнегреческой или римской философии. Так, максима античной философии о постоянстве материи (ex nihilo nihil fit) принципиально несовместима с раннехристианской доктриной о творении мира из ничего (creatio ex nihilo).
Вне рамок гегелевского историко-философского дискурса не обязательно усматривать детерминацию самого процесса конфликта традиций в истории философии, нет самой предрешенности того, что один подход должен победить другой.
Переломные эпохи интересны тем, что при смене общей парадигмы встречаются необычные сочетания принципиально разных традиций. Когда средневековая философия приходит на смену Античности, то где-то она ее продолжает, а где-то порывает с ней. Это можно уподобить равеннским мозаикам: античные художники изображают новые заказанные им сюжеты, при этом используя технику, которую они усвоили в рамках предыдущей традиции. Для выработки собственного канона с присущим новому направлению стилем должно пройти время.
При конфликте философских традиций одна может в моменте одержать верх над другой, но из этого не следует детерминация историко-философского процесса. В случае сохраняющихся текстов традиции в некотором смысле сохраняют жизнеспособность даже при отсутствии живых носителей данной традиции. Платонизм никогда не сходил со сцены окончательно даже после закрытия Платоновской академии императором Юстинианом, а стоицизм формально прекратил существование. При этом платоническое «возрождение» состоялось во Флоренции XV в., а уже в наше время едва ли не элементом массовой культуры становится стоицизм как морально-этическая альтернатива другим подходам. Даже если это в чем-то неумелая попытка подражания Античности, данная традиция – постольку, поскольку она может быть реконструирована из текстов, – сохраняет определенную жизнеспособность. В конце концов, ренессансные платоники и гуманисты также не вернулись ad fontes в чистом виде, как намеревались это сделать, но скорее способствовали появлению нового феномена, пусть и опосредованно связанного с мыслью Античности.
В то время как до субъектного подхода Декарта едва ли могло быть представление об отдельном пути индивида как автономно мыслящего существа, в нововременную эпоху философия по-прежнему сохраняла тенденцию к институционализации, продолжала совершаться в рамках того или иного философского сообщества.
То, с каких мировоззренческих и философских позиций осуществляется историко-философское исследование, определяет саму реконструкцию историко-философского материала. Так, например, современные платоники обращают особое внимание на воздействие Платона и неоплатоников на христианских мыслителей и склонны подчеркивать зависимость последних от платонизма при рассмотрении тех же переломных эпох, как об этом красноречиво свидетельствует сама подборка ими материалов для исследования [Blumenthal, Markus, 1981; O’Meara, 1982]. Очевидно, трактовка этих эпох с позиции гегелевской диалектики носит принципиально иной характер, что в принципе и не должно вызывать недоумения. В данном случае разные подходы скорее обогащают восприятие исследователя. Появившиеся за последнюю сотню лет новые подходы к философии и истории философии, разнообразные «повороты» XX столетия актуализируют проблематику историко-философских исследований и не позволяют историкам философии ограничиваться какой-либо отдельной школой, сколь бы влиятельной она некогда ни была.
1 Имеются в виду ранее обсуждавшиеся им слова, такие как отец, истина, слово, жизнь, человек, церковь и др.
2 Понятие «концептуальной схемы» в статье употребляется в смысле традиции как синонимичное выражение.
About the authors
A. M. Streltsov
Institute of Philosophy and Law SB RAS
Author for correspondence.
Email: streltsov@mail.ru
Candidate of Philosophical Sciences, Senior Research Fellow Nikolaeva Str., 8, Novosibirsk, Russia
References
- Blessed Augustine. (1998). On True Religion. St. Petersburg. (In Russ.)
- Berestov, I. V., Volf, M. N., Domanov, O. A. (2019). Analytical History of Philosophy: Methods and Investigations. Novosibirsk. (In Russ.)
- Goran, V. P. (2007). Theoretical and Methodological Problems of History of Western Philosophy. Novosibirsk. (In Russ.).
- Goran, V. P. Volf, M. N., Berestov, I. V., Orlov, E. V, Afonasin, E. V., Butakov, P. A. (2010). Rationalism and Irrationalism in Ancient Philosophy. Novosibirsk. (In Russ.)
- Diogenes Laertius. (1979). Lives and Opinions of Eminent Philosophers. Moscow. (In Russ.)
- Irenaeus of Lyons. (1996). St. Irenaeus of Lyons. Works. Moscow. (In Russ.)
- Justin Philosopher. (1995). St. Justin Philosopher and Martyr. Works. Moscow. (In Russ.)
- Kuznetsov, S. A. (2000). Large Explanatory Dictionary of the Russian language. St. Petersburg. (In Russ.)
- Origen. (2008). On the First Principles. Against Celsus. St. Petersburg. (In Russ.)
- Ranovich, A. B. (1990). Sources in the History of Early Christianity. Ancient Critics of Christianity. Moscow. (In Russ.)
- Rorty, R. (1996). Contingency, Irony and Solidarity. Moscow. (In Russ.)
- Seneca, L. A. (1986). Moral Letters to Lucilius. Tragedies. Moscow. (In Russ.)
- Tertullian. (1994). Select Works. Stolyarov, A. A. (ed.). Moscow. (In Russ.)
- Volf, M. N. (ed.). (2021). Philosophy and its History. Discussions. Textbook. Novosibirsk. (In Russ.)
- Blumenthal, H. J., Markus, R. A. (eds.). (1981). Neoplatonism and Early Christian Thought. Essays in honour of A. H. Armstrong. London.
- Kristeller, P. O. (1979). Renaissance Thought and its Sources. New York.
- MacIntyre, A. (1988). Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame, IN.
- MacIntyre, A. (1990). Three Rival Versions of Moral Enquiry: Encyclopedia, Genealogy and Tradition. Notre Dame, IN.
- MacIntyre, A. (2007). After Virtue. A Study in Moral Theory. 3rd ed. Notre Dame, IN.
- O’Meara, D. J. (ed.). (1982). Neoplatonism and Christian Thought. Albany. NY.
- Pusey, P. E. (1875). Sancti Patris nostril Cyrilli arch. Epistolae tres oecumenicae. Libri quinque contra Nestorium. XII capitum explanatio. XII Capitum Defensio utraque. Scholia de Incarnatione Unigeniti. Oxford.
- Rowe, C. K. (2016). One True Life: The Stoics and Early Christians as Rival Traditions. New Haven, CT.
- Zwollo, L. (2016). St. Augustine and Plotinus. The Human Mind as Image of the Divine. Leiden. Boston.
Supplementary files