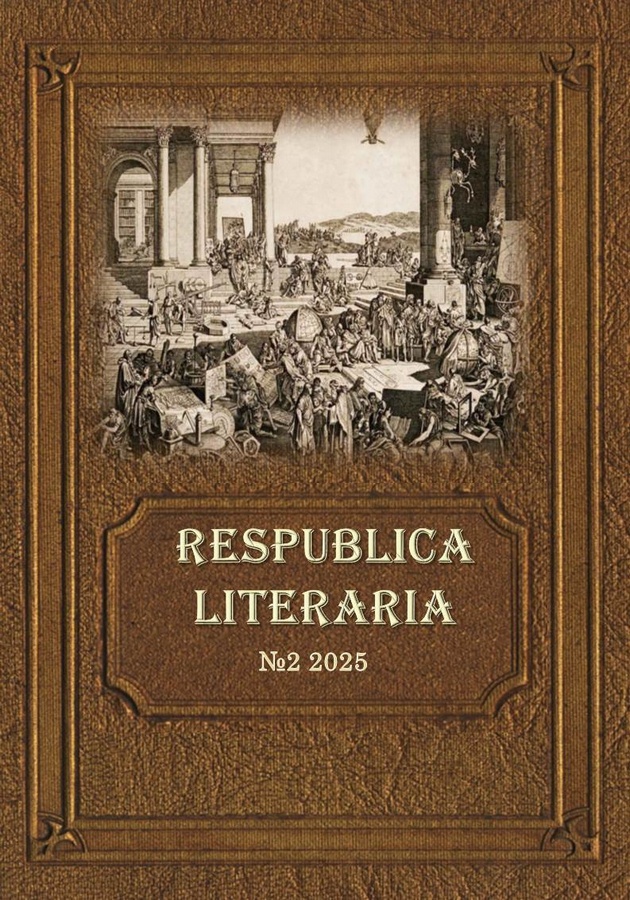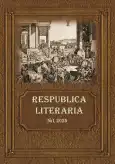Об онтологизации социально-этического выбора: почему одни люди хотят жить в солидарном обществе, а другие в обществе конкурентном?
- Авторы: Егоров Д.Г.1
-
Учреждения:
- Псковский филиал Университета ФСИН России
- Выпуск: Том 6, № 1 (2025)
- Страницы: 5-15
- Раздел: ФИЛОСОФИЯ
- URL: https://journal-vniispk.ru/2713-3125/article/view/305648
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2024.6.1.5-15
- ID: 305648
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Проведен анализ основных подходов к основаниям этики. Показано, что оппозицией эгоизму разум не является: в большинстве случаев, когда говорится о рациональном обосновании морали, подразумевается стремление обосновать мораль как производное инстинкта самосохранения. Также показано, что сводить идеологический выбор либерализм / социализм только лишь к выгоде и / или манипуляции – неадекватное упрощение вопроса. Эксплицирована возможность онтологизации социально-этического выбора в сфере идеологии на основе предложенного ранее дуалистического подхода к решению проблемы «сознание – тело».
Ключевые слова
Полный текст
Введение
В настоящей работе мы предполагаем показать связь между решением проблемы соотношения тела и сознания и возможностью онтологизации социально-этического выбора в сфере идеологии1.
Идеологическая борьба: ложь или ценностный выбор?
При всем внешнем разнообразии, социальные идеологии можно разделить на две глобальные альтернативы: либерализм (капитализм, конкурентное общество) – социализм (коллективизм, общество с приоритетом кооперации). В идеологическом плане историю последних 200 лет можно представить как борьбу этих двух больших идеологических проектов: либерального и социалистического (коммунистического). При этом сторонники противоборствующих мировоззрений зачастую обвиняют своих идеологических оппонентов в заведомой лжи. Приведем примеры.
Вот достаточно типичное мнение сторонника социализма: «“Консенсус согласия” при капитализме выстраивается только на условиях глубинного лицемерия» [Черников, 2019, с. 26].
Обратимся теперь к известному либеральному автору Р. Скрутону. Не обязательно знакомиться со всей его книгой о мыслителях левых взглядов, достаточно названия «Дураки, мошенники и поджигатели: Мыслители новых левых» [Scruton, 2015].
Мы не отрицаем, что какие-то авторы могут выполнять идеологический заказ, а какие-то (может быть, даже многие) индивиды становятся жертвами идеологических манипуляций. Однако сводить идеологический выбор только лишь к выгоде и / или манипуляции мы считаем неадекватным упрощением.
Очень многие делают свой идеологический выбор, искренне считая, что выбирают истину. Здесь возникает вопрос: что является критерием идеологической истинности?
Ранее мы дали свое понимание идеологии не в духе марксизма (как «ложное сознание»), а как имеющуюся у любого человека совокупность представлений о социуме и человеке (как элементе социума) [Егоров, 2023б]. Из этого следует, что идеологическое учение воспринимается как истинное, если манифестируемое им желательное устройство общества способствует реализации главной (базовой) ценности индивида. Поэтому, по нашему мнению, различия идеологий – следствие различий в структуре ценностей [Егоров, 2023a, 2023б, 2023в]. Что же это за главные ценности?
Начнем с либерализма.
То, что базовой ценностью либерализма является индивидуализм (эгоизм), признают большинство самих либералов [см., например: Шац, 2021]. тезис, что либерализм характеризуется принятием высшей ценностью «свободы», мы считаем не слишком удачным ввиду неопределенности термина «свобода». Свобода реализации желаний, свобода творчества, свобода предпринимательства, свобода сильного – это совершенно разные понятия (хотя и обозначаются одним и тем же словом)2. Так, неограниченная экономическая свобода эгоиста является первопричиной социальной эксплуатации3. в конечном счете, свобода реализации индивидуалистических целей есть свобода реализации своего инстинкта самосохранения. В социуме в своей предельной форме он принимает вид инстинкта иерархического доминирования и стремления к демонстративному потреблению4 [Veblen, 1899; Асп, Кварц, 2015]. Это и лежит в основе нашей трактовки либеральной идеологии5.
***
Что является в человеческой психике оппозицией эгоизма? Это мораль (защита интересов общества в целом, альтруизм): «Как бы ни определять мораль, совершенно очевидно, что она не сводится к знаниям … Она укоренена не в разуме или, по крайней мере, не только в разуме» [Гусейнов, 1999, с. 246].
Если сформулировать точнее, оппозицией эгоизма является основание морали, то есть лежащий в ее основе априорный психический импульс, который мы, вслед за Э. Шефтсбери и Д. Юмом, называем моральным чувством6. На уровне обыденного знания этот импульс именуется совестью.
существуют множество этических концепций, стремящихся обосновать рациональный генезис морали. здесь следует отметить, что любую гипотезу сугубо рационального обоснования морали разрушает принцип Юма (ввиду чего он и получил свое второе название «гильотина Юма»), утверждающий невозможность выведения ценностных (этических) положений из фактов [Юм, 1996, c. 33]7. по этой причине было осуществлено множество попыток поставить принцип Юма под сомнение, но все они были такими же тщетными, как и проекты perpetuum mobile8.
В то же время, хотя принцип Юма невозможно опровергнуть, его можно игнорировать. Ярким примером здесь является как раз К. Поппер, который был хорошо знаком с философией Юма и положил в основу собственной философии науки другой известный результат Юма – поставленную им проблему индукции, т. е. логическую невозможность вывести общие принципы науки из единичных фактов. Однако в своей главной работе по социальной философии [Поппер, 1992] «гильотину Юма» он почему-то даже не упоминает.
Впрочем, К. Поппер здесь не первый и, увы, не последний: существует множество текстов по вопросам этики, авторы которых стремятся обосновать моральные выводы исключительно рациональными аргументами. Результатом этого всегда оказывается логическая конструкция (зачастую весьма сложная, с терминологией тяжеловесной, а для «непосвященных» в детали этических концепций попросту малопонятной), «висящая в воздухе»: цепочка дедукций обрывается на каком-либо аргументе, представляющемся «самоочевидным». Детальный разбор конкретных примеров такого рода конструкций мы считаем излишним по той же причине, по которой прекратились рассмотрения проектов perpetuum mobile9.
Таким образом, оппозицией эгоизму разум не является. Иными словами, разум – не отдельный центр целеполагания, а инструмент реализации целей. В большинстве случаев, когда говорится о рациональном обосновании морали, подразумевается стремление обосновать мораль как производное инстинкта самосохранения: «… стремление к благополучию (определенному настолько глубоко и широко, насколько это возможно) – это единственный вразумительный базис для морали и для ценностей» [Харрис, 2015, c. 32].
Также отметим, что факт исторического различия моральных систем, который зачастую приводится для «опровержения» существования монистического (общечеловеческого) их источника (т. е. морального чувства), таким опровержением отнюдь не является. Чтобы показать шаткость такого рода опровержений, зададим встречный вопрос: означает ли то, что в палеолите люди добывали пропитание в основном охотой, после неолитической революции – земледелием и скотоводством, а в настоящее время – программированием, финансовыми спекуляциями и т. д., что «инстинкт самосохранения непрерывно меняется»? Или меняется все же не инстинкт самосохранения, а исторические формы его реализации?
То же можно сказать и о морали: могут меняться конкретные исторические формы морального поведения, но это не значит, что меняется само моральное чувство.
Из наличия у человека двух качественно различающихся ценностных центров вытекает два принципиально различных типа отношений к другим людям: либо отношения конкуренции, либо отношения кооперации. Иными словами, основной конфликт в социуме – отражение основного конфликта внутри любого человека. Соответственно, смысл идеологической борьбы – демонстрация правильности (справедливости) защищаемой идеологом системы ценностей.
Антропологические модели как орудия идеологической борьбы
Как можно обосновать правильность и позитивность эгоистической мотивации?
В свое время Беркли, стремясь разрушить философию материализма, пришел к выводу, что самым эффективным способом здесь будет поставить под сомнение само существование материи как объективной реальности. Подобно этому и многие идеологи либерализма ставят под сомнение само существование морального чувства, причем делают это вполне искренне. Речь здесь не об отрицании морали как общественного института, а о стремлении представить мораль как формализацию (рационализацию) осознания выгод долгосрочного сотрудничества [Becker, 1976; Денет, 1995] и / или форму защиты от войны «всех против всех» [Hobbes, 1651]10. Из отрицания морального чувства необходимо следует два положения:
1) «эгоист, склонный к оппортунизму» (homo oeconomicus), – это и есть сущность человека11;
2) любой альтруизм – это в той или иной степени замаскированный эгоизм12.
Из тезиса (2) сторонники неолиберальной антропологии делают далее вывод, что коллективизм (социализм) – это, в сущности, заговор слабых и неуспешных против сильных, умных и волевых13: «За коллектив и равенство стоит слабое большинство людской популяции. За личность и свободу – ее сильное меньшинство. Но прогресс общества определяют сильные, эксплуатирующие слабых» [Амосов, 1992]14.
человек, подсознательно убежденный, что любой мотив деятельности должен сводиться к эгоистическому интересу, и пытаясь понять мотивы сторонников коллективизма, будет вполне искренне приходить к выводу, что это либо дураки, либо ленивые завистники, либо демагоги и мошенники.
Мы согласны, что некоторые «сторонники социализма» имеют сугубо эгоистическую мотивацию, и по сути являются теми же эксплуататорами, но с ограниченными возможностями реализации своих стремлений. По нашему мнению, в основе эксплуатации – не богатство и бедность как таковые, а стремление что-то взять (от какого-то конкретного индивида или социума), существенно превышающее желание что-то отдать взамен (в пределе – только брать, ничего не отдавая). Вполне возможна эксплуатация «снизу» (например, профессиональное нищенство) (детальнее о проблеме социальной эксплуатации см.: [Егоров, 2022б]). Но мы считаем принципиально ошибочным распространять эту схему на всех сторонников эгалитаризма.
Иными словами, мы считаем ошибочным утверждение, что «у капитализма и коммунизма общее ценностное ядро, но разные представления о методах достижения желаемого ... Вся разница заключалась в методах борьбы за гуманистические идеалы» [Давыдов, 2022, c. 188].
Разница между капитализмом и социализмом (коммунизмом) – именно в разных идеалах. Когда идеалы критической массы элиты СССР трансформировались в либерально-капиталистические (которые автор вышеприведенной цитаты именует «гуманистическими»), СССР распался, и произошла реставрация капитализма [Егоров, 2023в].
В СССР в 1960-е были популярны ряд произведений Аркадия и Бориса Стругацких как модель коммунистического будущего; образ будущего, созданный в романе «Полдень, XXII век», многие называли «миром, где хочется жить». Здесь мы хотим обратить внимание, что для homo oeconomicus этот мир не был бы миром, в котором хотелось бы жить. В этом мире было бы принципиально невозможно удовлетворить главную потребность homo oeconomicus – в чувстве превосходства, демонстративном потреблении15. С. Г. Кара-мурза, описывая антропологические черты сторонников антисоветского проекта (т. е. тех, для кого «мир полудня» перестал быть в 1960-е – 1980-е гг. привлекательным), нашел, по нашему мнению, очень точный и яркий образ: «…девушки их любили бесплатно – а им хотелось шикарных проституток» [Кара-Мурза, 2000, с. 153].
Если некто считает убедительным тезис, что любовь – это вспышка гормонов (и, в сущности, сводится к сексу)16, ему покажется убедительным и тезис, что мораль сводится к отношениям взаимной выгоды. Но здесь важно отметить, что это не научный факт, а философская гипотеза. Сведение морали к инстинкту самосохранения (выгоде) принципу Юма не противоречит, но каких-либо конкретных моделей, детализирующих эту философскую гипотезу, со времени Т. Гоббса так и не появилось: «Перед нами стоит все та же задача, что перед Гоббсом и Ницше: каким-то образом в ходе эволюции мы должны были превратиться в существ, наделенных совестью ... Переход от наиболее практичных и грубых форм взаимного альтруизма к миру, где возможны подлинное доверие и самопожертвование, – задача, к теоретическому изучению которой лишь начали подступать» [Деннет, 1995, c. 406-407]17.
***
А теперь рассмотрим философскую альтернативу либеральной антропологической гипотезы.
По нашему мнению, модель homo oeconomicus – частный (предельный) случай более общей модели: наличия у человека, в оппозицию эгоизму (инстинкту самосохранения), второго ценностного центра (морального чувства).
Такая антропологическая модель лежит в основе всех основных мировых религий. Собственно, борьба голоса инстинкта (эгоистичной выгоды) и голоса совести (долга) известна любому по личному опыту (и является сквозным сюжетом в искусстве). Это – первичная данность нашего бытия, не сводимая и не вытекающая ни из каких интеллектуальных конструкций18.
Решение проблемы «сознание – тело» как основание для социально-этического выбора
Итак, в результате нашего исследования этико-антропологических оснований социальных идеологий мы приходим к выводу, что выбор социальной идеологии есть, в сущности, выбор этический, не сводимый только лишь к фактам, и по существу экзистенциально-первичный. Из этого, в соответствии с принципом Юма, казалось бы, следует, что никакие рациональные аргументы не могут обосновать правильность или неправильность ценностного выбора: эгоизм / альтруизм (либерализм / социализм).
Однако, по нашему мнению, выбор этический может быть онтологизирован при ответе на вопрос: если инстинкт самосохранения защищает тело, что же тогда защищает моральное чувство?
Ранее [Егоров, 2022a] мы показали, что современному уровню научных знаний более других соответствует решение проблемы отношения сознания с телом в духе дуализма Р. Декарта (сознание не идентично процессам в мозге; человек – это соединение двух субстанций: телесной и мыслящей)19. тезисно повторим наши аргументы.
Материалистические концепции сознания не могут объяснить ряд фактов:
1) быстродействие психики и объемы перерабатываемой человеком информации;
2) свободу воли;
3) наличие у человека врожденной базы данных (включающей априорные понятия и категории мышления); гипотезы о ее передаче через геном (кодирование в ДНК), в котором якобы содержится информация о топологии нейронных цепей в мозгу, совершенно нереалистичны;
4) случаи сохранения как интеллектуальных способностей, так и памяти при повреждении (удалении) значительной части мозга, вплоть до целого полушария.
в рамках традиционных религий мыслящая субстанция именуется душой, и мы не видим причин отказываться от этого термина20. Душа связана с процессами в головном мозге (и вообще в физическом теле), и они оказывают на нее воздействие, но отнюдь ее не порождают. Соответственно, мозг – это по сути орган передачи команд от души к телу, устройство связи души и тела (некое подобие очень сложного USB-порта).
Что значимого для нашей темы следует из модели психофизического дуализма?
Примем гипотезу «“я” это тело, или производное от тела». В этом случае, как и для любого животного, принимать высшей ценностью инстинкт самосохранения [тела], в общем, естественно: спасая тело, мы тем самым спасаем свою сущность (пусть даже мораль и призывает в каких-то ситуациях жизнью жертвовать). Соответственно, при принятии такой модели сознания провозглашение высшей ценностью эгоистической защиты интересов тела, как минимум, рационально.
Что меняется с принятием философской позиции психофизического дуализма? Если человек – это не только тело, но и душа, и даже в первую очередь душа (ибо вполне допустимо предполагать, что после смерти тела душа продолжает в какой-то форме существовать), тогда защита души важнее защиты тела. А в чем эта защита заключается?
делая что-то полезное телу (утоляя голод, жажду и т. д.), мы испытываем приятные ощущения. По нашему мнению, моральное чувство – это аналогичное чувство: чувство, поощряющее действия, полезные душе (создающее ощущение морального удовлетворения). оборотная сторона морального чувства – угрызения совести – это неприятное чувство, когда мы делаем что-то, противоречащее интересам души.
Соответственно, мы приходим к тезису Сократа: нарушение требований морального чувства есть следствие невежества. Но это невежество особого сорта: непонимание того, что душа важнее тела (которое обречено умереть): «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36)21.
1 многие исследователи объявляют философскую гипотезу о том, что сознание (и вообще психические явления) – производное от процессов в головном мозге, чуть ли не общепризнанным фактом: «В настоящее время вряд ли кто-нибудь сомневается в том, что психика животных и человека является функцией их мозга» [Чуприкова, 2014, с. 105]. «все наши состояния сознания вызываются нервными процессами низшего уровня в мозге и сами являются свойствами мозга» [Серль, 2004, с. 299]. Мы же считаем, что в этом есть основания сомневаться – см. ниже.
2 Возможно совершенно иное понимание свободы: как свободы от власти собственных животных инстинктов; свободы следовать голосу совести (исполнять свой моральный долг) вне зависимости от внешней ситуации. Так понимали свободу Сократ, Конфуций, Кант (и именно так она трактуется в основных мировых религиях).
3 «… экономическая сила может быть почти так же опасна, как и физическое насилие. Дело в том, что тот, кто обладает излишком пищи, может заставить тех, кто голодает, “свободно” принять рабство» [Поппер, 1992, с. 145; см. также: Егоров, 2022b].
4 Герасимов, И. (2009). Социализм и «природа человека»: убить в себе Зверя. [Электронный ресурс]. Newsland. 06 февр. URL: https://newsland.com/post/927515-igor-gerasimovsotsializm-i-priroda-chelovekaubit-v-sebe-zveria (дата обращения: 30.01.2025).
5 То, что в странах, где либерализм является доминирующей идеологией (т. е. в странах Запада), понятия свободы и индивидуализма воспринимаются в массовом сознании как взаимосвязанные, подтверждают и данные социологических опросов [см., например: Торчинов, 2007, с. 33-34].
6 «... добродетель различается вследствие того удовольствия, а порок – вследствие того страдания, которое возбуждает в нас любой поступок, любое чувство или характер при простом взгляде на него ...» [Юм, 1996, с. 516]. Это – чувство единства с какой-то системой более высокого уровня, нежели индивид (семьей, социумом, в пределе – со всем миром).
7 Конечно, при построении и развитии любой этической системы разум используется. Под невозможностью рационального обоснования морали понимается, что цепочка этических дедукций должна иметь начало в каком-то тезисе (моральной аксиоме), которую рационально обосновать невозможно (см. детальнее ниже).
8 Наиболее известная попытка такого рода второй половины ХХ в. принадлежит Дж. Серлу [Searle, 1969]. Как и все предшествующие, она оказалась предсказуемо неудачной.
9 «Можно считать твердо установленным то обстоятельство, что правильное логическое обоснование морали, т. е. дедуцирование моральных суждений из внеморальных, невозможно. Это – не «точка зрения» Юма или Мура, с которой можно было бы спорить, это – проявление логических законов, столь же непреложных, как и законы природы» [Максимов, 1991, c. 9].
10 В общем случае неолиберализм не предполагает обязательного сведения морального чувства к инстинкту самосохранения (выгоде) – условием sine qua non является приоритет эгоистической мотивации над моральной (альтруистической).
11 Ибо никакого иного основания для моральных идей, и вообще целеполагания, просто не остается.
12 например: сдерживание сиюминутного эгоизма для получения выгод от долговременного сотрудничества.
13 И вывод этот, если принять тезисы (1–2) истинными, вполне обоснован.
14 Слабые стремятся реализовать свой эгоизм, объединяясь в стаи против сильных, – вот это и есть «социализм» (см. также трактовку социалистического мировоззрения как проявления стадного инстинкта в форме зависти к сильным и успешным у Г. Лебона [Лебон, 2019]).
По нашему же мнению, именно либеральная идеология имеет в своей основе приоритет инстинктов, в том числе стадного инстинкта иерархического доминирования, который и формирует в животном мире стаи [cм.: Герасимов, 2009]. Под либеральным индивидуализмом (стремлением к свободе) в сугубом большинстве случаев подразумевается не моральное отрицание иерархических отношений («я выше, ты ниже»), а стремление занять в таких отношениях доминирующую позицию.
15 То, что в стремлении к богатству главное – не собственно благосостояние, а тщеславие (демонстративное потребление), ибо «богатство выдвигает человека на первый план, превращая в центр всеобщего внимания», показал еще Адам Смит в «Теории нравственных чувств» [Smith, 2006; см. также: Veblen, 1899; Герасимов, 2009; Асп, Кварц, 2015].
16 Вот, например, цитата из вышедшей в 2012 г. в США книги «Химия любви. Научный взгляд на любовь, секс и влечение»: «Привязанность, желание и любовь не настолько таинственны, как мы привыкли думать … Сложным любовным поведением управляет всего несколько веществ в нашем мозге» [Young, Alexander, 2012].
Что, собственно, предполагают все такого рода исследования? Отождествление эмоций с биохимическими процессами (которые запускаются этими эмоциями). Рассмотрим аналогию: при вспышке агрессивных эмоций выделяется адреналин – корректным ли будет утверждение, что «выделение адреналина – это и есть причина агрессии»? Зависимость здесь обратная: не гормоны (вдруг, по непонятной причине, увеличиваясь или уменьшаясь) управляют эмоциями, напротив – это эмоции управляют синтезом гормонов.
17 Под «взаимным альтруизмом» в вышеприведенной цитате ее автор (Д. Деннет) подразумевает какие-то формы «просвещенного эгоизма: вы чешете спинку мне, а я вам».
18 существуют и научные данные, прямо свидетельствующие в пользу нашей модели: так, исследования нейропсихологов показывают, что «… мозг хорошо отличает бескорыстный альтруизм от взаимовыгодных отношений» [Лаверычева, 2016, с. 344].
19 Мы не претендуем на то, что проблема нами была решена: речь идет об обозначении общих принципов, на основе которых она может быть решена.
20 В то же время отметим, что в нашем тексте он не имеет какого-либо теологического аспекта: наше решение проблемы «сознание – тело» [Егоров, 2022a; 2023a], хотя и соответствует религиозной антропологии, основано на естественнонаучных и философских аргументах.
21 Предельно заострил эту мысль Ю. И. Мухин, назвав свою книгу, посвященную в том числе обоснованию жизни души после смерти тела, «Не надейся – не умрешь!» [Мухин, 2004].
Об авторах
Д. Г. Егоров
Псковский филиал Университета ФСИН России
Автор, ответственный за переписку.
Email: de-888@ya.ru
доктор философских наук, профессор Зональное шоссе, 28, Псков, Россия
Список литературы
- Амосов, Н. М. (1992). Мое мировоззрение. Вопросы философии. № 6. С. 50-74.
- Асп, А., Кварц, С. (2015). Круто! Как подсознательное стремление выделиться правит экономикой и формирует облик нашего мира. Альпина Диджитал. 230 с.
- Гусейнов, А. А. (1999). Мораль и разум. Разум и экзистенция: Анализ научных и вненаучных форм мышления. СПб.: РХГИ. С. 245-262.
- Давыдов, Д. А. (2022). Добродетели против коммунизма. Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. № 4. С. 186-196.
- Деннет, Д. К. (1995). Опасная идея Дарвина: Эволюция и смысл жизни. СПб.: НЛО. 468 с.
- Егоров, Д. Г. (2022a). Модель человека в контексте реляционной парадигмы теоретической физики. Метафизика. № 3. С. 95-104.
- Егоров, Д. Г. (2022б). О причинах социальной эксплуатации и перспективах ее исчезновения. Общественные науки и современность. № 4. С. 16-32.
- Егоров, Д. Г. (2023а). Мораль и религия в контексте реляционной парадигмы: следствия для социальной идеологии. Метафизика. № 2. С. 127-141.
- Егоров, Д. Г. (2023б). Модель человека как ключ к пониманию идеологии (о немарксистской альтернативе либерализму). Общественные науки и современность. № 3. С. 23-38.
- Егоров, Д. Г. (2023в). Почему погиб СССР (о ценностных основаниях идеологий). Общество и экономика. № 12. С. 87-104.
- Кара-Мурза, С. Г. (2000). Манипуляция сознанием. М.: Алгоритм. 934 c.
- Лаверычева, И. Г. (2016). Альтруизм и эгоизм с естественнонаучной точки зрения. Биосфера. № 3. С. 338-361.
- Лебон, Г. (2019). Психология социализма. М.; Челябинск : Социум. 476 c.
- Максимов, Л. В. (1991). Проблема обоснования морали: Логико-когнитивные аспекты. М.: Философское общество СССР. 137 с.
- Мухин, Ю. И. (2004). Не надейся – не умрешь! М.: Эксмо. 384 c.
- Поппер, К. (1992). Открытое общество и его враги. Т. 2. М.: Феникс. 528 c.
- Серль, Дж. (2004). Рациональность в действии. М.: Прогресс-Традиция. 336 с.
- Торчинов, Е. А. (2007). Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб. : Азбука-классика; Петербургское востоковедение. 473 c.
- Харрис, С. (2015). Моральный ландшафт. Как наука может формировать ценности людей. М.: Карьера Пресс. 336 с.
- Черников, М. В. (2019). Об идеологии. Уроки марксизма. Свободная мысль. № 5. С. 21-32.
- Чуприкова, Н. И. (2014). Психика и предмет психологии в свете достижений современной нейронауки. Вопросы психологии. № 2. С. 104-118.
- Шац, А. (2021). Индивидуализм экономический и социальный. Истоки, эволюция, современные формы. М.; Челябинск: Социум. 706 c.
- Юм, Д. (1996). Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам. Юм Д. Сочинения в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль. С. 53-655.
- Becker, G. (1976). The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago Press. 320 р.
- Hobbes, T. (1651). Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil. London. Andrew Crooke, 1651. 389 р.
- Scruton, R. (2015). Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left. Bloomsbury Continuum. 304 p.
- Searle, J. R. (1969). How to Derive “ought” from “is”. The Is-Ought Question. Controversies in Philosophy. London. Palgrave Macmillan. Pp. 120-134.
- Smith, A. (2006). The Theory of Moral Sentiments. 322 p. [Online]. Available at: http://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_MoralSentiments_p.pdf (Accessed: 30 January 2025).
- Veblen, T. B. (1899). The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. Macmillan. 400 p.
- Young L., Alexander B. (2012). The chemistry between us. Love, Sex, and the Science of Attraction. Penguin. 320 p.
Дополнительные файлы