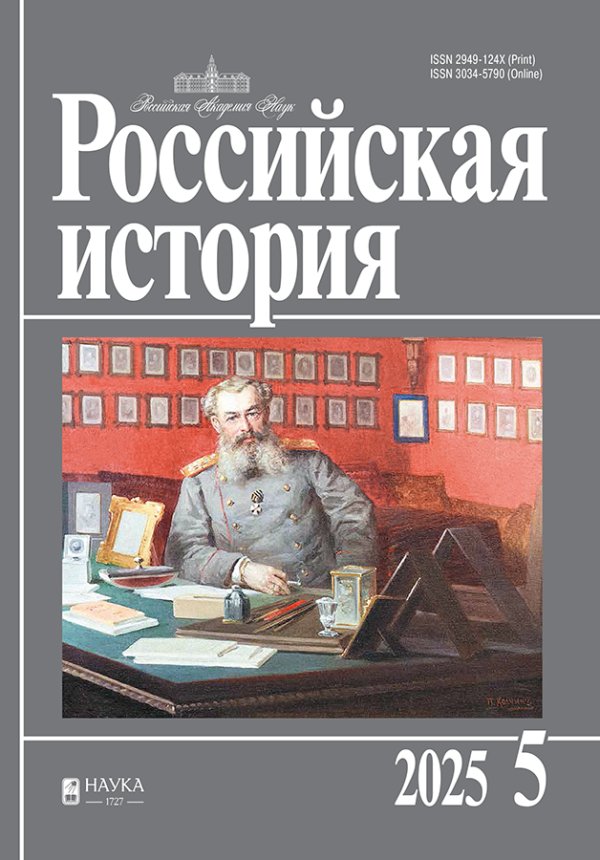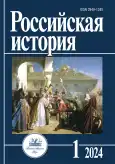Организация нелегальной эмиграции на западных окраинах Российской империи в конце XIX – начале XX в.
- Авторы: Комаров В.С.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 49-66
- Раздел: Институты и общности
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/257082
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24010059
- EDN: https://elibrary.ru/CNSKOY
- ID: 257082
Цитировать
Полный текст
Полный текст
В конце XIX – начале XX в. аграрное перенаселение и крестьянское малоземелье, бедность, близость удобных для выезда портов, налаженные сетями агентов каналы пересылки эмигрантов, выгодные условия работы в сопредельных странах (в первую очередь, в Германии)1 способствовали превращению западных окраин Российской империи в главные ворота, через которые подданные покидали её пределы. В последнее время историки всё чаще обращают внимание на функционирование паспортной системы и пограничной стражи2, направления миграционных потоков, численность и состав эмигрантов, особенности эмиграции отдельных групп населения3. Вместе с тем до сих пор не изучались формы организации нелегальной эмиграции и реакция на неё местных властей. А при попытках комплексного анализа общеимперских процессов практически не учитывается специфика конкретных участков государственной границы4. Между тем о положении, сложившемся на одном из них, позволяют судить материалы государственных учреждений Варшавского генерал-губернаторства (и прежде всего документы канцелярии генерал-губернатора и его помощника по полицейской части), хранящиеся в ГА РФ и Государственном архиве древних актов в Варшаве.
Конечно, ещё в дореволюционное время признавали невозможность точного определения численности пересекавших западную границу, поскольку «многие, беря паспорта, не заявляют о желании выселиться из России… многие, особенно из политических эмигрантов, дезертиров и т. д., покидают Россию тайно»5. Данные статистических бюро зарубежных государств6, учитывавших всех въезжавших иностранцев, и фрагментарные сведения местных российских властей лишь частично отражали масштаб легальной и нелегальной эмиграции7. Количество выезжавших не было постоянным, оно росло во время голода 1890-х гг., революционных событий 1905–1907 гг., еврейских погромов, а также после начала военных действий на Дальнем Востоке, «когда запасные нижние чины и молодые люди призывного возраста, боясь быть призванными к действующей армии, стремились к нелегальному выходу за границу»8. По подсчётам В. В. Оболенского (Осинского), с 1890-х гг. пределы империи безвозвратно покинули 3,34 млн человек9. В. М. Кабузан насчитывал их более 3,5 млн10.
А. И. Воейков различал крестьянскую, рабочую и буржуазную миграции. Крестьяне в поисках свободных земель направлялись преимущественно в степные районы и Сибирь. Немногочисленные обыватели, располагавшие небольшими капиталами, а также рабочие, рассчитывавшие на увеличение заработка, устремлялись в Северную Америку. Для занятия сельским хозяйством, по подсчётам Воейкова, за океан переселялась лишь десятая часть мигрантов11.
Согласно законам империи, всех эмигрантов следовало рассматривать как «временно покинувших русские земли». Находиться за границей разрешалось не более трёх лет. В исключительных случаях, например, при обучении в иностранных конторах, можно было продлить отсутствие в стране до шести лет. Тем, кто пропускал установленный срок, по возвращении предстояло выплатить штраф 15 руб. за каждое просроченное полугодие (размер пошлины за оформление паспорта)12. С жителей приграничной полосы, имевших право на получение льготных восьмидневных билетов, согласно Таможенному уставу, взимали рубль за первые десять дней просрочки и по два рубля за каждый следующий день13. Бессрочное проживание за рубежом дозволялось только по особому повелению императора (в основном его добивались высокопоставленные сановники).
Легальное оформление отъезда было сопряжено со сложной бюрократической процедурой, существенными денежными издержками и длительным ожиданием паспорта. Кроме того, считалось, что «простолюдину необходимо дать мзду в волости, а также, если не самому становому приставу, то уже, наверное, писарю. Уездные полицейские власти тоже не безгрешны по этой части, и потому стоимость паспорта с 15 руб. возрастает минимум до 25 руб., а иногда и до 30 руб.». Всё это побуждало пользоваться услугами частных агентов, хотя нелегальный переход границы наказывался штрафом от 4 руб. 50 коп. до 13 руб. 50 коп.14
Мотивы и категории эмигрантов.
По сведениям Департамента полиции за 1902 г., партии эмигрантов, переходившие российско-германскую границу в Варшавском генерал-губернаторстве, формировались преимущественно из жителей Витебской, Минской, Виленской, Ковенской, Сувалкской, Гродненской и Ломжинской губерний15. Их регулярно останавливали в пограничных местностях, но обычно они обладали правильно оформленными внутренними паспортами, а потому после проверки освобождались как не совершившие чего-либо противозаконного и затем уже тайно покидали пределы империи16. Длительное задержание практиковалось только при полном отсутствии документов17. Те же немногие, кого всё-таки удаляли из приграничной полосы, просто отправлялись этапным порядком в места постоянного проживания, откуда, как отмечалось в официальной переписке, «они снова идут к границе и в этот раз, благодаря знанию всех условий, большей частью уже не попадаются в руки пограничной стражи»18.
Все прибывавшие в приграничные районы объясняли своё появление «приисканием работы»19. Под этим предлогом запасные нижние чины могли свободно находиться там даже после начала военных действий на Дальнем Востоке. Правда, местные власти не без основания подозревали, что те «на самом деле выжидают лишь удобного момента для тайного перехода границы»20. Число трудовых мигрантов постоянно росло: если в середине 1890-х гг. оно достигало 80 тыс., то уже в начале XX в. в среднем ежегодно выезжало около 400–500 тыс. человек21.
В агентурных донесениях эмигранты делились на «уклоняющихся от воинской повинности… уголовных и политических преступников и лиц, едущих за границу для приискания труда»22. В делопроизводстве к их числу относили также паломников, отправлявшихся к святым местам23. За нелегальный переход политических деятелей проводники брали бóльшую плату (до нескольких десятков рублей)24.
При этом мотивы тех, кто покидал страну, оценивались по-разному. Польский социолог Ф. Знанецкий ещё до 1914 г. отрицал влияние экономики на масштабы эмиграции и призывал исследователей искать иные причины25. Непосредственно боровшийся с нелегальными переходами начальник Вержболовского пограничного отделения Петербургско-Варшавского жандармского полицейского управления железных дорог ротмистр С. Н. Мясоедов в своём пространном отчёте в МВД в мае 1903 г., наоборот, склонен был объяснять отток населения преимущественно экономическими обстоятельствами26. Начальник жандармского управления Влоцлавского, Нешавского и Гостынского уездов Варшавской губ. ожидал в 1908 г. сокращения числа выезжающих за границу, «ввиду начатой постройки в имении Доброе гмины Сендзин свеклосахарного завода, а также и узкоколейной железной дороги от этого имения до станции Нешава»27. Ф. Стасик, объясняя эмиграцию прежде всего экономическими причинами, отмечал в своём исследовании, что для входивших в состав Российской империи польских земель был важен и религиозно-политический фактор28.
На местах наиболее опасными считали тех, кто ранее выступал против государства. Представителей власти в 1907 г. беспокоило то, что «огромное большинство правонарушений приняло характер политических преступлений, и тайный переход границы зачастую объясняется стремлением скрыться от преследования за эти именно преступления»29. Характеризуя же тех, кто уходил на заработки, начальник Радомского губернского жандармского управления сообщал, что «эмиграция подобного рода совершается одновременно несколькими лицами, при этом низшим слоем крестьян, выходцами из одной и той же местности, недалёкой от границы»30.
Вынужденно покидали Россию представители различных национально-религиозных групп – евреи, поляки, немцы, духоборы, старообрядцы и др. По подсчётам В. М. Кабузана, после 1871 г. в США переехали 1 млн 446 тыс. евреев, 880 тыс. поляков, 150 тыс. немцев, тогда как русские, белорусы, украинцы составляли лишь около 8% всех эмигрировавших из империи31. Как писал Мясоедов, «чисто русские крестьяне стремятся переселиться в Азиатскую Россию, в Америку же идут только, если так можно выразиться, сепаратистские элементы, как напр[имер], евреи, составляющие 40%, а также литовцы, католики белорусы и поляки, в общем от 50 до 60%»32.
Особенно активно шла эмиграция евреев. На её пике в 1901–1910 гг. только в США выехали 704,2 тыс. человек33. Опасаясь антисемитизма военных и злоупотреблений администрации, многие евреи предпочитали пересекать границу нелегально. При этом их мотивация могла быть различной. Депутат Государственной думы поляк Я. С. Гарусевич говорил, что знает прецеденты, «когда единственный сын в семье, еврей, убегает за границу, в Америку, только потому, чтобы содержать эту семью»34. По мнению У. Фуллера, на выезд евреев повлияло введение в 1894 г. казённой монополии на водку, разорившее десятки тысяч мелких торговцев35. А. А. Иванов и А. Э. Котов указывают на то, что политические и экономические причины эмиграции инородцев тесно переплетались36. Так или иначе, спрос на услуги посредников, помогавших добраться до пункта назначения, оставался чрезвычайно велик.
Трансграничные сети нелегальной эмиграции.
В 1900 г. командир Отдельного корпуса пограничной стражи уведомил МВД, «что тайный переход границы лицами, желающими выехать из пределов России без надлежащего разрешения, не может быть окончательного прекращён средствами пограничной стражи до тех пор, пока… будут существовать эмиграционные конторы»37. В дальнейшем ситуация лишь усложнялась. Так, в феврале 1911 г. генеральное представительство Русского Восточно-Азиатского пароходства подало начальнику Варшавского губернского жандармского управления жалобу на развитие нелегальной эмиграции. В губерниях Царства Польского отправкой переселенцев занимались тогда всего три легальные конторы, которые находились в Варшаве, Сохачеве и Люблине и принадлежали пароходству. Его сотрудники указывали, что «все мероприятия правительства направлены к использованию эмиграционного движения в интересах отечественного торгового мореходства», тогда как «каждые 100 000 эмигрантов, уезжающих не из русского порта не под русским флагом, оставляют заграничным пароходным обществам 8 миллионов рублей», и требовали, чтобы местные власти старались «тормозить деятельность тёмных эмигрантских агентов и препятствовать тайному переходу нелегальных эмигрантов через границу»38.
По сути, на российской территории без официального разрешения вели свой бизнес иностранные компании – главные бенефициары всего движения. Крупнейшие из них – Северогерманский Ллойд и Гамбургско-Американская линия – содержали по нескольку эмиграционных контор в приграничных районах Германии и финансировали их контрагентов в Варшавском генерал-губернаторстве39.
Картельные соглашения позволяли фирмам увеличивать доходы. В 1892 г. они договорились о разделе прибыли от перевозки палубных пассажиров40, а в 1894 г. учредили совместную эмиграционную контору на железнодорожной станции Иллово. Находясь под покровительством германского правительства, которое не вмешивалось в её внутренние дела и лишь осуществляло за ними контроль, носивший «чисто наружный характер», она предоставляла властям статистические данные и следила за гигиеническими условиями в содержавшихся ею домах и карантинах41. Эмиграционные конторы создавались при контрольных станциях, устроенных в начале 1890-х гг. для противодействия распространению инфекционных заболеваний. Эмиграционные агенты заявляли, что «пройти мимо них нельзя ни тайно, ни явно»42. Совместно эти станции и конторы вполне легально контролировали потоки эмигрантов43.
В Германии все издержки по перевозке эмигрантов, включённые, несомненно, в общую стоимость, брали на себя пароходные общества. Они несли финансовую ответственность «в случае заболевания эмигрантов и расходы на излечение их по госпиталям», а также если «эмигрант, признанный не удовлетворяющим условию эмиграции, подлежит обратной высылке из пределов Германской империи»44. При отказе американской стороны во въезде эмигрант за счёт конторы возвращался на российскую границу45. Как указывал помощник начальника Курляндского губернского жандармского управления в Гробинском уезде и Либавском порту, после эпидемии холеры в Гамбурге в 1892 г. Германия благодаря созданию контрольных станций установила надзор за эмиграционным движением по своей территории, что позволило пропускать только тех, кто купил билеты на немецкие пароходы или купит таковые на границе46. Таким образом, функционирование контор приносило выгоду германскому правительству.
Вместе с тем И. Кацинеленбоген, занимавшийся сопровождением нелегально отъезжавших, свидетельствовал на допросе в 1912 г., что контрольными станциями на границе и конторами, нанимавшими желающих на сельскохозяйственные работы в Германии, «германский Генеральный штаб пользуется как разведочными бюро, в распоряжении которых [со]стоит бóльшая часть наших эмиграционных агентов как явных, так и тайных»47. Начальник Варшавского жандармского губернского управления писал, что на контрольной станции в Просткине по соседству с российским Вержболовым сидит барон фон Кайзерлинг – «заслуженный военный офицер прусской армии, который ведёт разведку»48. Впрочем, и Мясоедов в Вержболове вербовал среди эмигрантов осведомителей военной разведки49.
Подозреваемых в шпионаже регулярно ловили. Так, в июне 1901 г. задержали мужчину и женщину с паспортами жителей г. Коло, которые якобы больше месяца жили во Львове у родственников. Обратно через российскую границу их провёл лесом австрийский жандарм. Между тем никаких вещей и одежды, необходимых для столь длительного пребывания вдали от дома, у них при себе не оказалось50.
В заграничной конторе у эмигранта спрашивали лишь имя, фамилию, вероисповедание и место рождения51. Тем, кто не приобрёл заранее у агентов шифскарты52, предоставлялись документы для дальнейшего следования. Цены на них в разных местах варьировались и иногда достигали нескольких сотен рублей. Например, служащие Ллойда в Торне брали за путь до Нью-Йорка 174 марки (т. е. 80 руб. по курсу тех лет)53. Билет Илловской конторы в Америку или Лондон обходился в 75 руб. и более, «смотря по классу и удобствам вагонами 3[-го] и 4[-го] класса через Гамбург или Бремен»54. Если эмигрант не мог оплатить проезд или, имея билеты негерманского пароходного общества, отказывался покупать их на германские линии, его возвращали в Россию германские жандармы55.
Говорили, что в погоне за выгодой конторы выкупали эмигрантов, арестованных в приграничных российских районах. Однако начальник Ломжинского губернского жандармского управления сомневался в достоверности подобных слухов, «так как ни одна иностранная компания, как бы она богата ни была, не станет рисковать капиталом в пользу каких-то выходцев, которые ничем не могут гарантировать возврата затраченного капитала»56.
Иностранные эмиграционные конторы для обеспечения постоянного притока новых клиентов были вынуждены взаимодействовать с российскими. Например, в Иллове сотрудничали с контрагентами из Варшавы, Бреста, Белостока, Минска и Вильны57, а те, в свою очередь, имели собственных представителей как на окраинах, так и в центральных губерниях России. В делопроизводственной переписке властей эти структуры условно именовались «конторами», но в действительности они являлись законспирированной сетью во главе с генерал-агентами, которые за установленную плату, доходившую до 500 руб. в месяц, организовывали наплыв эмигрантов в иностранные пароходные общества58. Только генерал-агенты регулярно и напрямую контактировали с заграничными филиалами этих компаний, тогда как остальные посредники довольствовались получением своих процентов за успешную работу59. Как отмечалось в одном из донесений, «нормальная плата за провод каждого эмигранта через границу колеблется между 9 и 10 рублями», генерал-агент оставлял из неё «в свою пользу 4 или 5 рублей». Высокие вознаграждения объяснялись необходимостью общения с носителями власти: коррупционная составляющая закладывалась в них изначально60.
Ниже в иерархии стояли извозчики, «встречающие, по указаниям генерал-агентов, отдельных эмигрантов, а также целые их партии», которые требовалось доставить до границы, где уже ждали проводники. Те, «проведя эмигрантов через границу, передают их ожидающим на прусской территории своим товарищам по профессии», занимавшимся организацией перемещения по Германии. Из уплаченной эмигрантом суммы извозчик получал полтора рубля, проводник – два рубля, принимающий по другую сторону границы агент – 50 копеек. Ещё один рубль предназначался для нижних чинов пограничной стражи61.
В делопроизводственных документах российских ведомств часто отмечалось, что подавляющее большинство агентов составляли евреи. Местные чиновники утверждали, что именно «свойственная евреям изворотливость»62 позволяла преступникам оставаться безнаказанными и развивать свой промысел. Однако немаловажную роль в нём играла пограничная стража, которая попустительствовала и нередко даже содействовала нелегальной эмиграции. Кроме того, иногда её чины сами становились эмиграционными агентами. Но в Царстве Польском в ней служили почти исключительно уроженцы центральных губерний империи православного вероисповедания (90% офицеров и 95% нижних чинов)63, тогда как евреев в её ряды не допускали вовсе64.
Несмотря на постоянные контакты между эмиграционными агентами, большинство из них предпочитали действовать в одиночку, дабы не подвергнуться обвинению в причастности к тайному сообществу. Индивидуальная же деятельность не преследовалась судебным порядком, поскольку «таковое преступление не предусмотрено Уложением о наказаниях»65. Поэтому в агентурных сетях отсутствовали формализованные связи, хотя их участники договаривались об общих принципах ведения дел.
Делалось это по-разному. Агенты-евреи Кольненского уезда Ломжинской губ. в 1904 г. принесли «хейрим» (торжественная клятва, нарушение которой каралось отлучением от синагоги), обещая согласовывать свои действия, ничего не скрывая друг от друга, и не красть у партнёров по бизнесу66. Жандармское управление Варшавского, Новоминского и Радиминского уездов информировало начальство о том, что для выработки правил нелегальной эмиграции, агенты начали проводить тайные съезды. Первый из них состоялся в 1909 г. в Кёнигсберге, второй – в 1910 г. в Петербурге67.
Для конспирации использовались псевдонимы. Например, в Плоцкой губ. «еврей по прозвищу Волк оказался Вульфом Аргентштейном, Ястреб, Коза, Кидка, Мигдаль и прочие оказались совершенно другими лицами по фамилиям, и их розыск являлся делом весьма сложным, а иногда подобные лица оставались и невыясненными»68. Стремясь скрыть истинные цели частых отлучек за границу, агенты маскировали свою деятельность легальными заработками. Так, З. Анкшетейн, преуспевший сперва в Плоцкой, а потом в Ломжинской губерниях, числился купцом 2-й гильдии, хотя не скрывал, что работал исключительно в эмиграционной конторе в Просткине и использовал сословный статус для получения многократных заграничных паспортов69. Гутман в г. Коло Калишской губ. продавал за рубеж птицу, а в фургонах для её перевозки укрывал нелегалов70.
Организаторы процесса поддерживали между собой постоянную связь. Жандармы знали, что после пересечения эмигрантами границы сопровождавшие их посредники «дают телеграммы своим компаньонам в России о благополучном проезде. Эти телеграммы в одно слово, так, например: “продано” или “здоровы” или “хорошо”, что означает: перешли границу»71. В них также могли шифроваться сведения о численности группы и о том, кем она отправлена. Если сообщалось, допустим, «“ожидайте товар 125” или “136” – это означает, что следует партия эмигрантов в числе 25 или 36 человек, а не 125 или 136», поскольку первой цифрой обозначался номер отправителя, «под которым он значится по списку агентов эмиграции»72. Расшифровать подобную переписку властям удавалось не всегда.
В приграничных пунктах действовали лица, «на обязанности которых лежит отправлять эмигрантов через границу, распределяя их на легальных, имеющих документы, и нелегальных»73. Нередко эти агенты помогали наладить проезд легальных эмигрантов через официальные пограничные пункты («рогатку»). Тем не менее основной доход им приносили именно те, кто покидал страну нелегально.
Способы переправки постепенно совершенствовались. Наличие у прибывающих для «приискания работы» шифскарт рассматривалось местными властями как признак желания эмигрировать, а отсутствие при этом заграничного паспорта указывало на намерение сделать это нелегально. Препятствуя этому, полиция стала изымать при задержании шифскарты, однако агенты пересылали их по почте в заграничные конторы74.
В Седльце подпольно печатались легитимационные билеты, которые заверялись подложной печатью начальника пограничного уезда75. Одновременно агенты занимались переправкой в Россию политической и иной контрабанды, зарабатывая таким образом на нелегальном переходе границы дважды. Так, С. Пинкерт действовал по всей территории Привислинского края, выдавая себя за офицера штаба военного округа, жандармского управления и охранного отделения76.
По тем же каналам нередко шла и торговля «живым товаром», связанная с отправкой (зачастую с помощью обмана) «девушек и красивых женщин в публичные дома Америки» (прежде всего – в Гватемалу и Аргентину)77. За их доставку агенту платили 100 и более марок, тогда как за обычного эмигранта – от одного до семи рублей, т. е. до 15 марок (но столько получали лишь руководители заграничных контор)78. В Варшаве «нелегальной эмиграцией и по большей части отправкой женщин на продажу в Буэнос-Айрес» занимались Д. Розенберг, Л. Шнайдерман, С. Пинкерт и И. Герц79, этим же промышлял житель Новоминска Э. Плеве, имевший, по-видимому, не только постоянных корреспондентов, но и сообщников в разных частях империи80. В Бреслау М. Вольштейн сначала переводил через границу крестьян, направлявшихся в Америку, «а после с целью ещё большей материальной наживы вошёл в соглашение со специальными заграничными агентами, занимающимися торговлей женщинами»81. Он нелегально переправлял девушек через границу в Торн, откуда их тайно, по большей части парами, чтобы не привлечь внимание полиции, доставляли сначала в Берлин или Париж, а затем уже в Аргентину, где обманом помещали в бордели. Когда Вольштейна разоблачили, германские власти запретили ему находиться на территории рейха. Но он, опасаясь за своё благосостояние, согласился на предложение стать шпионом и собирать сведения о российских войсках82, сохранив возможность переходить границу.
В соответствии с Парижскими конвенциями 5(18) мая 1904 г. о мерах по пресечению торговли женщинами, государствам следовало бороться с подобной практикой83. Однако у пограничных чиновников были иные приоритеты. Начальник Калишского губернского жандармского управления в 1912 г. писал помощнику варшавского генерал-губернатора: «Паспортная часть находится в руках таможенных чинов; но так как чины эти главное своё внимание обращают на досмотр товаров и пассажирских вещей (это им очень выгодно, ибо при обнаружении при досмотре контрабанды они получают 50% стоимости обнаруженного товара), то к проверке паспортов они относятся крайне поверхностно и редко обращают внимание на то, имеет ли право лицо переходить границу»84.
В октябре 1904 г. ломжинский губернатор отметил усиление эмиграционного потока после начала военных действий на Дальнем Востоке. В августе, узнав о том, что администрация проводит расследование ситуации, агенты притаились, и «эмиграция почти прекратилась», однако «с открытием действий присутствия по воинской повинности… они вновь восстановили в прежних размерах свой преступный промысел»85.
Видя безуспешность борьбы с деятельностью эмиграционных «контор», правительство попыталось поставить её под контроль. С 1909 г. им разрешалось после регистрации продавать билеты на пароходы на определённой территории. Выход же за её пределы дозволялся лишь при официальном размещении в новых пунктах специальных агентов и субагентов, разумеется, с согласия губернских властей86. Но данное нововведение почти ничего не изменило, поскольку сети посредников не нуждались в легализации, а санкции, предусмотренные за незаконные операции, выглядели ничтожными по сравнению с доходами наиболее востребованных правонарушителей. К тому же в большинстве своём они оставались неуловимыми, «особенно ввиду подкупленности нижних чинов пограничной стражи агентами тайной эмиграции»87.
Коррупционная составляющая нелегальной эмиграции.
Как констатировал Мясоедов, «полиция и пограничные чины пограничной стражи, не имея силы воли противиться постоянным искушениям, в конце концов поддаются соблазну, берут взятки и потворствуют эмиграционному движению»88. Неудивительно, что число дел, заводившихся против пограничников и жандармов, росло. Содействие эмиграции, несомненно, было выгодным занятием. В 1902 г. в Сувалкском окружном суде «слушалось дело об утверждении в правах на 100 000 р[ублей] наследников умершего вахмистра пограничной стражи»89. Очевидно, что унтер-офицерское жалованье не позволяло составить такой капитал.
В Сувалкском губернском жандармском управлении полагали, что «офицер бессилен в борьбе с этим злом в силу следующих обстоятельств: солдат с поступлением в пограничную стражу знает, что за всякого рода поимки он получает крупный процент деньгами, так, например: тридцать процентов без проносителя и восемьдесят с проносителем. Таковое крупное вознаграждение, по-видимому, должно было бы быть поощрением к ревностному исполнению, на практике же это и служит развращением солдат, так как за задержанный товар деньги он получает не при задержании, а через несколько лет, часто даже после ухода в запас, благодаря волоките судопроизводства этих дел, при том никогда в том количестве, как ему причитается при задержании, так как товар, лёжа несколько лет, портится и после неоднократных переоценок оценивается в гроши. За задержание эмигрантов солдат ничего не получает. Солдат же, пропуская нелегально через границу эмигранта и способствуя проносу контрабанды, получает деньги тотчас же по условию, при этом зная, что его никто не выдаст, и факт участия его в злоупотреблении остаётся скрытым. Ввиду существующей солидарности в этом случае среди солдат задержание солдат с поличным случается крайне редко, в большинстве случаев лишь только оговор, не поддающийся к выяснению при самых тщательных расследованиях, и ввиду существующего взгляда высшего начальства, приписывающего такого рода положение нерадению офицеров. Последние, спасая личность свою, всегда стараются обелить солдат»90.
Тем не менее уличённым в содействии нелегалам грозило заключение под стражу, удаление со службы или перевод во внутренние губернии империи91. Впрочем, множество прецедентов подобного рода не мешало тем, кто замещал открывавшиеся вакансии, продолжать дело предшественников. Более того, изгнанные со службы могли сами стать эмиграционными агентами. Так, в Волковышском уезде Сувалкской губ. солдат пограничной стражи В. Воробьёв, по слухам, содействовал нелегальной эмиграции. Причины его увольнения со службы неизвестны, однако уже после отставки он был задержан при переводе эмигрантов через границу. Прося сувалкского губернатора выселить нарушителя, начальник Волковышского уезда утверждал: «Проживание и эмиграционная деятельность Василия Воробьёва на самой пограничной полосе является особенно вредной по тем причинам, что как бывший солдат пограничной стражи хорошо знаком со способами охранения границы и, пользуясь знакомствами в среде прежних сослуживцев, склоняет их подкупами к нарушению присяги и долга службы»92.
На границе агенты напрямую договаривались с рядовыми. Делалось это довольно просто: «За условленную… плату начальник кордона (нижний чин) назначает доверенного часового в условленное… место, о чём даёт им (агентам. – В.К.) знать, и граница, таким образом, становится свободна для прохода её»93. Подкупив отвечавших за пограничные посты младшего унтер-офицера и ефрейтора, а также их подчинённых, агенты обеспечивали отсутствие в нужное время контроля, «благодаря чему часовые смело входили в сделку с проводниками эмигрантов»94. Правонарушители понимали, что «начальник кордона из нижних чинов легко может вести наблюдение за жизнью офицера и для умышленного пропуска лиц за границу выбрать, по условию с контрабандистами, удобное время, когда упомянутый офицер отдыхает или отвлечён исполнением каких-либо неотложных служебных обязанностей»95. Отмечалось также, что «офицерский состав в лучшем случае или терроризирован нижними чинами, или даже находится у них в руках»96. Не стоит, однако, думать, будто офицеры были абсолютно неподкупны. Представителям контор удавалось вовлекать в свои дела достаточно высокопоставленных лиц. Какого-то единого тарифа тут не существовало – всё зависело от местных условий, интенсивности эмиграции и статуса взяточника. Помощник начальника белостокского отделения Киевского жандармского полицейского управления железных дорог сообщал о предложенных посулах: «Мне – 1 000 рублей, начальнику Щучинского уезда – 600 руб., войтам – 400 руб., старшему жандарму – 200 руб., но может, и больше, и младшим жандармам от 15 до 25 руб.»97. Часть этих служащих, судя по записке офицера, уже была подкуплена. Чаще всего в делах упоминалась плата за перевод одного эмигранта (от 50 коп. до рубля). Договорившись с чинами пограничной стражи, агенты компенсировали расходы на оплату их услуг, переводя несколько партий за одну ночь: «Проводник сам границу не переходит, а возвращается для привода следующей группы, пользуясь временем, пока стоит известный часовой»98.
За особые услуги организаторы нелегальной эмиграции соглашались платить довольно крупные суммы. Так, Мысловицкая эмиграционная контора Вайхмана собиралась предложить сосновицкому приставу 25 тыс. марок (11,5 тыс. руб.) за уничтожение документов о её деятельности99. А жительница деревни Пекелко Ю. Мужинская не только подкупала солдат пограничной стражи деньгами, но и оказывала им интимные услуги100100.
Стремление нижних чинов к лёгкому заработку стимулировало процесс. В Департамент полиции поступали сведения о том, что «чины сами обращаются к агентам эмиграции с просьбами дать им возможность что-нибудь заработать»101. Заведовавшего паспортной частью на станции Млава ротмистра Дунина к сделке склонила жена, лично согласовавшая условия с агентом102. Нижние чины могли заменять проводников, указывая эмигрантам места для перехода границы, или выполнять роль посредников, забирая нелегалов из перевалочных пунктов103.
Вступая в сговор с представителями власти, агенты разрабатывали мошеннические схемы, позволявшие получить максимальный доход. Например, в Новоминске Плеве подсылал подкупленного полицейского на квартиру, где эмигранты ожидали выезда из империи. Арестовав подозреваемого, служитель закона отпускал его за плату, составлявшую всю наличность, о которой знал агент104.
При задержании агенты старались откупиться. На пограничном пункте Гербы-Русские И. Шпрингер предлагал задержавшему его К. Ковальчуку 10 руб. и цепочки для часов105. Унтер-офицеру жандармского управления Бендинского уезда Петроковской губ. Ф. Соколову обещали дать 12 руб.106 Более крупные дельцы могли напрямую договариваться с властями уезда. В Млаве М. Захарьяш добивался освобождения арестованных эмигрантов, делясь полученными после их отправки за границу деньгами с начальником земской стражи Млавского уезда ротмистром П. К. Граббе и делопроизводителем полицейского отделения млавского уездного управления губернским секретарём С. В. Музолевским107.
Напротив, отказ от сотрудничества и попытки противодействовать нарушителям были сопряжены с известным риском. Старшему стражнику С. Пивнюку, служившему близ Келче-Копского кордона, нижние чины грозили убийством, если тот будет им мешать108. Вахмистра вержболовского отряда Автаева убили его сослуживцы109.
Тем не менее многие оставались верны своему долгу. Тот же унтер-офицер Соколов, приняв взятку в 12 руб., сразу же передал деньги своему непосредственному начальнику ротмистру Е. К. Климовичу, который отправил их в Петроков, в приют имени св. Софии. Помощник варшавского генерал-губернатора по полицейской части объявил Соколову благодарность за честную службу110. В 1907 г. появился даже специальный циркуляр, согласно которому жандармским чинам в обязательном порядке объявлялась благодарность, если полученная ими взятка сдавалась в казну111. Унтер-офицер пункта Граево Азаров, приняв 10 руб. от М. Беренштейна, сразу же сообщил об этом жандармам, объяснив свои действия намерением усыпить бдительность агентов, собрать против них улики и установить наблюдение за контрабандистами, занимавшимися в том числе ввозом оружия112. Кроме того, он предоставил начальнику Ломжинского губернского жандармского управления список известных ему агентов. Начальник Щучинского уезда Ломжинской губ. заявил агенту, склонявшему его к сотрудничеству, что готов уйти в отставку, если подтвердятся сведения о подкупе его непосредственного начальства113.
В. Ф. Джунковский вспоминал, как будучи товарищем министра внутренних дел и командиром Отдельного корпуса жандармов решил, возвращаясь в Россию через Вержболово, проверить работу приграничной стражи и попытался перейти границу с нарушением установленного порядка. Однако не узнавший генерал-майора жандармский унтер-офицер остановил его и пригрозил ему арестом, удостоившись похвалы за правильное понимание службы и получив 5 руб.114
Впрочем, не всегда можно было с уверенностью отделить радение о службе от попытки скрыть свою причастность к противоправной деятельности. Командир Келче-Копского отряда пограничной стражи ротмистр С. И. Хомяков запретил в приграничной полосе выпас лошадей и скота, под прикрытием которого переправлялись эмигранты. Однако, оставляя на время отряд, Хомяков прямо напутствовал подчинённых, чтобы до его возвращения те не «стеснялись пропуском за границу лошадей и эмигрантов». Несмотря на это, в его отсутствие «пропуски значительно уменьшились». И хотя выдвинутые против ротмистра обвинения не подтвердились, в Ломжинском губернском жандармском управлении считали, что следствие проводилось формально и недостаточно тщательно, а полученные при повторном разбирательстве сведения оказались противоречивыми. В результате Хомякова перевели на другое место службы115.
В подобных действиях обвинялся и начальник Слупецкого уезда Л. В. Степанов, который в разговорах с начальником жандармского управления Калишского, Конинского и Слупецкого уездов ротмистром Н. Н. Аплечеевым, направленным в Слупецк для расследования, заявлял о своей непримиримости к нелегальной эмиграции. Между тем вскоре выяснилось, что он был в ней материально заинтересован и освобождал задержанных эмигрантов116.
Мясоедов утверждал, что в своей борьбе с нарушениями границы натолкнулся на противодействие местной полиции и состоявшего на жалованьи у агентов начальника Волковышского уезда Сувалкской губ. статского советника А. А. Линка, который «прямо-таки старался уничтожить результаты моих действий и пользовался всяким случаем, чтобы выпустить на свободу задержанных мною эмигрантов». Со своей стороны Линк многократно жаловался сувалкским губернатору и прокурору на якобы незаконные задержания подчинёнными Мясоедова прибывавших в Вержболово лиц. Однако Мясоедов легко опровергал эти упрёки, ссылаясь в 1903 г. на то, что, «несмотря на кажущийся произвол в наших действиях, за последние годы не было ни одного случая принесения основательной жалобы на противозаконное задержание мной кого-либо, имевшего законный вид на жительство»117.
Департамент полиции, расследовав обвинения Линка во взяточничестве и пособничестве эмиграции, установил его причастность к незаконным операциям. Агенты Браунштейны выплачивали ему и полицейскому надзирателю Бердовскому 300 руб. в месяц, причём деньги они получали преимущественно лично, выезжая за границу в Эйдкунен. Подкуп начальника уезда способствовал большей сговорчивости двух местных жандармских унтер-офицеров, которым ежемесячно платили по 15 руб. Уликой служило распоряжение Линка, запрещавшее «задерживать лиц при наличии у них паспортов и заявлений о розыске работы, ограничивая… действия лишь наблюдением»118.
В итоге Линка уволили. Однако впоследствии, когда репутация Мясоедова как офицера, не берущего взятки, оказалась скомпрометирована, и он сам попал под подозрение, появились свидетельства, объяснявшие его конфликт с Линком тем, что одному платили Браунштейны, а другому – конкурировавшая с ними контора С. Фрайдберга в Либаве119.
Борьба с нелегальной эмиграцией.
Несмотря на не прекращавшиеся попытки власти изменить ситуацию, местные жители по многим причинам не спешили поддерживать эти усилия. «Пограничное же население, – отмечали в Департаменте полиции, – положительно испорчено тайной эмиграцией, так как одни состоят в эмиграционной агентуре работниками и получают известный процент, другие работают самостоятельно, проводя ночью через границу двух-трёх эмигрантов, а третьи занимаются переправкой всякого рода контрабанды»120. В 1907 г. в Сувалкском губернском жандармском управлении констатировали, что сопровождение нелегалов приносило огромные доходы, а агенты делались «на глазах всех в какие-либо десять лет из нищих помещиками»121. Неудивительно, что вмешиваться в подобный бизнес было небезопасно. Один из тайных осведомителей настаивал на том, что «нужно проводить следствие под присягой, т[ак] к[ак] местные боятся от шайки краж и поджогов»122. Жители посада Кибарты неоднократно сообщали о расправах, которые устраивали агенты123.
Правдивость обращений к властям не без оснований вызывала сомнения. Взаимные обвинения часто практиковались в среде агентов: «На почве материальной конкуренции группы эти подают друг на друга анонимные доносы, но благодаря покровительству местных жителей к результату расследования не приводят»124. В изрядном количестве поступали жалобы и на пограничных офицеров, мешавших преступному промыслу. Сообщаемые в них сведения обычно не находили подтверждения125.
Предметом бурного обсуждения стал случай, произошедший на станции Ивангород. 26 апреля 1906 г. начальник Ивангородской крепостной жандармской команды подполковник А. А. Арцыбашев распорядился задержать состав, в котором, по его данным, находились несколько десятков потенциальных нелегальных эмигрантов. Среди пассажиров действительно обнаружили подозрительных лиц, однако «оцепление войсками пассажирского поезда и притом по делу, не имевшему никакого политического характера», да ещё «почти накануне открытия Государственной думы, вызвало разнообразные и едва ли желательные толки в местном обществе». Повод к столь жёстким действиям дала анонимная телеграмма, которая, «по-видимому, была послана эмиграционным агентом с целью повредить своему конкуренту, перевозившему задержанную партию». Арцыбашев оправдывал своё решение тем, что упомянутые в ней беспаспортные беглецы могли оказаться «спасающимися от преследования политическими убийцами»126. В июне 1912 г. сходным образом обосновывал свои меры и начальник Варшавского жандармского губернского управления, указывавший на то, что «все преступники и вообще люди, убегающие из России из-за боязни преследований, русскими агентами по тайной эмиграции направляются через пограничный пункт Вержболово»127.
Но нередко подобная борьба приводила к совсем иным результатам, нежели ожидалось. К примеру, начальник жандармского управления Млавского, Праснышского и Цехановского уездов Плоцкой губ. в 1900 г. не без удивления обнаружил, что после того, как за три года из приграничной полосы выдворили 20 агентов, «перевод эмигрантов не только не уменьшился, а напротив, увеличился, причём только все агенты стали более осторожными»128. Главный начальник соседнего с Царством Польским Северо-Западного края В. Н. Троцкий, основываясь на опыте своего генерал-губернаторства, признавал, что «ловили же в большинстве случаев “работников”, получавших за труды эти от 1 руб. Сколько известно, главных воротил за отсутствием улик не трогали, и потому борьба с такими агентами была нелёгкою»129.
Командующий калишской бригадой пограничной стражи полковник Я. В. Червинка указывал на бесперспективность сдерживания нелегальной эмиграции законными методами: «Фактически пограничная стража бессильна воспрепятствовать эмиграции, так как задерживать лиц до перехода границы они не могут, а если и задержат, то таможня освободит ввиду отсутствия состава преступления; также не может пограничная стража принимать каких-либо действий в то время, когда эмигрант перешёл [на] прусскую сторону, а следовательно, единственным законным случаем к принятию мер представляется тот момент, когда совершается переход границы, но для этого нужны всего лишь две-три секунды, так как граница с Пруссией открытая и видимым знаком её служит пограничная дорожка. Таким образом, переход за границу чрезвычайно лёгкий, и меры, предпринимаемые к задержанию политических эмигрантов, не могут быть достигнуты»130130. По словам помощника варшавского генерал-губернатора по полицейской части Л. К. Утгофа, «эмигрантов, переходящих сухопутную границу, нельзя приравнять к тем, кто эмигрирует через порты, где момент вступления лица на пароход, отходящий за границу, устанавливает признак, по коему его можно признать за эмигранта»131. Следовательно, даже фиксация статуса эмигранта являлась проблематичной.
Приходилось считаться и с тем, что «лица, занимающиеся в виде промысла тайным переводом эмигрантов через границу, совершенно неуловимы, так как задержание их близ границы не даёт ещё оснований для привлечения их к законной ответственности, которая возможна или в случае задержания их во время самого перехода границы… или при доказанности наличия подговора к эмиграции»132. Но тот же Мясоедов в 1903 г. видел, что «раньше агенты подстрекали, а теперь уже и не надо», поскольку у крестьян имелось достаточно информации из-за рубежа от тех, кто покинул насиженные места ранее133. К тому же в 1906 г. соответствующая статья «Уложения о наказаниях» получила новую редакцию: отныне каралось только распространение «заведомо ложных слухов о выгодах переселения за границу»134.
На практике это ещё более осложняло борьбу с агентами. Высылка их по распоряжению генерал-губернатора вглубь страны являлась крайней мерой. Обычно сначала всё ограничивалось удалением из приграничной полосы или помещением под надзор полиции. Так, жители Млавского уезда В. Вышомирский и С. Вашковский ещё в 1898 г. обвинялись в организации нелегальной эмиграции. Первому из них воспрещалось жить ближе, чем за 100 вёрст от границы, второй находился под надзором полиции. Однако ничего не помогало, и вскоре они снова попали под подозрение. Местные власти ходатайствовали о выселении обоих из Привислинского края, но достаточных доказательств собрать не удалось, и дело закрыли135135. Впрочем, большинство из тех, кого всё же выслали в административном порядке, смогли воспользоваться объявленной в октябре 1905 г. амнистией136. Те же Браунштейны, сосланные в Якутию в 1903 г., через несколько лет вернулись к прежней деятельности137.
На местах выдвигались самые разные инициативы. Помощник варшавского генерал-губернатора по полицейской части в 1901 г. ходатайствовал о посылке за границу под видом нелегального эмигранта доверенного лица, способного раскрыть механизм преступного бизнеса138. Ломжинский губернатор в 1908 г. рекомендовал предоставить местной администрации право получать из почтово-телеграфных контор копии телеграмм, поступивших на имя лиц, заподозренных в тайном переводе эмигрантов139. Начальник Варшавского губернского жандармского управления в 1912 г. предлагал изымать на пограничных переходах письма, адресованные контрольным станциям, поскольку в них всегда можно обнаружить тайные шифры и имена агентов, деньги, шифскарты и т. п.140 Но такие явно паллиативные меры не могли радикально исправить ситуацию, вызывавшую всё бóльшую критику как в правительственных сферах, так и в обществе.
Нелегальная эмиграция из Российской империи к началу XX в. достигла поистине колоссального размаха, и её организация сделалась исключительно доходной сферой деятельности. Сотни и даже тысячи подданных царя ежедневно переходили границу с нарушением предусмотренного законами порядка. Представители власти пытались не только остановить поток эмигрантов, но и осмыслить происходившие процессы. Единства мнений о причинах усиления эмиграционного движения в чиновничьей среде не было, наиболее часто оно объяснялось экономическими мотивами, но учитывались и «подговоры» лиц, заинтересованных в росте перевозок и создававших ложный образ прекрасного будущего за границей. Вина возлагалась также на агентов-евреев, чему немало способствовали широко распространённые антисемитские настроения. Спрос на услуги посредников стимулировал возникновение целых конспиративных сетей, взаимодействовавших со служащими (от рядовых пограничников до уездных начальников) и побуждавших их к преступлениям. Перспектива лёгкого, быстрого, а главное, безопасного заработка являлась для многих исключительно притягательной.
Борьба с нелегальной миграцией не имела успеха. Высланных агентов сменяли новые, а вовлечённость в их бизнес жителей приграничных районов обеспечивала круговую поруку. Кроме того, руководство сетями осуществлялось иностранными фирмами, контролировать которые российское правительство не могло. Высокая материальная заинтересованность различных структур, корпораций и социальных групп в процветании противоправного промысла способствовала дальнейшему раскручиванию маховика эмиграции.
1 © 2024 г. В. С. Комаров
Статья подготовлена при поддержке фонда «Гуманитарные исследования» факультета гуманитарных наук национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», проект «Восточноевропейские исследования в транснациональной перспективе».
По словам Н. Л. Тудоряна, «в Германии заработная плата сельскохозяйственного рабочего примерно в полтора раза превышала существовавшую в северо-западных и юго-западных губерниях России, а в Америке – в 3 и даже 4 раза» (Очерки российской трудовой эмиграции периода империализма (в Германию, Скандинавские страны и США). Кишинёв, 1986. С. 27).
2 Чернуха В. Г. Паспорт в России. 1719–1917. СПб., 2007.
3 Бескровный Л.Г., Пожарский Я. Е., Кабузан В. М. Миграции населения России в XVII – начале XX века // Проблемы исторической демографии СССР. Томск, 1980; Кукушкин В. Е. У истоков канадского православия: украинская иммиграция конца XIX – начала XX в. и возникновение первых православных приходов в западной Канаде // Петербургский исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории. 2016. № 1(9); Дронов М. Ю. К истории первых контактов духоборцев и галичан в Канаде конца XIX – начала ХХ в. (по материалам русских авторов) // Вынужденное соседство – добровольное приспособление в дипломатических и межнациональных отношениях в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе XVIII–XXI вв. Сборник статей. СПб., 2017; Дементьев А. А. Падение самодержавия и русские эмигранты в Аргентине // Вестник Санкт-Петербургского университета. Т. 63. 2018. Вып. 4; Кимов Ю. Г. Самоорганизация традиционного общества в условиях иммиграции: русины в США и Канаде в последней трети XIX в. (некоторые аспекты) // Традиционные общества: неизвестное прошлое. Материалы XIV международной научно-практической конференции. Челябинск, 2018
4 Тарле Г. Я. Эмиграционное законодательство России до и после 1917 года (анализ источников) // Источники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX–XX вв. Сборник статей. М., 1997; Куприн Д. О. Эмиграция из России в конце XIX – начале XX вв. Дис. … канд. ист. наук. М., 2000; Лор Э. Российское гражданство: от империи к Советскому Союзу. М., 2017.
5 Воейков А. И. Распределение населения земли в зависимости от природных условий и деятельности человека. СПб., 1906. С. 58.
6 Например, сведения о населении США регулярно публиковались в специальных статистических сборниках: Statistical Abstract of the United States. Washington, 1878–2012.
7 Сведения о численности эмигрантов предоставлялись губернаторами по запросам МВД. Данные о легальной эмиграции фиксировались в книгах о пересечении границы российскими подданными. Представления о нелегальных потоках складывались на основании личных наблюдений местных чиновников и числа задержанных пограничной стражей.
8 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далее – AGAD), Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego (далее – KGGW), 1904–1910, sygn. 260, k. 48.
9 Оболенский (Осинский) В. В. Международные и межконтинентальные миграции в дореволюционной России и СССР. М., 1928. С. 11.
10 Кабузан В. М. Движение населения в Российской империи // Отечественные записки. 2004. № 4(19). С. 82–93.
11 Воейков А. И. Указ. соч. С. 54.
12 Гольденов Д. М. Устав о паспортах. По официальному изданию 1903 г., с сенатскими и министерскими разъяснениями и с приведением доп. узаконений и правил. СПб., 1905. С. 97.
13 Свод законов Российской империи. Т. 6. СПб., 1857. С. 533.
14 ГА РФ, ф. 102, оп. 60, д. 19, ч. 5а, л. 19 об.
15 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1360, л. 1.
16 AGAD, Pomocnik Warszawskiego Generał-Gubernatora do Spraw Policyjnych (далее – PWGGSP), 1900, sygn. 516, k. 15.
17 Так, 2 декабря 1906 г. циркуляр по войскам Отдельного корпуса пограничной стражи предписывал передавать полиции лишь тех из задержанных при нелегальном переходе, которые «не имеют установленных видов на жительство или же обладают сомнительными документами» (Сборник циркуляров Отдельного корпуса пограничной стражи за 1906 г. СПб., 1907. С. 119).
18 ГА РФ, ф. 102, оп. 60, д. 19, ч. 5а, л. 15.
19 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1281, л. 117 об.
20 AGAD, KGGW, 1904, sygn. 187, k. 6.
21 Будницкий О. В. Другая Россия: исследования по истории русской эмиграции. М., 2021. С. 14.
22 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1368, л. 2.
23 AGAD, KGGW, 1904, sygn. 191, k. 7.
24 ГА РФ, ф. 215, оп. 1, д. 494, л. 2.
25 Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.). Warszawa, 1984. S. 238.
26 ГА РФ, ф. 102, оп. 60, д. 19, ч. 5а, л. 18 об.
27 Там же, ф. 1662, оп. 1, д. 61, л. 33.
28 Stasik F. Polska emigracja zarobkowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1865–1914. Warszawa, 1985. S. 15, 32.
29 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1365, л. 19.
30 Там же, л. 19 об.
31 Кабузан В. М. Движение населения… С. 90.
32 ГА РФ, ф. 102, оп. 60, д. 19, ч. 5а, л. 21.
33 Кабузан В. М. Эмиграция и реэмиграция в России в XVIII – начале XX века. М., 1998. С. 175.
34 Государственная дума. Стенографические отчёты. Созыв III. Сессия V. Заседание 86. 7 марта 1912 г. СПб., 1912. Стб. 245.
35 Фуллер У. Внутренний враг: шпиономания и закат императорской России. М., 2009. С. 28.
36 Иванов А.А., Котов А. Э. Экономическое значение и попытки регулирования зарубежной трудовой миграции на западных окраинах Российской империи (конец XIX – начало XX века) // Новейшая история России. Т. 10. 2020. № 1. С. 71.
37 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1357, л. 1.
38 Там же, ф. 217, оп. 1, д. 455, л. 6–6 об.
39 Там же, ф. 102, оп. 60, д. 19, ч. 5а, л. 5. Так, Гамбургско-Американская линия имела представительства в прусском Просткине на границе с Ломжинской губ. и в Млаве Плоцкой губ. (Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1364, л. 5).
40 Восленский М. С. Тайные связи США и Германии. Блок империалистов против Октября (1917–1919). М., 1968. С. 22.
41 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1357, л. 5–5 об.
42 Там же, ф. 217, оп. 1, д. 457, л. 32.
43 Путятова Э. Г. Роль пароходных компаний в транспортировке российских эмигрантов в Южную Америку (конец XIX – начало XX в.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Политология. Международные отношения. 2009. Вып. 2. С. 282.
44 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1357, л. 5.
45 Там же, л. 12 об.
46 Там же, ф. 102, оп. 60, д. 19, ч. 5а, л. 6.
47 Там же, ф. 217, оп. 1, д. 457, л. 32.
48 Там же, л. 7 об.
49 Фуллер У. Указ. соч. С. 35.
50 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1358, л. 16–17.
51 Там же, д. 1357, л. 6.
52 Шифскарта (нем. Schiffekarte) – билет пароходных компаний для проезда эмигрантов из Европы, как правило, в Америку, обычно приобретавшийся родственниками уезжавших и пересылавшийся в страну предполагаемого отъезда.
53 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1358, л. 12 об.
54 Там же, л. 6.
55 Русь. 1905. 26 марта. № 77.
56 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1362, л. 31 об.
57 Там же, д. 1357, л. 6 об.
58 AGAD, KGGW, 1904–1910, sygn. 260, k. 69–70.
59 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1360, л. 2.
60 AGAD, KGGW, 1904–1910, sygn. 260, k. 70.
61 Там же
62 ГА РФ, ф. 102, оп. 71, 1914, д. 8, ч. 4, л. 49.
63 Latawiec K. Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851–1914. Lublin, 2014. S. 91, 131.
64 Лятавец К. Поляки в Отдельном корпусе пограничной стражи Российской империи на рубеже XIX–XX вв. // Поляки в России: история и современность. Краснодар, 2007. С. 82.
65 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1357, л. 8 об.
66 Там же, д. 1362, л. 78.
67 Там же, ф. 1661, оп. 1, д. 73, л. 5.
68 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1357, л. 7.
69 Там же, д. 1364, л. 5.
70 AGAD, PWGGSP, 1900, sygn. 516, k. 38.
71 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1368, л. 2 об.
72 Там же, ф. 1661, оп. 1, д. 73, л. 5.
73 Там же, ф. 217, оп. 1, д. 455, л. 54 об.
74 Там же, д. 463, л. 17.
75 Там же, ф. 1661, оп. 1, д. 73, л. 1а. Получать эти особые бесплатные паспорта на 8,5 месяцев, 10,5 месяцев и 3 дня имели право исключительно жители приграничной полосы (не более 21 версты в глубину).
76 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1367, л. 6.
77 Там же, д. 1357, л. 7; ф. 217, оп. 1, д. 455, л. 69.
78 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1357, л. 7.
79 Там же, ф. 217, оп. 1, д. 455, л. 62.
80 Там же, д. 463, л. 7.
81 Там же, д. 455, л. 68 об.
82 Там же, л. 69.
83 Там же, л. 62.
84 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1371, л. 2–2 об.
85 AGAD, KGGW, 1904–1910, sygn. 260, k. 12.
86 Ibid., sygn. 1306, k. 17, 19.
87 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1281, л. 117 об.
88 Там же, ф. 102, оп. 60, д. 19, ч. 5а, л. 20 об.
89 Там же, л. 16.
90 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1366, л. 3 об.–4.
91 Там же, д. 1364, л. 26 об.
92 AGAD, KGGW, 1904, sygn. 167, k. 1–2.
93 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1372, л. 18 об.
94 Там же, л. 18 об.
95 Там же, д. 1362, л. 10–10 об.
96 Там же, д. 1281, л. 118.
97 Там же, д. 1364, л. 6 об.
98 Там же, д. 1372, л. 3 об.
99 Там же, л. 6.
100 Там же, д. 1357, л. 8.
101 Там же, д. 1281, л. 118.
102 AGAD, PWGGSP, 1909, sygn. 263, k. 6.
103 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1278, л. 5; д. 1360, л. 2.
104 Там же, ф. 217, оп. 1, д. 463, л. 12.
105 Там же, ф. 215, оп. 1, д. 494, л. 2.
106 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1361, л. 22.
107 Там же, д. 1356, л. 6.
108 Там же, д. 1362, л. 73.
109 Там же, ф. 102, оп. 60, д. 19, ч. 5а, л. 16.
110 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1361, л. 22–23.
111 Лаврёнова А. М. Жандармский надзор в Вержболово накануне Первой мировой войны // Транспортные коммуникации Российской империи в годы Первой мировой войны. М.; СПб., 2014. С. 175–176.
112 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1363, л. 12–12 об.
113 Там же, д. 1364, л. 7.
114 Джунковский В. Ф. Воспоминания / Под ред. А. Л. Паниной. Т. 2. М., 1997. С. 185.
115 AGAD, KGGW, 1904–1910, sygn. 260, k. 2, 4; ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1362, л. 69, 79.
116 AGAD, PWGGSP, 1900, sygn. 516, k. 39–41.
117 ГА РФ, ф. 102, оп. 60, д. 19, ч. 5а, л. 17–17 об.
118 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1360, л. 1 об., 12.
119 Фуллер У. Указ. соч. С. 23, 33–34.
120 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1360, л. 2.
121 Там же, д. 1366, л. 2.
122 Там же, ф. 215, оп. 1, д. 471, л. 11.
123 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1361, л. 29.
124 AGAD, KGGW, 1904–1910, sygn. 260, k. 63.
125 Ibid., k. 33
126 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1364, л. 18–18 об., 20–20 об.
127 Там же, ф. 217, оп. 1, д. 457, л. 7.
128 Там же, ф. 265, оп. 1, д. 1357, л. 8–8 об.
129 Цит. по: Иванов А. А., Котов А. Э. Экономическое значение и попытки регулирования… С. 72.
130 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1364, л. 11–11 об.
131 Там же, д. 1372, л. 21 об.
132 Там же, д. 1281, л. 117 об.
133 Там же, ф. 102, оп. 60, д. 19, ч. 5а, л. 14.
134 Цит. по: Тарле Г. Я. Эмиграционное законодательство… С. 35.
135 AGAD, KGGW, 1904–1905, sygn. 185, k. 11, 14.
136 Ibid., 1904–1910, sygn. 260, k. 63.
137 ГА РФ, ф. 265, оп. 1, д. 1364, л. 26.
138 Там же, д. 1357, л. 18, 20.
139 AGAD, KGGW, 1904–1910, sygn. 260, k. 67.
140 ГА РФ, ф. 217, оп. 1, д. 457, л. 7 об.
Об авторах
Владимир Сергеевич Комаров
Национальный исследовательский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: info@rcsi.science
Аспирант, Высшая школа экономики
Россия, МоскваСписок литературы
Дополнительные файлы