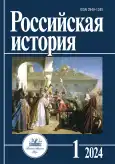New trends in the study of the Streltsy uprising of 1682
- Authors: Shamin S.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 67-78
- Section: Profession and community
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/257083
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24010066
- EDN: https://elibrary.ru/CNNEZR
- ID: 257083
Cite item
Full Text
Full Text
В 2022 г. научная общественность отмечала 350-летний юбилей Петра Великого и 340-летнюю годовщину стрелецкого восстания 1682 г. В 2021 г. в Штутгарте на немецком языке вышла монография Г. М. Казакова1, в России являющаяся библиографической редкостью (книга представлена лишь в Российской государственной библиотеке и библиотеке Германского исторического института в Москве).
События Хованщины освещены в большом числе научных исследований, первые из них увидели свет ещё в XVIII в. Несмотря на огромный объём литературы по данному вопросу, Казаков сумел найти для своей монографии новый ракурс. Сразу отмечу, что книга разочарует тех, кто хочет точно знать, что «на самом деле» происходило в Москве в 1682 г. Учёный рассматривает восстание как объект международной коммуникации, стремясь изучить сети распространения информации; охарактеризовать участников процесса; показать, как наблюдатели интерпретировали те или иные события; проанализировать восприятие восстания в публичном пространстве; подробно рассмотреть практику использования полученных знаний политиками и дипломатами разных стран. Если раньше бесконечное число повествовавших о восстании источников были для авторов монографий средством поиска исторической истины, то теперь перетекающие друг в друга сообщения становятся центральным объектом анализа.
Подобная постановка вопроса кажется характерной для исследователей, работающих в рамках исторических подходов эпохи постмодерна. Вслед за блуждающими по Европе шпионскими донесениями, рукописными «авизиями» и «летучими листками», политическими памфлетами, реляциями дипломатов, газетными статьями, отписками гонцов, курантами, купеческими письмами и т. д. автор совершил путешествие по архивам Москвы и Петербурга, Варшавы, Берлина, Стокгольма, Уппсалы, Гааги, Вены, Парижа. Однако Казаков далёк от характерной для постмодерна погони за бесконечной чередой искажённых отражений, называемой некоторыми коллегами «интеллектуальным алкоголизмом»2. В первую очередь перед нами предстаёт добротное источниковедение, характерное как для российской, так и немецкой классической исторической науки. Уже это делает новую книгу полезной для коллег по цеху. В работе подробно расписано, где какие комплексы документов хранятся, но главное, на мой взгляд, достижение автора в том, что он показывает, как возникают конкретные нарративные источники и, соответственно, даёт возможность исследователям принципиально оценить их изначальную достоверность. Теперь мы гораздо лучше представляем себе, что и откуда мог знать автор конкретного документа. В этом состоит основной вклад книги в фактографическое изучение восстания 1682 г.
Предпринятое Казаковым исследование информационных сетей не менее интересно, чем конкретные данные о восстании. Это направление научных изысканий переживает бум с конца 1980-х гг. Работавшие в рамках данного дискурса учёные показали, как важно изучать не только сами сети, но и точки связи между региональными коммуникационными пространствами. Автор последовательно разыскивает людей, через которых проходили линии пересечения, связывавшие российское информационное поле с Европой.
Уже в начале книги Казаков поставил вопрос о том, какие именно политические нарративы, концепции и представления о восстании 1682 г. перемещались между Европой и Россией. Он показал, что по характеру оценок произошедших событий русские нарративы в хронологическом отношении делятся на три периода – «повстанческий», времени правления царевны Софьи, а также эпохи Петра Великого и его преемников. Они принципиально различаются политической позицией и, следовательно, оценкой происходящего3. В дальнейшем в центре внимания автора остаются в основном материалы периода восстания. Однако оказывается, что и на этом узком хронологическом отрезке один и тот же фактографический сюжет мог быть подан по-разному.
В первых главах даётся обзор событий 1682–1698 гг., помещённый в европейский политический контекст, освещаются различные традиции повествования о стрелецком восстании, сложившиеся в 1682–1750 гг. Однако для русского читателя, как мне кажется, особый интерес представляет четвёртая глава, где Казаков показывает, каким образом сведения о восстании распространялись в международной дипломатической среде. Эта часть книги занимает больше трети общего объёма монографии. Она начинается с эпизода отправки из Москвы гонцов с извещением европейских государей о вступлении на престол после кончины Фёдора Алексеевича его братьев – Ивана и Петра. Предпринятый исследователем комплексный анализ подобной миссии с точки зрения истории русской дипломатии соответствующего периода интересен сам по себе. Под комплексностью здесь понимается не только всестороннее описание каждой миссии по материалам РГАДА (что уже делалось предшественниками), но и обращение к источникам, оставленным принимающей стороной4. Для развиваемого в главе сюжета важно, что куда бы русские дипломаты не приезжали, они везде сталкивались с тем, что правительства европейских стран уже имеют перед глазами ту или иную картину происходившего в России.
В следующих разделах главы Казаков отвечает на вопрос, откуда конкретно появились эти знания. Материал расположен по странам. Первой следует Дания, правительство которой снабжал сведениями «фактор» (торговый представитель) датского короля Христиана V в Москве Генрих Бутенант фон Розенбуш (его донесения с 1679 по 1698 г. хранятся в Копенгагенском архиве), а также побывавший в Москве в 1681 и 1682 гг. дипломат Гильдебрандт фон Гоpн. Оба они неоднократно привлекали внимание учёных. Розенбуш и Гоpн смотрели на события через призму главной заботы датской внешней политики того периода на российском направлении – заставить московское правительство вступить в войну со Швецией. Казаков отметил, что весной 1682 г. Дания, Франция и Бранденбург-Пруссия договорились направить представителей в Москву, чтобы склонить Россию к антишведскому демаршу. Датчанам отводилась ведущая роль, поэтому фон Горн отправился в Россию в самый разгар восстания и приложил много усилий, ища расположения московских властей.
Разобрав «датский» сюжет, Казаков перешёл к анализу процесса формирования голландской точки зрения на события 1682 г. В тот период коалиции Дании, Франции и Бранденбурга противостоял шведско-голландский союз. Главным противником фон Гоpна при царском дворе автор монографии считает резидента Нидерландов в Москве Иоганна ван Келлера. В неспокойном 1682 г. он отправил домой 21 корреспонденцию. Голландец имел в России хорошие контакты как в Посольском приказе, так и среди представителей обоих политических группировок московского двора. Казаков, вслед за американским историком Эндрю Лосским, называет ван Келлера «самым информированным иностранным дипломатом в России».
В разделе «Бранденбург–Пруссия» автор монографии уделяет большое внимание хранящемуся в Берлинском архиве комплексу «русских» информационных материалов 1681–1683 гг., связанные исследователем с деятельностью агента бранденбургского двора Германа Дитриха Гессе. Значительную часть этих текстов можно условно определить как «Geschriebene Zeitungen» («рукописные газеты») из русских городов. Немецкое слово «Zeitung», сегодня используемое в значении «газета», изначально означало «новость», т. е. в данном контексте речь идёт о рукописных сообщениях-новостях. Читатель книги Казакова должен понимать, что письма с новостями, поставлявшие материалы для газет, стадиально были их предшественниками. Иногда такие тексты называют «авизами». Газеты в современном понимании этого слова, даже рукописные, в рассматриваемом регионе тогда не выходили.
Как показал Казаков, Гессе, назначенный курфюрстом на должность тайного секретаря, получал новости о России, находясь в Кёнигсберге. Выбор этого города как места сбора материалов представляется естественным, поскольку именно сюда приходила почта из Риги и Москвы5. Собранные Гессе «авизы» происходили из Москвы (15 писем), Новгорода (3), Риги (3) и Ревеля (2). Корреспондентами Гессе автор монографии считает местных купцов немецкого происхождения; анонимного московского корреспондента Казаков идентифицировал как почтмейстера А. А. Виниуса6. В самый острый момент восстания 1682 г. этот информатор материалы пересылать перестал, что неудивительно – в обстановке острой политической борьбы за рассылку новостей в чужие страны можно было лишиться головы. Гессе пришлось довольствоваться менее информированными источниками.
Материалы, помещённые Казаковым в разделе «Франция», почти не представлены в русской историографии. Интерес Парижа к российским новостям связан с вовлечением Людовика XIV в союз с Данией и Бранденбургом против Швеции и Нидерландов. Весной 1682 г. французский дипломат де ла Пикетьер7 направился в Данию для обсуждения деталей плана совместных дипломатических усилий на московском направлении. Дальнейшее развитие проекта затормозилось из-за смерти царя Фёдора Алексеевича и начавшегося восстания. Однако совсем от идеи не отказались. Планировалось, что ла Пикетьер поедет в Москву через Литву. Официально ему предстояло добиваться установления торговых отношений между Францией и Россией. В Москве французского дипломата ожидали не позднее чем через 15 дней после прибытия датского и бранденбургского посланников. Сношения с Парижем предстояло поддерживать при посредничестве французских послов в Дании и Польше или через французского резидента в Гамбурге. В итоге ла Пикетьер застрял в датской столице, и дипломатическому ведомству Франции пришлось запрашивать сведения о восстании через своих представителей в Швеции и Речи Посполитой. Последняя стала основным источником новостей. Находившийся при дворе Яна Собеского маркиз де Витри усвоил польскую точку зрения на положение дел в Москве. Он пришёл к выводу, что из-за непрекращающихся беспорядков с «московитами» договариваться о конкретных действиях бессмысленно.
В разделе «Швеция» Казаков показывает, что Стокгольму удалось выстроить эффективную систему сбора информации благодаря работе шведского агента Кристофа Коха (в русской историографии известен также как Христофор Кохен или Кокен). Материалы данного раздела частично представлены в русскоязычных публикациях автора монографии8, а также в его совместной с А. С. Лавровым книге9.
Последней из стран Казаков рассматривает Речь Посполитую. Он отмечает, что именно здесь к новостям из России относились с особым вниманием, поскольку восприняли их как сигнал о возможном разделе страны. К несчастью для Польши, её шанс на успех в борьбе с погрузившимся в политическую смуту Московским государством сводила на нет активизировавшаяся Османская империя. Ввиду роста турецкой угрозы Польша так и не рискнула пустить в ход войска на восточном направлении.
Казаков показал, что в Речь Посполитую приходило большое число известий из России, однако польскому правительству были неясны многие детали происходившего в Москве, к примеру, остался ли в живых царь Пётр, или его убили восставшие. Анализируя представленные исследователем материалы, рискну предположить, что проблема поляков состояла не в недостатке данных, а в их избытке – имея множество каналов связи, особенно в приграничье, польское правительство захлебнулось в потоке слухов. Кроме того, полякам, десятилетиями воевавшим против России, психологически хотелось видеть московские события в максимально мрачном ракурсе. Ориентируясь на самые негативные сообщения, польские власти в какой-то мере сами себя обманывали.
В дальнейшем правительство Речи Посполитой приняло серьёзные усилия для того, чтобы разобраться в происходящем. В связи с этим Казаков внимательно проанализировал деятельность королевского секретаря Станислава Бентковского, отправленного Яном Собеским в приграничное село Кадино для сбора точных сведений о происходящем в России. Автор отметил, что главным информатором для Бентковского стал шляхтич Назарий Краевский. Он действовал в интересах Москвы, передавая сведения о своих контактах с Бентковским в Посольский приказ. Донесениям Краевского в российскую столицу в «польском» разделе отведено много места. Представлены в работе и данные об огромных выплатах Краевскому от польской короны, а также сведения о его связях с литовскими магнатами, недовольными политикой Собеского.
Однозначных выводов, в чьих же интересах на самом деле действовал Краевский, в монографии Казакова не сделано. Данные о том, что он одновременно служил как российской, так и польской стороне, присутствуют и в работе К. А. Кочегарова10. Мне представляется, что Краевский действовал в интересах литовских магнатов, а его патроном был Марциан Александр Огинский. Утверждать это позволяют отложившиеся среди курантов материалы Посольского приказа, которые свидетельствуют о том, что Краевский впервые приехал в Россию в 1678 г. Он объявил, что послан троцким воеводой Огинским предупредить о намерениях польского короля вместе с турками заключить союз против цесаря, якобы правитель Речи Посполитой для войны с цесарем обещал пропустить через свою территорию шведов. В этом деле польский король не советовался с Речью Посполитой, поэтому магнаты во главе с Огинским решили организовать конфедерацию и просили Москву поддержать их. Краевский привёз с собой в Москву польские письма, переведённые в Посольском приказе 8 мая 1678 г.11 Служа Огинскому, Краевский мог «честно» шпионить и против Яна Собеского в пользу московского правительства, и наоборот. Поскольку война с Россией не соответствовала интересам литовской шляхты, Краевскому следовало опровергать слухи о глубине кризиса, чтобы не провоцировать польскую сторону на конфликт. Таким образом, польское правительство, имевшее массу возможностей для шпионажа в Москве, на практике стало объектом информационных манипуляций.
Из рассмотренных Казаковым «польских» сюжетов наиболее интересной кажется история о визите в Речь Посполитую в период стрелецкого восстания шляхтича Павла Негребецкого, якобы приезжавшего к польскому королю от Н. К. Нарышкиной с просьбой о помощи против захватившей власть царевны Софьи. В связи с этим обращением польской стороной рассматривалась возможность бегства Натальи Кирилловны с Петром в Речь Посполитую. Позднее Негребецкий продолжал играть роль связного между польским двором и Нарышкиными. После перехвата одного из его посланий шляхтича схватили, пытали и казнили за участие в заговоре против царевны Софьи. Данный сюжет всё чаще привлекает учёных12. Исследование Казакова является ещё одним шагом в его разработке. В историографии отмечалось, что в июле 1683 г. кн. Б. А. Голицын обращался к датскому королю Кристиану V с просьбой поддержать Петра, взамен обещая союз против Швеции13. Если объединить эти данные со сведениями о Негребецком, становится очевидным, что сразу по завершении острой фазы восстания партия Нарышкиных пыталась отстранить от власти царевну Софью, опираясь на внешние силы. Любопытно, что о желании уехать в чужую землю в разные моменты восстания публично объявляли как царевна Софья, так и царица Наталья Кирилловна, но это воспринималось исследователями исключительно как риторический приём14. Данных о конкретном содержании переговоров Нарышкиных с польскими властями нет, и вопрос, принимала ли польская сторона риторику за действительность, или возможность бегства за границу рассматривалась Натальей Кирилловной всерьёз, остаётся открытым.
В целом четвёртая глава книги Казакова позволяет по-новому оценить место Москвы в системе европейской политики того времени. Впервые стало очевидно, что уже к началу 1680-х гг. в Москве сталкивались интересы могущественных коалиций европейских держав, стремившихся перетянуть Россию на свою сторону. Поражает эффективность организации шведским агентом Кристофом Кохом передачи новостей из России в Стокгольм. Но ещё большее впечатление производят выявленные Казаковым данные об уровне развития информационного обмена в России 1680-х гг. Яркой иллюстрацией наличия здесь «информационного рынка» является то, что находившиеся в составе противоборствующих коалиций Кох и бранденбургский агент Гессе могли получать письма с новостями из одного источника в Новгороде. Между тем в историографии бытует мнение об информационной закрытости России в допетровскую эпоху, основанное на регулярных жалобах дипломатов, ни шагу не могущих сделать без приставов. Исследователям предстоит ответить на вопрос, как эти данные соотносятся с зафиксированным Казаковым активным новостным трафиком.
В пятой главе Казаков рассматривает вопрос о том, как сведения о восстании 1682 г. распространялись внутри европейской информационной системы. Кажется невероятным, насколько широко по Европе расходились новости о, казалось бы, ещё не вовлечённом в европейский мир регионе. Если брать немецкую прессу, то о московских событиях 1682 г. сообщали девять разных немецких газет.
Интересен вопрос о цензурировании российских новостей. Казаков отметил, что 8 августа 1682 г. вышел указ бранденбургского курфюрста, запрещавший издателям газет освещать события в России. Вопрос о причине появления такого указа в книге не рассматривается. Предположу, что это произошло по просьбе российских властей, переданной через почтмейстера Виниуса. Близкая ситуация имела место в период правления Алексея Михайловича, когда связанные с восстанием Степана Разина негативные материалы опубликовали в кёнигсбергской газете. Тогда московский почтмейстер П. Марселис угрожал кёнигсбергскому коллеге подачей жалобы курфюрсту. Официальных запретов в то время не появлялось (или мы о них не знаем), однако негативные публикации прекратились15. С учётом того, что в 1682 г. Бранденбург планировал договариваться о союзе с Москвой, курфюрсту следовало чутко реагировать на пожелания российских властей. Зафиксированный Казаковым факт введения цензурных ограничений в отношении негативных газетных статей о России закрывает хронологическую лакуну между дипломатическими демаршами времён Алексея Михайловича и целенаправленной политикой Петра Великого, стремившегося ограничить свободу европейской прессы в отношении публикаций негативных статей, посвящённых России.
Для понимания ситуации в Москве, на мой взгляд, наиболее важными являются наблюдения автора книги по поводу значения прессы в информационном обмене в целом. Специалистам по истории внешней политики России второй половины XVII в. зачастую представляется своеобразным курьёзом, что со времён Алексея Михайловича царь и бояре один или два раза в неделю выслушивали составляемые в Посольском приказе куранты – обзоры немецкой и голландской прессы. Произведённый Казаковым разбор конкретного материала показал, что в тот период граница между статьями газет и сообщениями дипломатов была очень размыта. Секретные донесения легко попадали в прессу, а газетные издания ложились в основу дипломатических отчётов и использовались при принятии важных политических решений. Сегодня это кажется странным, но в рассматриваемую эпоху подобное происходило повсюду. Члены правительства Алексея Михайловича, ориентируясь в принятии политических решений на газетные тексты, делали ровно то же, что и их европейские коллеги. Иногда дипломаты сами публиковали свои материалы. Так, Генрих Бутенант напечатал в 1682 г. отчёт о восстании, изначально составленный для датского королевского двора; письма ван Келлера анонимно издавались в голландских газетах, выдержки из них добирались до английской прессы; сводки писем Коха попадали в шведские газеты. Нет ничего удивительного в том, что московское правительство знакомилось по курантам с европейскими событиями и наблюдало за публикующимися в газетах статьями по «российской» тематике.
Собранные Кохом и отложившиеся в Стокгольмском государственном архиве материалы о Хованщине опубликованы Г. М. Казаковым и А. С. Лавровым в 2022 г.16 Обращает на себя внимание, что в заглавии книги говорится о «донесениях шведских агентов», а не о «донесениях агента Коха». Такое наименование связано с тем, что Кох собирал сведения от разных информаторов. Степень его вмешательства в текст в рецензируемой работе подробно не анализируется. Из примечаний очевидно, что в ряде случаев он отправлял исходные материалы, не редактируя их. Отсутствие «редакторской правки» является положительным моментом, освобождающим источник от лишних субъективных оценок и предположений.
Для самого Казакова издание материалов Коха фактически является продолжением работы над монографией 2021 г. Его соавтор Лавров хорошо известен коллегам ставшей классической монографией о регентстве царевны Софьи17, рядом статей по данной тематике18, а также изданием записок де ла Невилля19. Высокая квалификация публикаторов определила прекрасное качество книги. Основу издания составляют документы на языке оригинала (на немецком и, частично, на голландском), а также их русские переводы. В числе рецензентов – известный шведский лингвист Ингрид Майер, что служит гарантией качества перевода.
Значимость публикуемого источника не вызывает сомнения. Ко времени восстания 1682 г. Кох стал опытным специалистом по России, имевшим многочисленные связи. Он вёл разведывательную деятельность с начала 1670-х гг.20 Первым по достоинству оценил объём и содержание сообщений Коха датский посланник Фридрих фон Габель. Ещё в 1678 г. он сообщал российским властям об огромном объёме пересылаемых шведским купцом данных: «Его царское величество обнадежен быти может, что никогда на Москве такого лазутчика не бывало, которой таково обстоятельно и поспешно его царского величества дела проведати мог, и Московскому царству чрез свои пересылки и льстивое лукавство толикие шкоды учинил, нежели сей Кок. А естьли попустит его царское величество ему вольность житие свое далее на Москве подождати, и оное больши шкоды от него одного имети будет, нежели как оное ж пятидесят явным послом и посланником свейским, турским и татарским на Москве пребывати поволит… А для ведомости известно буди, что он, Христофор Кок, изо всех грамоток, которые он пишет, имеет у себя подлинные списки, в книге записаны, но те тайные спискам своим из грамоток книги у себя в дому своем он не держит, но инде в сохранении утаивает»21.
Деятельность Коха русское правительство пыталось пресечь, выставив его в 1680 г. из России, однако он продолжал собирать сведения, находясь за рубежом. В результате возник огромный объём документов, очень медленно вводимых в научный оборот. На русский язык донесения Коха начал переводить около полутора столетий назад К. А. Висковатов22. О важности свидетельств шведского агента о Хованщине писал Г. В. Форстен23. Более или менее систематически российские исследователи стали обращаться к эпистолярному наследию шведского шпиона после выхода книги П. Бушковича, активно цитировавшего этот источник24. Трудно найти сколько-нибудь значимую тему по русской истории последней трети XVII в., о которой Кох не донёс бы шведским властям. У него подробно описаны даже проходившие при дворе Алексея Михайловича спектакли25. Теперь же мы получаем полный доступ к письмам Коха с мая 1682 по начало 1683 г. Если говорить о всех его донесениях, это крайне мало. Если же о периоде восстания – перед нами полный комплекс выявленных историками текстов.
К сожалению, издание не имеет предисловия. Для узких специалистов по теме это не особенно важно. Однако для тех, кто не специализируется на вопросах, связанных с восстанием 1682 г., раскрывающее содержание книги предисловие было бы полезно. В какой-то мере его заменяют помещённые в «Приложение» статьи Г. М. Казакова и А. С. Лаврова, которые содержат необходимые источниковедческие пояснения. Казаков кратко осветил вопрос о месте шведских документов среди источников о Хованщине, а также историографию вопроса, подробно остановился на служебной биографии Коха, проанализировал имеющиеся данные о сети шведских информаторов в России (по состоянию на 1682 г.). Последний вопрос кажется наиболее интересным. Письма к Коху, по понятным причинам не подписанные, приходили из Москвы, Новгорода и Пскова, где имелись шведские торговые дворы. Это заставило Казакова предположить, что непосредственными информаторами были купцы. В числе возможного корреспондента Коха исследователь указывает Иоганна ван Келлера.
Статья Лаврова начинается с обширного историографического обзора работ о восстании 1682 г. Исследователя в первую очередь интересует концептуальная сторона вопроса. Большое внимание уделяется дискуссиям с А. П. Богдановым26. Во втором разделе статьи автор сосредотачивается на вопросе о связи между стрелецким бунтом и финансовым кризисом в Московском государстве. Лавров утверждает, что перед восстанием «Московское государство оказалось на грани дефолта», а «финансовый кризис оказался ключевым фактором событий 1682 г.27». В третьем разделе Лавров останавливается на списках, обречённых восставшими стрельцами на казнь «изменников». Их автор делит на три группы – «Нарышкины и их приближённые, бывшие фавориты царя Фёдора Алексеевича (Языковы и Лихачёвы) и приказная верхушка»28. Однако сами списки Лавров считает гипотетическими. Основываясь на документах Коха, он пришёл к выводу, что списки появились не до восстания, а формировались заинтересованными в информации лицами на основе рассказов восставших об их противниках. Круг «изменников» расширялся по ходу развития событий. Особое внимание Ларов уделил «символике насилия», сформировавшейся во время восстания. В отличие от большинства спонтанных народных мятежей, стрельцы стремились к «ритуализации насилия»29. Перед расправой над очередной жертвой стрельцы обращались к присутствующим с вопросом – люба ли эта казнь? Учёный считает, что восставшие старательно имитировали ритуал казни политических преступников.
Отдельно рассмотрен вопрос о «союзниках» или «попутчиках» стрельцов – холопах и старообрядцах. Собранные Кохом материалы подтолкнули Лаврова к выводу о том, что холопы воспользовались стрелецким восстанием в своих интересах. Стрельцы видели в действиях холопов беззаконный бунт, который нужно подавить, и в итоге так и поступили. Вопрос об отношениях между старообрядцами и стрельцами представляется более сложным. Многие из сведений Коха, касающиеся религиозных вопросов, невозможно проверить по другим источникам. Лавров склоняется к мнению, что идею поддержать старую веру стрельцам навязали извне: «Представляется, что записанные Кохом слухи свидетельствуют о том, что отказ от литургической реформы Никона и возврат к “старине” всерьёз рассматривались в верхах как одна из возможностей. Именно здесь стрельцы и показали себя не защитниками “старой веры”, а манипулируемыми преторианцами. Всё это говорит об отсутствии у восставших политической воли и аморфности их движения»30.
Данная точка зрения требует дополнительного анализа. Мне кажется, что какая-то (пусть небольшая) часть стрельцов искренне держалась старых обрядов, и это не воспринималось их сослуживцами как нечто чуждое и враждебное. При данной исходной позиции вопрос о том, почему стрельцы в целом сначала поддержали старообрядцев, а потом отдали их на казнь, можно попытаться решить в другой плоскости. Предположу, что поскольку патриарх Иоаким являлся сторонником Нарышкиных, стрельцы искали возможности легитимно расправиться с ним. Обвинения в отступлении от «правильной веры» казались хорошим поводом для его отстранения от власти. Однако спровоцированный стрельцами разгул «старообрядческой стихии» дестабилизировал политическую ситуацию в столице, стрельцы же позиционировали себя сторонниками власти и порядка. В этой неоднозначной ситуации воззвания царевны Софьи могли склонить стрельцов к отказу от поддержки старообрядческого движения. Данная гипотеза позволяет объяснить «метания» стрельцов в «старообрядческом вопросе».
Важной частью анализируемой книги являются комментарии. Они занимают почти четверть от объёма издания. При комментировании использованы концевые ссылки, однако подстрочник в данном случае представляется более удобным. Не исключено, что публикаторы пошли на такой шаг из-за большого объёма отдельных комментариев. Некоторые из них похожи на самостоятельные исследования. Поскольку шпионские наблюдения агентов Коха разнообразны, комментарии издателей касаются самых разных сторон жизни русского общества. Среди поднимаемых проблем – работа Ответной палаты, подготовка нового Уложения, ложные слухи о беременности супруги умершего Фёдора Алексеевича, разговоры о заточении патриарха Иоакима и возведении на патриарший престол новгородского владыки Корнилия, восстание мусульманского населения в различных регионах Московского государства, появление самозванца, именовавшего себя сыном «Одышевские земли царя Дадиана», разгул разбойников, ситуация с богадельнями и многое другое.
Фигурирует даже один астрологический сюжет. К помещённому в письме из Новгорода от 10 сентября 1682 г. сообщению «вот уже 14 дней нельзя видеть комету, поэтому русские боятся, что с ними вскоре может приключиться новое несчастье»31, публикаторы сделали примечание: «Речь идёт о комете Галлея, перигей которой наблюдался в Париже и в Гринвиче в один и тот же день, 16(26) августа 1682 г. Именно появление кометы в 1683 г. дало Эдмунду Галлею повод просчитать её периодичность. К счастью, эти подсчёты остались неизвестны москвичам – иначе их мог серьёзно поразить тот факт, что они наблюдают ту же самую “хвостатую звезду”, которая уже появлялась в Смутное время (предыдущий перигей кометы Галлея пришёлся на 1607 г.)»32. Этот комментарий следует дополнить. 4 октября в Москву пришёл очередной комплект иностранных газет со статьями о комете. На основе доставленных изданий в Посольском приказе составили куранты и передали их членам правительства царевны Софьи. Вошедшие в сводку статьи про комету имели разный характер, в том числе содержали пророчества о нашествии турок и татар: «Из Бреслава (цесарской) города сентября в 3 день. Зде вновь видима комета по западе солнца, меж осмым и девятым часом, которая спешным шествием проходит востоком и полунощью к западу. Сохрани, Господи, чтоб не была гонцом объявления спешного нашествия турских ратных людей, понеже уже и слышно, что татары великими силами чрез Польшу по указу салтана турского в Шлонско итти имеют». 5 октября с курантами ознакомились члены правительства, а уже 6 октября почтмейстеру Виниусу направили указ, запрещавший под угрозой смертной казни распространение западной астрологической литературы в России33. Таким образом глава внешнеполитического ведомства кн. В. В. Голицын специально позаботился о том, чтобы измышления европейских астрономов не смущали умы русских людей в условиях политического кризиса.
Как видим, изданные Казаковым и Лавровым документы в определённой мере являются энциклопедическим источником, который можно использовать в исследовании самых разных вопросов истории России конца XVII в. В вопросе изучения восстания 1682 г. их значение трудно переоценить.
Если же попытаться охарактеризовать общие тенденции в исследовании Хованщины, становится очевидным, что на 1960-е – середину 1970-х гг. приходится пик привлечения к анализу вопроса приказной документации34, а с конца 1970-х гг. начинается период увлечения нарративными источниками35. Безусловно, работа по введению в научный оборот материалов данного типа далека от завершения. Достаточно упомянуть прибывшие в Россию более полутора столетий назад копии писем неоднократно упомянутого ван Келлера36. Многое ещё можно сделать для изучения уже опубликованных источников. Большой интерес для специалистов представила бы монография о распространении слухов в период восстания 1682 г., с которыми правительство царевны Софьи активно боролось. Однако если говорить об анализе фактографической стороны истории Хованщины, то, по моему мнению, после почти полувека преимущественного внимания к нарративным текстам настало время поверки присутствующих в них сведений по более широкому кругу приказных документов. Это позволило бы отделить факты от слухов и сплетен.
1 © 2024 г. С. М. Шамин
Kazakov G. Die Moskauer Strelitzen-Revolte 1682: diplomatische Espionage, Nachrichten verkehr und Narrativentransfer zwischen Russland und Europa. Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. Bd. 91. Stuttgart, 2021. (Казаков Г. Московское стрелецкое восстание 1682 года: дипломатический шпионаж, распространение новостей и обмен нарративами между Россией и Европой. Источники и исследования по истории Восточной Европы. Т. 91. Штутгарт, 2021.).
2 Филюшкин А. И. Постмодернистский вызов и его влияние на современную теорию исторической науки // Топос. Философско-культурологический журнал. 2000. № 3. С. 69.
3 Здесь исследователь опирается на наработки российских учёных. См.: Богданов А. П. Нарративные источники о Московском восстании 1682 года // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). М., 1993. С. 77–108.
4 Отдельные наблюдения по данному сюжету изложены Казаковым в специальной статье: Казаков Г. М. Поездка подьячего Никиты Алексеева в Швецию и Данию в 1682 г. // Российская история. 2018. № 3. С. 121–133.
5 Кёнигсберг оставался почтовым хабом для России вплоть до конца 1860-х гг.
6 См. об этом: Казаков Г. М. Почтмейстер Андрей Андреевич Виниус как информант бранденбургского курфюршеского двора // Жизнь в Российской империи. Новые источники в области археологии и истории XVIII века. Материалы международной научной конференции. М., 2018. С. 68–71.
7 Информация о миссии ла Пикетьера содержится в статье Д. О. Манина. Однако исследователь работал в архиве с недатированной инструкцией ла Пикетьера и отнёс её к 1683 г. Из-за этого он не смог правильно интерпретировать выявленные данные (Манин Д. О. Развитие торгового проекта и его роль в русско-французских отношениях начала 1680-х гг. // История: Факты и символы. 2023. № 3(36). С. 84–85).
8 Казаков Г. М. Великий Новгород во время стрелецкого восстания 1682 г. по донесениям шведских агентов // Valla. 2017. Т. 3. № 6(13). С. 13–18; Казаков Г. М. Шведские донесения о московском стрелецком восстании 1682 г. // Valla. 2018. Т. 4. № 1–2(14). С. 93–102.
9 Донесения шведских агентов о Хованщине, 1682–1683 гг. / Подгот. Г. М. Казаков, А. С. Лавров. СПб., 2022.
10 Кочегаров К. А. Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 годах. Заключение договора о Вечном мире. М., 2008. С. 51–53, 59–62, 88–91, 123–124, 127, 128.
11 РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1678 г., д. 4, л. 1–77.
12 Кочегаров К. А. Борьба боярских группировок вокруг планов женитьбы царя Петра и русско-польские отношения в 1684–1689 гг. // Россия, Польша, Германия в европейской политике: исторический опыт взаимодействия и императивы сотрудничества. М., 2012. С. 45–88; Биргегорд У. Почему казнили Павла Негребецкого? // Slověne. 2020. Vol. 9. № 1. C. 232–260.
13 Бушкович П. Пётр Великий. Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2008. С. 144–146.
14 Донесения шведских агентов о Хованщине… С. 32, 121–122.
15 Шамин С. М. Иностранная пресса и русская культура конца XV – начала XVIII столетия. Дис. … д-ра ист. наук. М., 2020. С. 486.
16 Донесения шведских агентов о Хованщине…
17 Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. Служилое общество и борьба за власть в Русском государстве в 1682–1689 годах. М., 1999.
18 Лавров А. С. Василий Васильевич Голицын // Вопросы истории. 1998. № 5. С. 61–72; Лавров А. С. Изветное письмо и смертный приговор князьям Хованским // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XXVI. К 60-летию со дня смерти академика Н. П. Лихачёва. СПб., 1998. С. 185–194; Лавров А. С. Политическая борьба в России 1680-х годов в донесениях Хильдебрандта фон Горна (источниковедческие заметки) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 1999. Вып. 3. № 16. С. 15–23; Лавров А. С. Донесения датского комиссара Генриха Бутенанта о стрелецком восстании 1682 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. ХХVII. СПб., 2000. С. 191–199; Lavrov A. La Hovanščina et la crise financière de la Russie moscovite. La notion de crise et l’histoire de la Moscovie // Cahiers du Мonde Russe. Vol. 50. 2009. № 2–3. S. 533–556.
19 Невилль Фуа де ла. Записки о Московии / Предисл., подгот. текста и коммент. А. С. Лаврова. М., 1996.
20 Казаков Г. М., Майер И. Иностранные известия о казни Степана Разина. Новые документы из стокгольмского архива // Slověne. Т. 6. 2017. № 2. С. 210–243.
21 Шамин С. М. Куранты XVII столетия: европейская пресса в России и возникновение русской периодической печати. М., 2011. С. 164–165.
22 Висковатов К. А. Москва в 1687–1688 гг. // Русская старина. Т. XXIII. 1878. Вып. 9–12. С. 121–129.
23 Форстен Г. В. Сношения Швеции и России во второй половине XVII века, 1648–1700 // Журнал министерства народного просвещения. 1899 (сентябрь). № 325. С. 47.
24 Бушкович П. Пётр Великий…
25 Дженсен К., Майер И. Придворный театр в России XVII века. Новые источники. М., 2016. С. 98–108.
26 Донесения шведских агентов о Хованщине… С. 186.
27 Богданов А. П. Роспись «изменников-бояр и думных людей», казнённых и сосланных по требованию восставших в мае 1682 г. // Молодые обществоведы Москвы – ленинскому юбилею. М., 1982. С. 113–118; Богданов А. П. Нарративные источники… С. 77–108; Богданов А. П. В тени Петра Великого. М., 1998.
28 Там же. С. 191.
29 Там же. С. 193.
30 Там же. С. 204.
31 Там же. С. 62.
32 Там же. С. 137.
33 Шамин С. М. Куранты XVII столетия… С. 219, 225.
34 Буганов В. И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969; Восстание в Москве 1682 года. Сборник документов / Сост. Н. Г. Савич, отв. ред. В. И. Буганов. М., 1976.
35 Богданов А. П. Подённые записи очевидца московского восстания 1682 года // Советские архивы. 1979. № 2. С. 34–37; Богданов А. П. Летописные и публицистические источники по политической истории России конца XVII в. Дис. … канд. ист. наук. М., 1983; Московское восстание 1682 г. глазами датского посла / Ввод. статья и коммент. А. П. Богданова; пер. В. Е. Возгрина // Вопросы истории. 1986. № 3. С. 78–91; «Склонны к страшному неистовству…»: Донесение Генриха Бутенанта фон Розенбуша о стрелецком восстании 1682 года в Москве / Публ. М. Галанова // Источник. 2003. № 1. С. 40–49.
36 Научно-исторический архив СПбИИ РАН, кол. 40, № 55–58. О них см.: Белов М. И. Нидерландский резидент в Москве барон Иоганн Келлер и его письма. Дис. … канд. ист. наук. Л., 1947; Белов М. И. Письма Иоганна фан Келлера в собрании нидерландских дипломатических документов // Труды ЛОИИ. Сборник статей, посвящённых 75-летию профессора С. Н. Валка. Вып. 7. М., 1964. С. 374–382.
About the authors
Stepan Shamin
Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: info@rcsi.science
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
Supplementary files