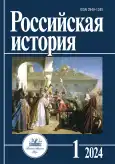«Little Russian partisans»: The White Movement and the rebels in the Kiev region (September 1919 – January 1920)
- Authors: Chemakin A.1
-
Affiliations:
- Saint Petersburg State University, Institute of History
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 127-148
- Section: Scenarios and episodes
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/257087
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24010109
- EDN: https://elibrary.ru/CHSUFC
- ID: 257087
Cite item
Full Text
Full Text
Вечером 10 сентября 1919 г.1 киевляне, проходившие мимо пересечения Музыкального переулка и Прорезной улицы, расположенных неподалёку от Крещатика, могли наблюдать необычную картину проводов на фронт 1-го Малороссийского добровольческого партизанского отряда. Торжественная церемония проходила около его штаба, который располагался в доме № 1 по Музыкальному переулку. Атаман И. Т. Струк произнёс напутственную речь, провозгласил здравицы в честь Добровольческой армии и её вождей, партизан и их предводителей. Слова его были покрыты криками «Ура!» и «Слава!». «После речей раздалась команда “на молитву”, – писал репортёр одной из правых газет Киева. – Седой крестьянин с характерными большими усами и мужественным лицом громко прочёл среди наступившей тишины молитву Господню (“Отче наш”)». Затем отряд двинулся за город, тепло провожаемый многочисленной толпой, ещё долго следовавшей за ним2. Отчёты о проводах струковцев появились на страницах многих киевских изданий, причём единственное различие в этих описаниях состояло в том, что консервативная пресса именовала язык, на котором Струк сказал часть своей речи, «малорусским», а либеральная – «украинским»3.
Впрочем, далеко не все киевляне были рады включению партизан Струка в ряды Вооружённых сил Юга России (ВСЮР). Примерно в те же дни местная печать сообщала о погромах, совершённых различными армиями и бандами, и, в частности, о том, что струковцы разгромили 41 населённый пункт и убили около тысячи евреев. Бóльшая часть этих погромов происходила в апреле 1919 г.: «Шайка свирепствовала в самом Чернобыле и разгромила Горностайполь и Иванков. В промежутках струковцы убивали и грабили в целом ряде окрестных сёл и деревень, в особенности по берегам Днепра, где они останавливали пароходы и подвергали евреев утоплению»4.
Разговоры о подобных «подвигах» Струка заставили его опубликовать открытое письмо, опровергавшее распространившиеся слухи: «С начала занятия Украины большевиками я объединил вокруг себя весь благомыслящий элемент нашего крестьянства Чернобыльского и части Киевского уезда для всемерной борьбы с коммунизмом. Не отрицаю, что бывали случаи, когда еврейское население страдало от повстанцев, но это происходило лишь потому, что большинство солдат-красноармейцев состояло из евреев, уничтожавших и громивших наше имущество и наши семьи и проявлявших бесчеловечную жестокость в своих расправах». Атаман признавал, что «много тёмного элемента, изгнанного мною из моего отряда, пользовалось моим именем, производило бесчинства и бросало на меня тем тень плохой молвы», но утверждал, будто порою сами красноармейцы «глумились и бесчинствовали над еврейским населением и крестьянами и называли себя струковцами». Объявляя о том, что он со своим отрядом присоединился к Добровольческой армии и переформировывает его в регулярную часть для продолжения борьбы с большевизмом, Струк просил «во избежание недоразумений прекратить безответственную травлю и чернение партизан и меня и оставить столь приевшийся нам слог большевистских газет». Евреям предлагалось «не беспокоиться за свою судьбу и возвращаться в свои места»5.
Кем же был Струк и кто стоял за созданием Малороссийского партизанского отряда? Как получилось, что банда, за полгода до этого именовавшаяся Первым революционным партизанским отрядом имени Петлюры и устраивавшая многочисленные погромы, вдруг перекрасилась в «национально-русские цвета», как выражался еврейский общественный деятель Н. И. Штиф6, и влилась в Белое движение? Малороссийский отряд вскользь упоминается во многих исследованиях, хотя иногда его ошибочно именуют «Малороссийским конным полком»7 или смешивают с одесским «Отрядом священного долга»8. Сравнительно подробно о нём говорится в книге киевского публициста Р. Н. Коваля9, однако её автор увлёкся апологетикой атамана и пересказом его мемуаров10. Между тем, как справедливо отметил одесский историк В. А. Савченко, в воспоминаниях Струка «реальные события фальсифицированы настолько, что их зачастую просто трудно узнать». Неудивительно, что из-за недостатка источников и в работе самого Савченко встречается ряд ошибок11.
Илья Тимофеевич Струк родился в декабре 1896 г. в деревне Грини Горностайпольской волости Радомысльского уезда Киевской губ. в семье крестьян-середняков. Сам он рассказывал, что выучился на народного учителя, преподавал в течение двух лет, а с 1914 г. будто бы служил на Балтийском флоте на яхте «Штандарт», затем в 18-м пехотном Вологодском полку, слушал курс в Виленской юнкерской школе, снова оказался на фронте в 303-м пехотном Златоустовском полку (на самом деле часть имела № 330), несколько раз был ранен и лечился в Москве и Киеве. За боевые заслуги Струк якобы получил солдатские Георгиевские кресты всех четырёх степеней и чин капитана12, что не подтверждается ни одним документом и, очевидно, является вымыслом. 1917 г. он встретил в 51-м запасном полку в Тверской губ., и лишь про это его место службы сохранилось свидетельство от одного из сослуживцев13.
После Февральской революции Струк активно занимался украинизацией армии и, в частности, организацией различных украинских частей, принимал участие в боях в Киеве осенью 1917 и в январе 1918 г.14 Весной 1918 г. его назначили инструктором Центральной рады на Чернобыльщине, но из-за гетманского переворота ему пришлось перейти на нелегальное положение15. В конце осени 1918 г., когда началось антигетманское восстание, он возглавил отряд, сформированный украинскими эсерами16. Первоначально повстанцы действовали в районе Иванкова и Горностайполя, а затем появились в Чернобыле, где присоединились к отряду имени Петлюры. Струк выпустил целый ряд ярких воззваний самостийнического характера, часто проводил манифестации, призывая к борьбе за «неньку-Украину». В то же время он вымогал «контрибуции» и арестовывал зажиточных людей, освобождая их за приличный выкуп. В конце января 1919 г. вышел приказ Струка, предписывавший перевести все вывески в Иванкове на украинский язык17. Атаман и прежде подчинялся властям Украинской народной республики (УНР) лишь условно, а после того, как большевики взяли Киев, решил перейти на сторону красных. Революционный отряд партизан имени Петлюры был переименован в Первый революционный партизанский повстанческий полк, в котором имелись полковой совет, комиссар и представитель Коммунистической партии18. Атаман, обращаясь к «товарищам беднякам», уверял их, что «все за порядок и поддержание наших борющихся бедняков в лице справедливой советской власти, которая единственно только пришла на помощь и выручку нас как братьев на Украине»19. Полк отправили на фронт в район Бородянки, но вскоре Струк вместе с несколькими своими приверженцами дезертировал и вернулся в Горностайпольскую волость20. Порвав с красными, он собрал новый отряд и поднял восстание. К апрелю 1919 г. под его контролем находилась значительная часть севера Киевской губ., включая захваченный Чернобыль. Три недели пребывания Струка в городе превратились в непрекращающийся погром – евреев грабили, убивали, топили в реке21. В обращении к селянам Струк заявлял: «Мы не признаём жидов и коммунистов, а боремся за ваши права»22.
Заметную роль в дальнейшей судьбе Струка сыграло так называемое Куренёвское восстание. 28 марта 1919 г. повстанцы захватили северные предместья Киева, в том числе Куренёвку, а некоторые их отряды доходили даже до центра города, и какое-то время нельзя было исключать, что его могут взять плохо вооружённые крестьяне. Весь день на окраинах Киева шли уличные бои, после чего повстанцев оттеснили в сторону Пуща-Водицы23. Первоначально в газетах характеризовали восставших как «банду городских хулиганов», объединившуюся с «межигорскими кулаками»24. В советское время организация восстания приписывалась петлюровской и деникинской разведкам, выполнявшим заказ их «иноземных хозяев»25, а в украинской историографии – Струку26, который в своих мемуарах утверждал, будто его армия насчитывала 35 тыс. человек и дошла до Крещатика, повесив на здании городской думы флаг УНР27. В действительности же атаман находился в тот день в Чернобыле, хотя некоторые его люди могли участвовать в боях на Куренёвке (в одном из интервью осенью 1919 г. Струк говорил, что «большая наша группа случайно докатилась до самого Киева»28).
На самом деле выступление готовили местные монархисты, сумевшие поднять крестьян нескольких волостей под лозунгами борьбы с коммуной и защиты православной веры. Их военным руководителем являлся полковник Ричард Ричардович Кейхель. Будущий лидер киевского монархического подполья происходил из немецкой лютеранской семьи потомственных почётных граждан. Он родился в 1890 г., окончил в 1911 г. Киевское военное училище, служил подпоручиком в Зарайске, но в декабре 1912 г. за пьяный дебош был уволен в отставку29. Первая мировая война дала ему шанс вернуться в строй – Кейхель служил подпоручиком, а затем поручиком в 25-м сапёрном батальоне, был награждён несколькими орденами. В конце февраля – начале апреля 1918 г., будучи уже полковником в войсках УНР, он исполнял обязанности главноначальствующего в Фастове и его округе (Васильковский, Сквирский и Таращанский уезды). 15 мая 1918 г., вскоре после гетманского переворота, Кейхель был назначен старостой Ялтинского уезда, но в новую должность так и не вступил, поскольку в реальности Крым украинскими властями не контролировался. Проживая в своей усадьбе в Фастове, он в начале июля обратился к киевскому губернскому старосте с просьбой предоставить ему место Васильковского поветового (уездного) старосты, ссылаясь на желание «работать для создания и укрепления на Украине государственности и порядка», а также на то, что «хорошо ознакомился с положением этих уездов и особенно Васильковского»30. Возглавив повет, полковник, по свидетельству очевидца, стал «насаждать порядок»31. В ноябре, перед самым началом антигетманского восстания, он попытался разоружить располагавшихся в Белой Церкви сечевых стрельцов, но в итоге его отряду пришлось отступить на Сквиру32. После захвата Киева петлюровцами Кейхель перешёл на нелегальное положение. По его словам, 1 декабря 1918 г. он был оставлен в городе «определённой группой государственных деятелей» (по-видимому, из Монархического блока) для политической работы33.
После подавления Куренёвского восстания разбитые его участники присоединились к Струку, а полковник Кейхель, именовавший себя теперь атаманом Романом Романовичем Клименко, стал командиром Второго партизанского повстанческого полка34 и начальником штаба струковской «армии»35. Хотя в пропагандистских материалах повстанцев сохранялась риторика, направленная против «коммуны, московского и жидовского засилья»36, их общий тон изменился. Некоторые листовки стали выходить одновременно на украинском и русском языках, а читатели призывались «на защиту нашей родины» и «опозоренной православной Церкви»37. От имени обоих атаманов они обещали жителям, что «пройдёт самое короткое время, и под звон колоколов в Киев войдут крестьяне и рабочие, поднявшиеся защищать свою родную землю и православную веру»38. Отряд Клименко, признавая руководство Струка, фактически действовал отдельно, грабя евреев на Днепре. Захватывая пароход, повстанцы делили пассажиров на русских и евреев, после чего последних или топили в реке, или требовали с них выкуп за спасение жизни. Руководил всем лично Клименко – «человек средних лет, здоровый… в красной военной форме»39.
В мае 1919 г. партизаны, разбитые красными и вынужденные покинуть Чернобыль, рассеялись по лесам, откуда совершали вылазки разрозненными группами. Со временем Струку удалось восстановить отряд и перейти к активным рейдам40. Кейхель в начале июня 1919 г. вернулся в Киев и занялся подготовкой нового восстания, но после ареста его матери и ближайшего друга и помощника кн. Н. Н. Касаткина-Ростовского вновь бежал из города и два месяца скрывался в Сквире. 27 августа он объявился в уже занятом белыми Киеве, надеясь на внимательное и радушное отношение, но узнал, что для бывших гетманцев должностей нет, а ему предстоит пройти реабилитационную комиссию. Не желая сидеть на месте, полковник послал своих людей к генерал-лейтенанту Н. Э. Бредову и получил от него приказ объединить все партизанские отряды и принять над ними командование. Считая себя хорошо знакомым с местными условиями и повстанческим движением, Кейхель полагал «крайне необходимым отвлечь крестьянскую массу от украинско-петлюровского движения и привлечь её к работе на пользу Добровольческой армии»41. «Зная точно настроение крестьянства в Малороссии, их особенности, – объяснял он впоследствии свой замысел главноначальствующему Киевской области генералу от кавалерии А. М. Драгомирову, – я и решил привлечь крестьянскую массу на нашу сторону путём использования повстанцев в интересах армии. Руководило мною также и стремление предотвратить могущие быть осложнения национально-политического характера. Вследствие сего мною был создан, благодаря сочувствию генерала Бредова, отряд, названный Малороссийским в предположении, что при нашем быстром продвижении вперёд мне удастся корректным отношением партизан к крестьянам всецело привлечь их симпатии на сторону Добрармии»42. Как вспоминал В. В. Шульгин, «атаман Клименко составил не украинский – малороссийский отряд и там, значит, существовал»43. Именно к нему и присоединился Струк.
В воспоминаниях Струка, надиктованных в 1921 г., когда он вновь переориентировался на УНР, утверждалось, что его отряд перешёл на сторону белых лишь потому, что петлюровцы отошли от Киева, не уведомив об этом атамана, и он оказался зажат между большевиками и деникинцами. В то время он якобы находился в Дымере, и туда к нему для переговоров приезжали от Деникина два капитана Генерального штаба – Епифанцев и Москвин, тогда как повстанцев представляли сам Струк и его начальник штаба полковник Клименко. В итоге, по словам атамана, 22 сентября 1919 г. они подписали договор, согласно которому войско Струка под названием «Первой повстанческой украинской армии» становилось частью ВСЮР. При этом деникинцы будто бы согласились с тем, что всё делопроизводство струковцев, включая переписку с центральными органами, останется на украинском языке, а их офицеры и солдаты сохранят украинскую символику – тризубы на шапках и ленты национальных цветов в петлицах и «жовто-блакитный» флаг над штабом. На занятых повстанцами территориях должна была устанавливаться украинская власть; белые объявляли амнистию всем арестованным украинцам. В обмен на это Струк обещал держать фронт от Десны до Днепра и от Днепра по Ирпеню до Ковельской железной дороги, посылать своих представителей для урегулирования недоразумений между деникинским командованием и местным населением, вести разведку за линией фронта44. Разумеется, этот «договор», приведённый в воспоминаниях атамана, был полностью им выдуман для оправдания перед петлюровцами. Белые, находившиеся на пике своих успехов, конечно, не стали бы делать такие уступки, шедшие вразрез с их политикой, банде, насчитывавшей всего несколько сотен человек. В реальности, конечно же, условия ставили именно белые, а не Струк.
Согласно рассказу штабс-ротмистра Собоцкого (Субботского), после прихода добровольцев в Киев туда съехались все командиры партизанских отрядов, действовавших в окрестностях против большевиков: полковник Кейхель–Клименко, сам Собоцкий, капитан Закусило, поручик Кожа, полковник Радковский. Посовещавшись, они решили, что Струк, «не умевший в своё время сдержать разнузданность партизанов, должен явиться лично к генералу Бредову с повинной и рассказать всю правду о чернобыльском, иванковском и горностайпольском погромах». Руководители повстанцев готовы были принять Струка в свою среду и обещали контролировать его деятельность в том случае, если он будет прощён Бредовым45.
В начале сентября в Киеве поселился, не особо скрываясь, и сам Струк, чем сильно удивил тех, кто помнил о его прежних похождениях. Ещё 5 сентября 1919 г. чернобыльский крестьянин П. Мельниченко подал Бредову заявление, в котором констатировал, что «преступления и проступки бандита Струка как против Добровольческой армии, [так] и государства вообще, не поддаются описанию»: участие в самостийническом движении, переход на сторону советской власти, разгром помещичьих усадеб, утопление русских офицеров, возвращавшихся из немецкого плена, устройство еврейских погромов. «По имеющимся сведениям, – писал Мельниченко, – Струк является агентом и разведчиком Петлюры и с этой целью он теперь находится в Киеве». Тут же указывалось, что Струк находился на Подоле вместе с известными разбойниками Черненко и Шпаком. Свидетельские показания против него обещали дать помещики Меснянкин и С. М. Богданов (бывший депутат Государственной думы), акцизный надзиратель Кочан и евреи из Горностайполя Ковенский и Лисица. Подав аналогичные заявления киевскому губернатору, прокурору Киевского окружного суда, начальнику киевской контрразведки, Мельниченко просил Бредова «принять срочные меры к аресту означенного бандита»46.
Однако, не дожидаясь ареста, атаман сам посетил Бредова, предложив свои услуги для операций в лесистом пространстве к северо-западу от Киева47. 9 сентября газета «Вечерние огни» поведала читателям, что на днях в приёмной Бредова к ожидавшему в очереди полковнику подсел молодой офицер, и, когда речь зашла про местных повстанцев, заявил, что «так называемые банды Струка не питают никакой вражды к Добровольческой армии». На последовавший вопрос, откуда ему это известно, он ответил, что «мы сами струковцы», указав на своего спутника-прапорщика. Полковник полюбопытствовал, знакомы ли они с атаманом, и услышал от собеседника: «Честь имею представиться, я сам Струк, а это – мой помощник»48. Гостя приняли весьма радушно. Как вспоминал штабс-капитан Е. Э. Месснер, «его первое появление в штабе произвело отличное впечатление: красивое, открытое лицо, своеобразная, энергичная речь, интересный доклад о предыдущей борьбе с красными, борьбе, когда, за отсутствием оружия, приходилось пускать в ход самодельные пики, по месяцам скрываться в лесах, выжидая случая напасть на большевиков – всё это создало представление о Струке, как о незаурядном, умном и, видимо, честном человеке, на которого можно возложить задачу поднять крестьян»49. Либерально настроенный белый офицер, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета М. А. Циммерман вспоминал, что Струк произвёл на него «очень благоприятное впечатление», несмотря на ходившие тёмные слухи: «Одни упрекали его в том, что он устраивал еврейские погромы, другие утверждали, что в конце 1917 г. он собственноручно расстреливал офицеров». Но, заключал Циммерман, «во всяком случае это был человек энергичный и храбрый, имевший сотни две приверженцев, людей, которые были готовы идти за ним в огонь и воду»50. Журналистам, беседовавшим с атаманом, он также пришёлся по душе. Как писал сотрудник газеты «Киевское эхо», у Струка «выразительное, мужественное молодое лицо», говорит он «просто и сдержанно, литературно строит речь»51. Бывал Струк и у редактора «Киевлянина» В. В. Шульгина52.
Генерал Бредов простил Струка и прикомандировал его к «1-му Малороссийскому добровольческому партизанскому отряду по борьбе с коммуной и анархией», объединявшему всех местных повстанцев. Их командиром стал полковник Кейхель–Клименко, Струк, получивший чин зауряд-полковника, числился его помощником, политическим отделом заведовал штабс-ротмистр Собоцкий (Субботский), обязанности начальника штаба исполнял полковник Радковский53 (по другим сведениям – полковник кн. А. А. Друцкой54). Сам Струк писал в мемуарах, что белые называли его «атаманом-полковником»55, но ни в одном официальном документе не встречается такого чина (обнаружить его можно лишь в заголовке одной из статей газеты «Русь»). На фотографии, сделанной в период службы Струка в Белой армии, он запечатлён в погонах зауряд-полковника56.
Легализация отряда произошла до приезда и, по всей видимости, против воли главноначальствующего Киевской области генерала А. М. Драгомирова, которому пришлось с ней смириться. Впрочем, каких-либо иллюзий у него не наблюдалось. «Наибольшее зло – это атаманы, перешедшие на нашу сторону, вроде Струка, – писал он Деникину в сентябре 1919 г. – Это типичный разбойник, которому суждена несомненно виселица. Принимать их к нам и сохранять их отряды – это только порочить наше дело. При первой возможности его отряд буду расформировывать»57. Однако, по свидетельству Циммермана, главноначальствующий «не решился принимать слишком решительных мер и предоставил этот вопрос исключительно на усмотрение генерала Бредова»58.
Уже 13 сентября «Вечерние огни» уверяли, что части отряда вышли в тыл противника и устраивают там при поддержке крестьян налёты на штабы, склады и базы красных. Партизаны выступали под лозунгом «Долой анархию и коммунизм! Да здравствует Учредительное собрание!»59. «Екатеринославский вестник» ликовал: «“1-й Малороссийский добровольческий отряд” уже на фронте, а с ним его “батько” Струк в золотых погонах. Слава Струка в Киевском уезде велика. Отряд растёт, как снежный ком»60.
Собоцкий рассказывал корреспонденту газеты: «Идут к нам, как мухи на мёд. Приходят и махновцы, и григорьевцы, и зеленовцы, и петлюровцы. Представьте себе, нацепит погоны – куда его и дикость девалась. Уже тянется в струнку, говорит “никак нет”, “так точно”». Впрочем, радуясь такому пополнению, журналисты осознавали и связанные с ним риски: «Шаг, безусловно, правильный. Ибо кто же не знает, сколько вреда партизаны причиняют своим врагам. Однако с этими отрядами нужно быть начеку, ибо украинский повстанец особенно дик, жесток и своенравен. Превращение украинских повстанческих отрядов в регулярные боевые единицы должно вестись осторожно, с полным знанием быта и особенностей повстанцев, а главное, регуляризация партизанского отряда должна быть начата немедленно по изъявлении повстанцами желания воевать рука об руку с Добрармией. Партизаны – палка о двух концах»61.
В начале ноября 1919 г. отряд, формально включённый в состав 9-й пехотной дивизии ВСЮР62, состоял из четырёх батальонов и ещё только формировавшегося конного полка63 и мог насчитывать до полутора тысяч человек. Советская разведка значительно преувеличивала численность противника. Так, 18 сентября в её сводке отмечалось, что по рассказам местных жителей, в районе деревень Ваховка, Злодеевка и Рудня Дымерская «действует бандит Струк с отрядом численностью около двух полков пехоты в пять тысяч штыков и кавалерии численностью 400 сабель» – заняв два моста через реку Здвиж, он собирался зайти в тыл красных частей64. 24 октября поступили данные о том, что в Святошине гарнизонную службу несли 300 партизан65. Впрочем, точное число повстанцев подсчитать сложно, так как часть из них действовала в тылу у красных, другие располагались по своим деревням. Отряд Кейхеля–Клименко и Струка, имевший во многом иррегулярный характер, никогда не представлял из себя единого формирования. Он состоял из небольших подразделений, во главе которых стояли атаманы (Закусило, Кожа, Приходько, Лазаренко, Осипенко, Богуш, Терешко, Остапчук и др.)66. Большинство из них были второразрядными «ватажками», возглавлявшими от нескольких десятков до сотни бойцов. Так, например, под началом Жигоры, примкнувшего к малороссийским партизанам на Ирпеньском фронте, сражались 70 человек67. В результате, благодаря Струку, на белых переориентировались основные повстанческие силы севера Киевской губ., а также прилегавших к ней районов Волынской и Минской губерний.
Кейхелю подчинялись также подручные штабс-ротмистра Собоцкого (Субботского) и Бориспольский партизанский отряд М. В. Фишера68. Собоцкого современники характеризовали как «тёмную личность», связанную с уголовным миром, и подозревали, что на самом деле он был не армейским офицером, а бывшим околоточным надзирателем69. При этом газета «Киевское эхо», опираясь на слова штабс-ротмистра, изображала его крупным политическим и военным деятелем: «Это тот самый Субботский, который находился вместе с Корниловым в Быхове; он же – один из восьми офицеров, которые должны были арестовать Керенского»70.
Михаил Владимирович Фишер, родившийся в 1889 г. в Петербурге, происходил из потомственных дворян Московской губ. Он окончил Алексеевское военное училище, провёл несколько лет в строю, после чего вышел в отставку в чине поручика и стал артистом русской драмы в Москве. С началом Первой мировой войны ушёл добровольцем на фронт, в 1916 г. получил тяжёлое ранение. В марте 1918 г. Фишер, называвший себя штабс-капитаном 307-го Спасского пехотного полка (хотя на момент ранения являлся поручиком), был освидетельствован в Петрограде врачебной комиссией и признан нетрудоспособным, нуждающимся в постоянном уходе и имеющим право на пенсию вследствие обстоятельств, связанных с прохождением военной службы. По его утверждению (которое трудно подтвердить или опровергнуть), в феврале 1918 г. он присоединился к Добровольческой армии, а летом 1919 г. возглавлял партизанский отряд, действовавший в Полтавской губ. в районе местечка Борисполь71.
Подразделения различных атаманов «малороссийских партизан» во многом сохраняли прежнюю организацию. Так, 4-й батальон формировался на базе Бориспольского отряда Фишера72. Струк непосредственно командовал 2-м батальоном, насчитывавшим в начале сентября 170 человек при двух пушках и нескольких пулемётах73. При этом сам атаман, явно преувеличивая, утверждал, что при необходимости может собрать по деревням 8–10 тыс. крестьян74.
В Киеве наиболее активно отряд рекламировали русские националисты. На страницах газеты «Киевская Русь» было размещено воззвание, отражавшее идеологию партизан: «Селяне! На православном храме гудит колокол: спасай родную страну и православную веру! Мы, атаманы, зовём вас: “Идите к нам, становитесь в ружьё под наши знамёна. С нами Бог, с нами правда. Нам помогают доблестные добровольческие полки. На нас с великой надеждой взирает вся трудовая Россия”. Селянство! Твои мозолистые руки должны сжаться в грозный кулак. Смерть Нахамкесам и Бронштейнам и всем татям, ворвавшимся в твой дом! Смерть китайским и латышским бандитам, щёлкающим зубами на крестьянское добро! Долой красную Иудову звезду! Все к оружию!»75. По свидетельству И. Б. Шехтмана, это обращение, пропущенное цензурой и заключавшее «ряд определённо погромных призывов», расклеивалось на стенах домов и усиливало «подавляющее впечатление», произведённое на еврейское население самим фактом присоединения к Добровольческой армии атаманов, «вчера ещё объявлявших себя ярыми украинцами и самостийниками», «не имеющих никаких убеждений и готовых служить каждому, кто даст им возможность грабить и убивать евреев»76.
«Киевлянин» рассказывал о том, как партизаны вписывают своею кровью «новую славную страницу в историю борьбы за единство русской земли»77. В редакции надеялись, что «хорошо снабжённые и дисциплинированные малороссийские партизаны, воскрешающие традиции старого нашего казачества борьбой за православную веру и русскую народность, несомненно, явятся украшением Добровольческой армии. Пусть же растёт и ширится малороссийское партизанское движение на пользу общего русского дела»78.
В информационных сводках, составлявшихся для властей Киевской области и командования ВСЮР и не предназначенных для широкой публики, А. И. Савенко, возглавлявший местный Отдел пропаганы, указывал: «Ряды партизан всё время пополняются, преимущественно крестьянами. Малороссийский партизанский отряд отличается многими чертами самобытности, во многом напоминающими былой уклад жизни запорожских казаков. Партизаны особенно подчёркивают свою преданность православной вере. У крестьянского населения этот отряд и его атаманы пользуются большой популярностью. Ныне отряд держит фронт под Киевом на протяжении от Ковельской жел[езной] дороги до Днепра». В целом отряд характеризовался как «очень интересное и заслуживающее внимания явление»79. Связанные с Отделом пропаганды «Вечерние огни» и «Народная газета» также расхваливали партизан (в обоих изданиях видную роль играл будущий идеолог «народной монархии» И. Л. Солоневич).
В действительности всё было далеко не так благостно, как в докладах Савенко. Погромы не прекратились, хотя и не имели уже того масштаба, как весной, когда струковцы действовали самостоятельно. Например, 18 сентября, войдя в Дымер, расположенный к северу от Киева, они потребовали от жителей 18 птиц, тысячу папирос и 10 тыс. руб. Птиц и папиросы им тут же выдали, денег же нашлось только 5 тыс. Струк лично приказал собрать с каждого еврейского дома по тысяче рублей. Евреи, продав часть своего имущества местным крестьянам, вручили атаману 35 тыс. руб., но это их не спасло. По свидетельству очевидца, «после того, как Струк получил деньги, солдаты его рассыпались по местечку и начали разорять дома и лавки – выламывали двери и окна, рубили обстановку, из лавок и домов уносили товары, мебель и прочее. Этим не ограничились и перешли к насилиям и убийству. Так, в доме Корецкого Зуси была изнасилована жена Ицко Дымерьца. В этом преступлении участвовало трое казаков. Кроме того, было ещё несколько случаев изнасилования молодых женщин. Этими солдатами убит был Мордко Гершевич Лещинский, у которого предварительно забрали имевшиеся при нём три тыс[ячи] рублей». Затем убили ещё двух евреев и еврейку из колонии Рыкунь, один старик умер от волнения, другие подверглись издевательствам и избиению80. В сентябре струковцы также устроили погром в Пуща-Водице, на северной окраине Киева. Всё еврейское население разбежалось, и банда совместно с крестьянами грабила оставленные дома: солдаты забрали всё наиболее ценное и удобоносимое, крестьянам же достались подушки и перины. Проходящих через Пуща-Водицу евреев задерживали, унижали и обирали81. 16 сентября в дом № 87 по Юрковской улице на Подоле ворвались 15 вооружённых струковцев во главе с поручиком и под предлогом поиска оружия забрали у жильцов деньги, платье, табак, ценные вещи и хлеб82.
Партизаны плохо снабжались (Савенко сетовал в сводках на то, что отряд «терпит большую нужду во всём»83), поэтому сразу же занялись грабежом, от которого страдало не только гражданское население. В начале октября 1919 г. начальник штаба Полтавского отряда полковник Г. А. Эверт требовал ареста штабс-ротмистра Собоцкого за то, что тот отобрал и продал принадлежавших штабу коров84. «Рассказывая мне о былых днях в Киеве, он очень бранил командование, – писал Шульгин о Кейхеле, с которым встречался в начале 1920-х гг. в эмиграции. – Голодные, будь они украинцы или малороссияне, будут грабить»85. Сам Кейхель констатировал: «К глубокому сожалению, наше продвижение вперёд остановилось сейчас же за Киевом, вследствие чего крестьянская масса просочилась ко мне через большевиков лишь в числе нескольких десятков человек, и главный контингент отряда составили добровольцы г. Киева и его ближайших окрестностей. Эти добровольцы в огромном своём большинстве представляют из себя развращённую большим городом рвань (первоначально написано “сволочь”. – А.Ч.), и на отряд стали сыпаться жалобы и нарекания. Затем, с первого дня существования три четверти отряда находилось на позиции, разбросанные по нескольким деревням, в боях и сторожевой службе, что не давало возможности хоть сколько-нибудь регулярно спаять людей и наладить хозяйственный аппарат… Неполучение от казны денег, продовольствия, вооружения, фуража, обмундирования и снаряжения повело к тому, что, находясь частью близ Киева, а частью в самом городе, тёмный элемент отряда производил грабежи среди еврейского населения»86. Приказ Бредова «зачислить на довольствие Малороссийский партизанский отряд» поступил лишь 22 октября87, и только после этого снабжение начало налаживаться.
У красных не было сомнений в том, что основная цель Струка – Чернобыль, но, по-видимому, ему не удалось дойти даже до Горностайполя88. В начале октября 1919 г. Киевская военная реквизиционная комиссия направила старосте данного местечка служебную записку, подписанную «повстанческих войск атаманом полковником Струком» и заверенную «осаулом поручиком Ефимовым»: «Приказываю с получением сего мобилизовать всех мужчин от 18 до 45 лет, способных носить оружие для бородьбы с коммунистами и прочей нечестью большевицкой. Люди немедленно должны быть присланы мне в штаб партизанских отрядов в м. Дымер». Впрочем, до адресата это распоряжение не дошло, поскольку его перехватил и доставил в Чернобыль начальник советской милиции Горностайполя89.
В начале октября партизаны Струка приняли участие в боях за Киев, частично захваченный отступавшими от Одессы частями РККА. Профессор Н. В. Краинский 1 октября видел посланца от струковского патруля, но сам отряд атамана «не подавал признаков жизни». По городу даже ходили слухи об измене Струка, которые впоследствии не подтвердились. Вскоре выяснилось, что его отряд был отрезан от основных сил белых и оказался в тылу у неприятеля. Согласно воспоминаниям Краинского, его окружили и разбили в районе так называемого Черниговского (северного «Стратегического») моста90. Прапорщик В. В. Завадский утром 2 октября с правого берега Днепра увидел за рекой чьи-то чёрные цепи: «Одни из них наступали к мосту, что вёл на Подол, другие – к Цепному мосту. Несколько человек присматривались к этим цепям. Одни говорили, что это большевики, другие, что – струковцы. Как я узнал впоследствии, это были, действительно, струковцы, производившие разведку»91.
В мемуарах атаман, серьёзно преувеличивая свои заслуги, описывал, как в ночь с 1 на 2 октября перешёл в наступление, занял Куренёвку, Подол и затем в течение четырёх дней вёл бои «за остальной Киев», чем дал возможность деникинцам, отошедшим на левый берег, вернуться в город. По словам Струка, его отряд потерял 80 человек убитыми и до 150 ранеными, лишившись также 75 коней. Зато большевиков погибло столько, что их трупы, лежавшие на насыпи между Стратегическим мостом и Межигорьем, «убирали две недели». «Деникинская пресса, – хвастался Струк, – была заполнена хвалебными статьями в адрес украинских партизан, а мой портрет с перевязанной раненой рукой был помещён в разных газетах. За храбрость нашу Деникин выдал нам семьдесят пять Георгиевских крестов для офицеров и казаков. Награды назначал и раздавал я сам в присутствии представителя от генерала Бредова… Я лично был награждён чином полковника и Георгиевским офицерским крестом второй степени (Приказ по армии, что-то около 15 октября). В приказе по деникинской армии объявлено, чтобы меня называли “атаман-полковник”»92. В действительности же никаких массовых награждений не проводилось, а зауряд-полковником Струк стал ещё в сентябре. Правда, портрет атамана и впрямь напечатали в газете «Молва» (пусть и без каких-либо указаний на ранение)93.
Когда в ростовской прессе появились слухи о том, что Киев был взят из-за измены Струка, который якобы вместе со своим отрядом оставил фронт и ушёл то ли к петлюровцам, то ли к большевикам94, киевская «Народная газета» выпустила опровержение, отметив, что «молодой, энергичный атаман Струк уже год сражается против большевиков» и всецело подчиняется командованию Добровольческой армии95. Журналисты весьма комплиментарно отзывались о его «партизанах». «Очевидцы передают, – сообщали “Вечерние огни”, – что струковцы, многие без сапог, кое-как одетые, несмотря на стужу и холод, буквально “лезли” вперёд, наводя панику на врага. Эти незаметные герои сдерживали на своих плечах натиск красных до самого последнего момента»96. Героически действовал и отряд Фишера, сражавшийся в районе Еврейского базара, а затем Михайловского монастыря. Газета «Молва» именно ему приписывала решающую роль в освобождении города: «Ни рвавшиеся снаряды, ни ружейный, ни пулемётный огонь, ничто не могло остановить этих храбрецов, и, оставляя умирать своих сотоварищей тут же на улице, они смело шли вперёд»97.
После очищения Киева от большевиков партизаны на несколько недель задержались в городе, и тут в полной мере раскрылись уголовные наклонности некоторых из них. «Словно нарочно, – отмечал И. Б. Шехтман, – добровольческие власти назначили именно Струка районным комендантом Подола, еврейской части Киева, что равносильно было отдаче на его гнев и милость всего еврейского населения района. Струк этой возможностью пользовался широко. Его штаб по Межигорской улице, номер 61, был форменным разбойничьим гнездом. В дни 1–5 октября он взимал огромные контрибуции с евреев; его повстанцы совершили бесчисленное число налётов. С 4 ч[асов] дня Подол замирал. Никто не решался показываться»98. Непрерывные грабежи и разбои происходили на улице Нижний Вал, где беженцы из Чернобыля, Горностайполя, Иванкова и других мест «во многих из нападавших узнавали старых знакомых, участников былых ужасов на покинутой, разорённой родине». В гостиницу Бабушкиной в сопровождении нескольких солдат явился капитан Среда, адъютант Струка, и наложил на хозяев этого и соседних домов контрибуцию в 300 тыс. руб., которую следовало внести до двух часов ночи, в противном случае домовладельцам предстояло отправиться в штаб к атаману. Удалось собрать лишь 130 тыс., но эта сумма не удовлетворила капитана, и он потребовал заложников. Тогда кто-то из жильцов преподнёс Среде бутылку спирта. Тот сразу же начал её распивать и быстро захмелел. Благодаря этому некоторым из присутствовавших удалось спрятаться и сообщить о происходившем властям. Прибывший отряд угомонил рассвирепевшего капитана и увёл его с собой. Однако оставшиеся струковцы продолжили требовать денежный выкуп, возмущаясь тем, «как смели вы, жиды, жаловаться». Видя, что денег им не собрать, они решили взять с собой в качестве заложницы молодую еврейку, но полицейский начальник увёз её к себе на квартиру и тем самым спас. О произошедшем было сообщено городской думе, и в дальнейшем от Струка уже никто не приходил. Девушке же, спрятавшейся у полицейского начальника, пришлось присутствовать на проходившем у него дома застолье, устроенном атаманом для друзей и приближённых по случаю взятия Киева: «Полк[овник] Струк произнёс длинную речь, в которой рассказал о своих военных похождениях, о своей ярко вспыхнувшей военной звезде, о том, что он своей доблестью затмил историческую славу Богдана Хмельницкого. Он со своим отрядом борется только против большевиков, мирных жителей не обижает, всячески охраняя их интересы без различия национальности. Осмелевшая еврейская девушка вкратце передала о происходящем в их доме. Струк ответил, что это тёмные личности прикрываются его именем, и он произведёт по этому делу следствие. В этом пиршестве принимал участие и капитан Среда, фигурировал как полковничий адъютант, на которого Струк в своей речи указывал как на человека, делившего с ним все военные тяготы»99.
Крайне ожесточённый характер носили грабежи на Ярославской улице, где вымогательства денег и ценностей сопровождались побоями и истязаниями, а несколько человек погромщики забрали с собой. В погроме участвовали не только солдаты, но и офицеры, называвшие себя струковцами и говорившие, что задержанных евреев повели в штаб к атаману. Среди жителей ходил слух, будто сам Струк во время погрома произносил на пристани речи. Одного из потерпевших с Ярославской улицы ограбили на 75 тыс. руб., причём он сам, его сестра и шурин были сильно избиты100. Э. И. Межирицкая, жившая в доме № 24 по Юрковской ул., рассказывала, что солдаты, обходя дома евреев, забирали кур и другую живность, и ей с трудом удалось отстоять единственную корову. Как землячка Струка, она обратилась к нему за помощью, и атаман обещал, что корову не возьмут101.
В грабежах особо отличился Василий Александрович Бореславский по кличке «Васька-Австриец» – 20-летний крестьянин, ранее проживавший в Австро-Венгрии в городе Дрогобыч и, по-видимому, ушедший из Галичины в 1915 г. вместе с отступавшими русскими войсками. В Киеве он работал ломовым извозчиком, при большевиках скрывался от мобилизации, а после прихода деникинцев, будучи безработным, по совету товарищей вступил в отряд Струка. Советские следственные органы впоследствии зафиксировали его участие в 15 преступных эпизодах. Всего же Васька украл около 50 лошадей, корову, 50 мешков овса, деньги, плащ и другую одежду, различные ценности. Некоторые из ограблений сопровождались избиениями и стрельбой102.
Запомнились струковцы и сотрудникам Центрального еврейского комитета помощи пострадавшим от погромов, помещение которого на Фундуклеевской улице они реквизировали для постоя. В один из дней члены комитета «застали картину полного загрязнения квартиры: уборные были загажены до невозможности, кухня была испачкана человеческими экскрементами, столы были перетасканы и, так как на них ночью валялись солдаты, были изломаны… Вообще, квартира приняла вид конюшни и неубранного стойла». Впрочем, попытка ограбить находившийся там же вещевой склад была пресечена начальством, а один из подпоручиков Малороссийского отряда, оправдываясь за поведение своих подчинённых, заметил: «Что же я могу с ними поделать, когда 50% из них бандиты»103.
В конце октября командование всё же решило отправить партизан Струка в тыл красных, занимавших линию реки Ирпень, где, по уверениям атаманов, всё было готово для грандиозного антибольшевистского восстания104. Когда оно вспыхнуло, «наши партизаны Струка», как выразился начальник оперативного отдела штаба войск Киевской области полковник А.А. фон Лампе, были «высланы туда для руководства»105. Первые донесения, приходившие в штаб с 31 октября по 4 ноября, по свидетельству штабс-капитана Е. Э. Месснера, звучали радостно: «Район Дымера очищен от красных», «восстание в тылу красных разрастается», «у д[еревни] Литвиновка красные разбиты», «восстание охватило район д[еревень] Ясногородка, Литвиновка», «партизанами занята Раковка». Но уже 7 ноября стало ясно, что всё кончено: «По данным войсковой разведки д[еревни] Козаровичи, Демидов, Раковка и Гостомель снова заняты частями 3-го Интернационального полка». Восстание было подавлено, а партизаны вернулись на исходные позиции106.
В сводках киевского Отдела пропаганды и циркулярах «Прессбюро» также сообщалось, что в тылу большевиков, в районе Дымер–Демидовка–Козаровичи–Литвиновка, восстали доведённые до отчаяния крестьяне. Их поддержали партизаны Струка, уничтожившие батальон 3-го Интернационального полка и захватившие его штаб, одно орудие и два пулемёта. В начале ноября восстание разрасталось, охватив деревни Глебовка и Ясногородка, район рек Ирпень и Здвиж, причём отмечалось, что «малороссийские партизаны» «оказывают восставшим существенную поддержку»107. В последующие дни о провале операции в сводках уже не упоминалось. Согласно докладной записке, составленной чекистом Ивановым, Струк действительно напал на части 58-й дивизии в районе Бородянки, захватил несколько трёхдюймовых орудий, пулемёты и пленных, но затем 3-й Интернациональный полк восстановил положение, отбив красноармейцев и артиллерию. Отряд Струка был «основательно разгромлен», но его ядру удалось скрыться108.
На пике наступления струковцы дошли до Воздвиженска. 7 ноября командир чернобыльского гарнизона, «ввиду поступления сведений о намерении Струка занять Чернобыль», просил начальство разрешить ему «задержать при себе для лучшей обороны воздухотряд»109. На борьбу с атаманом из Гомеля перебросили курсантов Минских советских пехотных курсов командного состава Красной армии. Батальон, сформированный из них и усиленный кавалерийским и артиллерийским взводами и двумя орудиями, перевели на станцию Бородянка, откуда он должен был «начать движение по ликвидации восстания». Курсанты получили приказ уничтожить повстанцев, «поймать главарей, [в] особенности Струка, и водворить спокойствие на левом фланге 58-й армии»110. Курсант Н. К. Семков позднее вспоминал о «ликвидации банды петлюровского полковника Струка» (примечательно, что мемуаристу запомнились именно петлюровцы, а не деникинцы): «На ст. Ворзель мы приехали к вечеру и сразу же вступили в бой с петлюровцами. Через два часа над нами нависла ночная тьма. Стало тихо, только кое-где слышались одиночные выстрелы. Враг под прикрытием ночи бежал в Бородянку. На поле боя осталось много раненых и убитых петлюровцев. Несколько наших товарищей не вернулось с поля боя. Утром наши товарищи во главе с Я. Братенковым отправились в разведку. Значительную помощь им дали местные жители, они указывали расположение врага. Нелегко нам далась победа, много товарищей погибло, но из Ворзеля и Бородянки националистическая банда была изгнана»111.
10 ноября из Горностайполя сообщили по телефону в Чернобыль, что банды Струка разбиты в Новых Петровцах, а сам он бежал. Заняв Дымер, красные сожгли «семь домов главарей Струка», остальное население местечка отправило к победителям делегацию с хлебом-солью и просьбой о прощении112. 11 ноября в оперативной сводке штаба чернобыльского гарнизона был подведён итог боям: «Со слов переходящих крестьян из Киева нашими войсками заняты Петровцы и Межигорье. Банды Струка, оперировавшие в районе Лютеж–Демидов, разбиты нашими войсками, причём у него захвачено два орудия, несколько пулемётов»113.
Месснер объяснял поражение тем, «что крестьяне, очень охотно помогавшие изгнать красных из своей деревни, дальше околицы не шли, предоставляя соседней деревне самостоятельно расправляться с сидевшими там большевиками. Само собой разумеется, что воинственный порыв, действительный лишь в пределах видимости родной колокольни, не имел никакой цены, поэтому партизаны возвратились обратно, не добившись никаких результатов, не оказав сколько-нибудь существенного влияния на ход операции»114. Циммерман всячески оправдывал атамана: «С того момента, как Струк перешёл на нашу сторону, он очень честно и добросовестно исполнял все возлагаемые на него задачи и храбро оборонял северные подступы к Киеву в печальные ноябрьские дни 1919 г. Лично я всегда защищал Струка от нападок как из левых, так и из правых кругов, потому что считал, что каждая сотня бойцов имеет для нас чрезвычайную цену, и мы не могли ещё позволить себе роскоши отказываться от людей, знакомых с местными условиями и бывших в состоянии увлечь за собой местных крестьян. Если бы у нас в распоряжении имелось бы больше винтовок, снаряжения и обмундирования, мы могли бы значительно лучше использовать эти партизанские крестьянские отряды, но при крайнем недостатке в оружии мы не могли совершать таких, по существу несколько рискованных, операций»115.
Несмотря на неудачи, Струк продолжал пользоваться определённой популярностью в северных районах Киевской губ. и на прилегавших к ним территориях. 17 ноября в Киев прибыл крестьянин села Олива, посланный к Струку односельчанами и жителями Базарской волости Овручского уезда Волынской губ. Гонец поведал атаману, что они «больше не хотят терпеть коммунистического засилия», поскольку все городские продукты (сахар, соль, керосин) достигли небывалой цены, а большевики «всех держат как в тюрьме, нельзя даже выйти на улицу», отбирают тёплые вещи, реквизируют и вывозят продовольствие. Крестьяне просили Струка прибыть к ним с оружием и принять на себя руководство новым восстанием, в котором готовы были принять участие до 5 тыс. человек, не считая тех, кто после подавления предыдущего выступления отсиживался в лесах. Правда, также выяснилось, что в Дымерской волости остались крайне недовольны Струком, который, отступая, бросил её на произвол судьбы, не предоставив своевременно оружие116.
На партизан продолжали сыпаться жалобы. В ноябре из-за «ложных донесений и сведений» генерал Бредов заявил Кейхелю, что его отряд будет расформирован, а людей распределят по другим частям. Кейхель обратился к Драгомирову, доказывая, что желание Бредова невыполнимо, так как бойцы просто разойдутся по домам или же «растворятся по сёлам занятых Добрармией местностей и, на почве оскорблённого самолюбия, поднимая у нас в тылу восстания, будут мстить за попрание их хороших чувств и стремлений и этим подготовлять дорогу самостийному движению, ещё далеко не остывшему после ухода Петлюры». Кроме того, командир партизан жаловался на ограничивавшие его формальности: «Повстанцы, зная, что большинство атаманов находится у нас, просачиваются через фронт и являются ко мне за указаниями и инструкциями. Между тем я не могу им ничего дать, благодаря отношению власти, которая на все выдачи требует штаты, разрешения и проч., переписку и сношения ведёт с обычной казённой медленностью, а боевую работу требует от отряда, не считаясь ни с какими штатами». По мнению полковника, ситуацию могло бы исправить создание при Малороссийском отряде повстанческого штаба. Кейхель просил направить в его распоряжение несколько надёжных и опытных боевых офицеров для формирования и обучения партизанских частей, а также разрешить ему организацию подразделений из офицеров, старообрядцев, крымских татар и немцев-колонистов, которые стали бы «противовесом вредной и опасной для Добрармии агитации элементов ненадёжных в смысле уклона в самостийность». В таком случае Кейхель обещал создать в короткий срок «новую и хорошую дивизию, которую, сохраняя временно официально форму партизанства, постепенно превратить в дисциплинированную и мощную боевую силу, одухотворённую, спаянную традициями старого казачества и политически воспитанную в идеях Добровольческой армии». Однако Драгомиров не только отверг эти предложения, но и грозил отдать командира «малороссийских партизан» под суд, если верить тому, что позднее рассказывал Кейхель Шульгину117.
По мере того, как Белая армия начала терпеть поражения и отступать, некоторые её руководители стали пристальнее присматриваться к партизанам. Так, в конце ноября ими заинтересовался начальник разведывательного отделения управления генерал-квартирмейстера штаба войск Киевской области полковник В. М. Мельницкий. Желая привлечь на сторону ВСЮР как можно больше повстанцев, он обратился за советами к капитану Закусило, именовавшемуся атаманом отрядов Овручского, Мозырского и Речицкого уездов. Тот рекомендовал создать повстанческие штабы во главе с энергичными людьми, хорошо знающими местные условия и способными увлечь за собой других. Серьёзную проблему Закусило видел в том, что многие офицеры и добровольцы смешивали дружественных им партизан с бандитами, называли их разбойниками и «мужичьём». Следовало также работать с сельской интеллигенцией, особенно с учителями, которые нередко являлись идейными руководителями крестьянского движения. Тогда, писал капитан, «при сформировании в данной местности повстанческого отряда, не враждебного, а “союзного” с Добрармией, несомненно, изменится и вся ориентация деревни, в сторону, благоприятную делу возрождения единой и неделимой России»118.
Впрочем, командование, похоже, не ожидало ничего подбного. «Атаманы уверяют, что поднимут десятки тысяч народа, – скептически отмечал Месснер, – требуют денег и довольствия на тысячи партизан, при получении боевой задачи обещают выставить сотни бойцов, а в действительности вводят в бой десяток оборванцев. Но в погоне за лишней полусотней бойцов начальство вынуждено терпеть подобных господ, сквозь пальцы смотря на их небезгрешные шалости и даже осыпать милостями… Но, как и следовало ожидать, пользы от партизанских шаек не было никакой – сами по себе они были немногочисленны и малобоеспособны, а поднять восстание им не удалось»119.
К началу декабря положение ВСЮР под Киевом стало практически безнадёжным. По воспоминаниями В. В. Завадского, пехоты у белых осталось мало – по сути, Киев от большевиков, наступавших с востока, защищали лишь отряд Струка, действовавший около Подола, и ещё один полк120. Сам Струк утверждал, что покинул город последним. Дойдя до урочища Красный Трактир около станции Жуляны, он якобы повернул назад, захватил Демиевку, два дня вёл бой с красными и в конце концов вынужден был отойти под напором прибывших свежих сил противника (другими документами всё это не подтверждается). После того, как в начале декабря Киев был сдан красным, струковцы двигались вместе с белыми по маршруту Васильков–Белая Церковь–Елисаветград121; многие атаманы, вероятно, перешли к самостоятельным действиям.
Часть партизан успела эвакуироваться из Киева по железной дороге. Профессор Краинский вспоминал, что вместе с ним в поезде «ехали остатки какого-то малороссийского полка атамана Струка и полков[ника] Кейхеля»122. При этом бóльшая часть повстанцев отступала своим ходом. В начале декабря штаб Кейхеля некоторое время стоял в Преображенском скиту в селе Нещеров около местечка Обухов Киевского уезда. Затем, согласно сохранившимся оперативным приказам, ему надлежало следовать к деревне Тростинка, Струк находился где-то поблизости123. Впрочем, если верить боевому расписанию войск, 29 декабря Малороссийский отряд насчитывал всего 48 штыков124.
В своих воспоминаниях Струк рассказывал про то, как в семи верстах от Елисаветграда его бойцы наткнулись на разведку атамана А. А. Гулого-Гуленко, командовавшего повстанческими войсками Херсонщины и Екатеринославщины. Разведчики вступили в перестрелку, один струковец был ранен, но дело закончилось миром. Гулый-Гуленко прислал Струку бутыль самогона, перевязанную национальной лентой, а тот в ответ передал бутылку «николаевки» с печатью своего отряда на этикетке. В ходе переговоров каждый атаман звал другого присоединиться к себе, но ни один из них на это не согласился125. Вероятно, именно данный эпизод имел в виду бывший адъютант Петлюры А. С. Доценко, по словам которого, деникинцы, узнав, что около Елисаветграда расположились украинские повстанцы, начали с ними переговоры через «отаманчика-зрадника» Струка, но ничего не добились126. Впрочем, трудно сказать, каким собственно мог быть их результат, если в то время Гулый-Гуленко, формально оставаясь под украинскими знамёнами, фактически сотрудничал с красными, а Струк сохранял верность белым.
28 декабря Струк с отрядом отправился из Елисаветграда на станцию Помошная, а оттуда – через Вознесенск в Одессу, куда прибыл 15 января 1920 г.127 Во время отступления белые несколько раз принимали проходивших мимо петлюровцев за «своих» струковцев, и это позволяло им избегать столкновения. Так, например, в ночь на 11 января 1920 г. части УНР, совершавшие свой «Первый зимний поход», оказались одновременно с добровольцами у железнодорожного переезда в пяти верстах от местечка Малая Виска Елисаветградского уезда Херсонской губ. Добровольцы-драгуны помогли возницам перебраться через переезд, и только когда колонна уже почти прошла мимо них, спросили у сидевших на последней телеге, полагая, что там найдётся кто-то из начальников: «Господин полковник, какая это часть?». Им ответили: «Спросите, пожалуйста, впереди». Один из белых пошёл вперёд, где замёрзший, занятый своими делами казак сказал лишь: «Запорожцы» (т. е. Запорожская дивизия армии УНР). Драгун решил, что «это атаман Струк», и отъехал128. Утром того же дня другой отряд запорожцев на марше в районе сёл Семенастое и Семёновка Елисаветградского уезда встретил кавалеристов-дроздовцев. Когда колонны разминулись, к украинскому полковнику И. К. Дубовому приблизился офицер-ординарец, которому в штабе поручили узнать, не малороссийский ли это полк? Получив утвердительный ответ, он вернулся к своим. Впоследствии дроздовцы, кажется, поняли, что их обманули, и выслали в погоню кавалерийский отряд, но рельеф местности и наступившая ночь помогли запорожцам избежать преследования и продолжить свой марш129. Судя по этим историям, струковцы внешне напоминали скорее не белогвардейские, а петлюровские части.
За несколько дней до Струка в Одессу приехал и Кейхель, раненый в одном из боёв в руку. Газета «Единая Русь» по-прежнему называла его командиром малороссийских партизан, а Струка – командиром батальона130. Однако Кейхель, возможно, из-за ранения, активного участия в дальнейшей судьбе отряда уже не принимал. В 1920 г. он эмигрировал в Германию и обосновался в Берлине, где вращался в кругах русской и украинской эмиграции правого толка, впутываясь во всевозможные интриги. Так, вместе с бывшим гетманским министром путей сообщения Б. А. Бутенко и экс-секретарём П.П. Скоропадского И. В. Полтавцем-Остряницей он работал на Вильгельма Габсбурга (Василя Вышиваного), одного из претендентов на гипотетический украинский престол, поддерживал связь с генералом от кавалерии В. В. Бискупским131, играл роль посредника между Полтавцем-Остряницей и советником А. Гитлера по внешней политике М.Э. фон Шойбнер-Рихтером132. Кроме того, Кейхель оказывал различные услуги. «Во время эмиграции, будучи в Берлине, – вспоминал Шульгин, – он занимался всякими делами в качестве некоего правозаступника. Он, например, выхлопотал нам (Василию Витальевичу и его будущей второй жене М. Д. Седельниковой. – А.Ч.) визу в Германию за скромное вознаграждение в несколько долларов. В то время в Берлине люди платили необычайно большие и всевозможные налоги. Полковник Кейхель находил способы, чтобы снизить эти налоги до возможного предела»133. Впоследствии он перебрался в Париж, где 11 ноября 1924 г. скончался «после непродолжительной тяжкой болезни»134.
К январю 1920 г. партизаны лишились и других командиров: Собоцкого белые расстреляли во время отступления из Киева (по слухам, за мародёрство). Фишер, произведённый в полковники или объявивший себя таковым, занялся формированием своего собственного Первого офицерского добровольческого полка Новороссии135. Фактически на этом история Малороссийского отряда закончилась. Струк, вокруг которого остались члены его банды, вскоре создал новый Крестьянский отряд, насчитывавший к моменту оставления Одессы до 3 тыс. человек136. Савенко в своих «Записках» признал, что атаман «пользовался симпатиями», и к нему «пошёл кой-кто из наших» (т. е. из правых), в том числе уманский протоиерей Александр Никольский137, до революции состоявший членом Всероссийского Дубровинского Союза русского народа138.
Поручик армии УНР В. Быбик, занимавшийся в Одессе конспиративной работой, решил познакомиться с отрядом Струка, который размещался в казармах бывшего 14-го стрелкового полка на Канатной улице. «Как я обнаружил, – докладывал петлюровец, – этот отдел состоял из повстанцев преимущественно с Киевщины, в особенности с Киева, среди которых очень много было бывших полицейских и жандармских чинов… Обращения, призывы к населению и т. п. Струк объявлял на двух языках – русском и украинском, но в разговорах с ним я убедился, что он малосознательный “малоросс” и больше интересуется пьянством, чем всем другим, лишь хвастаясь, что он везде имеет связи, даже в украинских военных правительственных кругах»139. После ряда грабежей140, 25 января Крестьянский отряд направился к румынской границе, но через несколько дней был разбит и рассеян красными под Маяками. По свидетельству тюремного инспектора Д. В. Краинского, «при первом выстреле струковцы разбежались», бóльшая часть их «передалась большевикам», а «часть бросилась на румынскую территорию» и перешла через Днестр141. Самому Струку и небольшой группе его людей удалось ускользнуть, перейти границу и впоследствии вернуться на Киевщину, где он продолжал партизанить, сотрудничая то с поляками, то с петлюровцами, то с савинковцами, а летом 1922 г. внезапно исчез при загадочных обстоятельствах – то ли пал в бою с красными, то ли погиб от рук кого-то из своего окружения142.
Историю Струка, конечно, нельзя назвать абсолютно типичной – среди всех украинских атаманов он, судя по его многочисленным изменам, был, наверное, самым беспринципным. Но, с другой стороны, ему удавалось сохранять ядро своей банды и определённую поддержку в крестьянской среде, чью бы сторону он ни занимал.
Попытка отдельных представителей Белого движения найти опору в деревне, привлекая к себе повстанцев, объединённых в «малороссийский отряд», не привела к желаемому результату. Та анархическая стихия, крестьянская «атамания», которая жила по своим собственным законам и лишь по необходимости поднимала какой-либо флаг – «жовто-блакитный», красный или трёхцветный – оказалась неподвластна генералам и пропагандистам. Серьёзной помощи ВСЮР партизаны оказать не смогли. Вероятно, от них мог бы быть прок, если бы они действовали в красном тылу. Однако поднять масштабное восстание им не удалось, а их нахождение на контролируемой белыми территории приводило к серьёзным издержкам и конфликтам с местным населением. Использовать их в пропаганде также не получалось – слишком уж очевидно было то, что это лишь несколько банд, ситуативно примкнувших к побеждавшей, как тогда казалось, армии. К тому же, партизаны заметно подрывали и так невысокий авторитет армии среди горожан, особенно в еврейской среде. Смена вывески – «Малороссийский партизанский отряд» вместо «Революционного отряда партизан имени Петлюры» – не изменила сути данного формирования. Чуда не произошло, и повстанцы, переименованные из «украинцев» в «малороссов», оставались, несмотря на относительно неплохие боевые качества (по крайней мере, в киевский период существования отряда), теми же грабителями и погромщиками, каковыми они являлись и прежде.
1 © 2024 г. А. А. Чемакин
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 23-28-00071, https://rscf.ru/project/23-28-00071/
Все даты в статье даны по юлианскому календарю.
2 Атаман Струк в Киеве // Вечерние огни. 1919. 11 сентября. № 21. С. 2.
3 Атаман-полковник Струк // Русь. 1919. 11 сентября. № 26. С. 2; Атаман Струк // Киевлянин. 1919. 12 сентября. № 19. С. 2.
4 Погромы на Украине // Киевская жизнь. 1919. 7 сентября. № 11. С. 1.
5 Письмо атамана Струка // Киевлянин. 1919. 19 сентября. № 24. С. 2.
6 Штиф Н. И. Погромы на Украине (Период Добровольческой армии). Берлин, 1922. С. 56.
7 Тинченко Я. Ю. Белая гвардия Михаила Булгакова. Киев; Львов, 1997. С. 21.
8 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство, источники комплектования, социальный состав. 1917–1920 гг. М., 2012. С. 375.
9 Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії. Київ, 1998. С. 385–393.
10 Текст воспоминаний Струка см.: Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далее – ЦДАВО України), ф. 3504, оп. 1, д. 2, л. 31–66.
11 Савченко В. А. Авантюристы гражданской войны. Историческое расследование. Харьков; М., 2000. С. 247–248.
12 ЦДАВО України, ф. 3504, оп. 1, д. 2, л. 34–35 об.
13 Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки, ф. 263, оп. 1, д. 69671, т. 1, л. 135.
14 ЦДАВО України, ф. 3504, оп. 1, д. 2, л. 35 об.–40.
15 S. Памяти I. Струка // Трудова громада. 1919. 17 серпня. № 40. С. 6.
16 Партизаны // Вечерние огни. 1919. 13 сентября. № 23. С. 2.
17 Державний архів Київської області (далее – ДА КО), ф. 3050, оп. 1, д. 162, л. 22–22 об. Автор выражает признательность С. В. Машкевичу за возможность ознакомиться с данными материалами.
18 Там же, л. 26 об.
19 Там же, л. 28 об.
20 ЦДАВО України, ф. 3204, оп. 1, д. 17, л. 1 об.
21 Гусев-Оренбургский С. Книга о еврейских погромах на Украине в 1919 г. Пг., [1923]. С. 55–62.
22 ЦДАВО України, ф. 1845, оп. 1, д. 1, л. 27.
23 Там же, ф. 1122, оп. 2, д. 3, л. 9–9 об., 14–15.
24 Довольно церемониться! // Большевик. 1919. 11 апреля. № 2. С. 1.
25 Голиченко В. Д. Вартовi революцiї. Київ, 1966. С. 32.
26 Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю… С. 383–384.
27 ЦДАВО України, ф. 3504, оп. 1, д. 2, л. 42–43.
28 Год партизанщины (беседа с атаманом Струком) // Киевское эхо. 1919. 19 сентября. № 24. С. 2.
29 РГВИА, ф. 400, оп. 15, д. 4045, л. 1–61.
30 ДА КО, ф. Р-2797, оп. 1, д. 35, л. 1.
31 Драбкина С. М. Крах продовольственной политики германских империалистов на Украине (февраль–июль 1918 года) // Исторические записки Института истории АН СССР. Т. 28. М., 1949. С. 88.
32 Кучабський В. Корпус січових стрільців: воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання 1917–1967. Чікаґо, 1969. С. 149, 152.
33 ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 53, л. 1.
34 ЦДАВО України, ф. 1845, оп. 1, д. 1, л. 40.
35 Там же, л. 59.
36 ДА КО, ф. 3050, оп. 1, д. 162, л. 31.
37 Державна наукова архівна бібліотека, фонд «Україника», № 13223сл, листовка «К рабочим города Киева».
38 ДА КО, ф. 3050, оп. 1, д. 162, л. 27.
39 Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и Европейской части России в период Гражданской войны. 1918–1922 гг. Сборник документов / Отв. ред. Л. Б. Милякова. М., 2007. С. 94–98.
40 РГВА, ф. 25860, оп. 1, д. 206, л. 215 об., 228.
41 ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 53, л. 1 об.
42 Там же, л. 2.
43 «…Я иду с тем, что придёт». Рассказ В. В. Шульгина о жизни в эмиграции / Публ. Д. Б. Спорова // Диаспора. Новые материалы. Т. IX. 2007. С. 464.
44 ЦДАВО України, ф. 3504, оп. 1, д. 2, л. 43–45.
45 Партизаны Струка // Киевское эхо. 1919. 14 сентября. № 21. С. 2.
46 YIVO Institute for Jewish Research (далее – YIVO), RG 80, folder 31, p. 2855–2866; folder 82, p. 6039–6040; folder 211, p. 19208–19208 back.
47 ГА РФ, ф. Р-5881, оп. 2, д. 492, л. 7.
48 Атаман Струк // Вечерние огни. 1919. 9 сентября. № 19. С. 3.
49 ГА РФ, ф. Р-5881, оп. 1, д. 492, л. 7.
50 Там же, оп. 2, д. 724, л. 28.
51 Год партизанщины (беседа с атаманом Струком) // Киевское эхо. 1919. 19 сентября. № 24. С. 2.
52 Шульгин В. 1920 г. Очерки. София, 1921. С. 41.
53 Партизаны Струка // Киевское эхо. 1919. 14 сентября. № 21. С. 2.
54 ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 53, л. 2 об.
55 ЦДАВО України, ф. 3504, оп. 1, д. 2, л. 46.
56 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далее – ГДА СБУ), ф. 5, оп. 1, д. 9334, т. 1, л. 33.
57 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 5. Вооружённые силы Юга России. Берлин, 1926. С. 134.
58 ГА РФ, ф. Р-5881, оп. 2, д. 724, л. 33.
59 Партизаны // Вечерние огни. 1919. 13 сентября. № 23. С. 2.
60 1-й Малороссийский добровольческий отряд // Екатеринославский вестник. 1919. 19 сентября. № 104. С. 1.
61 Там же.
62 ГА РФ, ф. Р-6217, оп. 1, д. 87, л. 6.
63 РГВА, ф. 39668, оп. 1, д. 15, л. 77 об.
64 Там же, ф. 1417, оп. 1, д. 168, л. 147 об.
65 Там же, ф. 1489, оп. 3, д. 1, л. 1 об.
66 Малороссийские партизаны // Киевская Русь. 1919. 25 ноября. № 5. С. 1; ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 53, л. 2; РГВА, ф. 39668, оп. 1, д. 15, л. 77 об.
67 РГВА, ф. 39666, оп. 1, д. 43, л. 144а–144а об.
68 Партизаны капитана Фишера // Молва. 1919. 18 октября. № 6. С. 4.
69 Hoover Institution Archives (далее – HIA), P. N. Vrangel’ Collection, box 101, folder 3, p. 169 back.
70 Партизаны Струка // Киевское эхо. 1919. 14 сентября. № 21. С. 2.
71 HIA, P. N. Vrangel’ Collection, box 101, folder 3, p. 181–181 back; РГВИА, картотека бюро учёта потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 7533-Ф, карточка на Фишера М. В.; ЦГА СПб, ф. Р-1116, оп. 1–2, д. 6274, л. 1–1 об.
72 HIA, P. N. Vrangel’ Collection, box 101, folder 3, p. 181 back.
73 ГДА СБУ, ф. 5, оп. 1, д. 10701, т. 2, л. 108 об.
74 Атаман Струк // Вечерние огни. 1919. 9 сентября. № 19. С. 3.
75 Малороссийские партизаны // Киевская Русь. 1919. 25 ноября. № 5. С. 1. Также см.: The National Library of Israel, the Central Archives for the History of the Jewish People, Elias Tcherikover Private Collection, P10a-451.
76 Шехтман И. Б. История погромного движения на Украине 1917–1921 гг. Т. 2. Погромы Добровольческой армии на Украине. Берлин, 1932. С. 182; YIVO, RG 80, folder 63, p. 4829 back–4830.
77 Малороссы // Киевлянин. 1919. 26 ноября. № 77. С. 1.
78 Ольгин [Грушевский С. Г.]. Малороссийское партизанство // Киевлянин. 1919. 9 ноября. № 64. С. 1.
79 РГВА, ф. 39668, оп. 1, д. 15, л. 77 об.
80 Книга погромов… С. 276–277.
81 YIVO, RG 80, folder 231, p. 21371–21372.
82 Ibid., folder 214, p. 19447–19448.
83 РГВА, ф. 39668, оп. 1, д. 15, л. 77 об.
84 Там же, ф. 39694, оп. 1, д. 62, л. 26.
85 Шульгин В. В. Тени, которые проходят / Сост. Р. Г. Красюков. СПб., 2012. С. 254.
86 ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 53, л. 2–2 об.
87 РГВА, ф. 39694, оп. 1, д. 68, л. 34.
88 Согласно «Истории городов и сёл Украинской ССР», в Горностайполе в сентябре–декабре 1919 г. «хозяйничали деникинцы» (Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Київська область. Київ, 1971. С. 719), однако на самом деле белые это местечко никогда не занимали.
89 РГА ВМФ, ф. Р-139, оп. 1, д. 60, л. 24–25.
90 Краинский Н. В. Фильм русской революции в психологической обработке. Белград, б. г. С. 249–250, 255, 261, 268.
91 Корсак В. [Завадский В. В.] У белых. Париж, 1931. С. 75.
92 ЦДАВО України, ф. 3504, оп. 1, д. 2, л. 45–46.
93 Атаман Струк // Молва. 1919. 18 октября. № 6. С. 4.
94 Т-нъ Н. Киевское действо // Вечернее время. 1919. 15 октября. № 387. С. 4.
95 Неделин Г. Грустная ошибка // Народная газета. 1919. 26 октября. № 18. С. 2.
96 Очищение Киева // Вечерние огни. 1919. 5 октября. № 39. С. 1.
97 Партизаны капитана Фишера. С. 4.
98 Шехтман И. Б. История погромного движения на Украине 1917–1921 гг. Т. 2. С. 183–184.
99 Книга погромов… С. 314.
100 Там же. С. 312.
101 YIVO, RG 80, folder 213, p. 19319–19319 back.
102 Ibid., folder 65, p. 5247–5253, 5255, 5256.
103 Ibid., folder 211, p. 19199–19200.
104 ГА РФ, ф. Р-5881, оп. 2, д. 492, л. 11.
105 Там же, ф. Р-5853, оп. 1, д. 1, л. 98.
106 Там же, ф. Р-5881, оп. 2, д. 492, л. 11–12.
107 Там же, ф. Р-4850, оп. 1, д. 1, л. 27, 32.
108 ЦДАВО України, ф. 3204, оп. 1, д. 17, л. 1 об.
109 РГА ВМФ, ф. Р-139, оп. 1, д. 4, л. 55.
110 РГВА, ф. 1489, оп. 1, д. 43, л. 21.
111 Сємков Н. К. Бойові дії білоруських курсантів на Україні // Український історичний журнал. 1967. № 12. С. 86.
112 РГА ВМФ, ф. Р-139, оп. 1, д. 31, л. 3.
113 Там же, л. 4.
114 ГА РФ, ф. Р-5881, оп. 2, д. 492, л. 11–12.
115 Там же, д. 724, л. 28.
116 РГВА, ф. 39666, оп. 1, д. 43, л. 136.
117 ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 53, л. 1, 2 об .– 4.
118 РГВА, ф. 39666, оп. 1, д. 43, л. 161–161 об.
119 ГА РФ, ф. Р-5881, оп. 2, д. 492, л. 7 об-8.
120 Корсак В. [Завадский В. В.] Указ. соч. С. 160.
121 ЦДАВО України, ф. 3504, оп. 1, д. 2, л. 46 об.
122 Краинский Н. В. Указ. соч. С. 322.
123 РГВА, ф. 39666, оп. 1, д. 72, л. 7, 8 об, 24, 26.
124 ГА РФ, ф. Р-6217, оп. 1, д. 87, л. 8.
125 ЦДАВО України, ф. 3504, оп. 1, д. 2, л. 46 об-47.
126 Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919–6.V.1920). Варшава, 1932. С. CXXXVIII.
127 ЦДАВО України, ф. 3504, оп. 1, д. 2, л. 47 об.
128 Омелянович-Павленко М. Зимовий похiд (6.XII.1919–6.V.1920 рр.) // У 50-річчя Зимового походу Армії УНР. N.Y., 1973. С. 90–91.
129 Омелянович-Павленко М. Зимовий похiд (6.XII.1919–6.V.1920 рр.). Ч. II // За державність. Матеріяли до історії українського війська. Збiрник 2. Калiш, 1930. С. 39.
130 Прибытие командира партизан // Единая Русь. 1920. 15 января. № 125. С. 3.
131 VIATOR. Берлинськi новинки // Українська трибуна. 1921. 30 жовтня. № 149. С. 2.
132 Осташко Т. С. Український козацький рух в еміграції (1919–1939) // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер. Історія, економіка, філософія. Вип. 4 (Український консервативний і гетьманський рух: Історія, ідеологія, політика). Киïв, 2000. С. 287.
133 Шульгин В. В. Тени, которые проходят. С. 254.
134 [Некролог] // Вечернее время. 1924. 15 ноября. № 172. С. 1.
135 HIA, P. N. Vrangel’ Collection, box 101, folder 3, p. 169 back, 181.
136 Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора / Сост., пред., примеч. О. В. Григорьева, И. К. Корсаковой, С. В. Мущенко, С. Г. Шевченко. М., 2016. С. 331.
137 Якубовский С. Крушение. Из неопубликованных «Записок» Анатолия Савенко 1919–20 г. // Вечерний Киев. 1927. 5 марта. № 5. С. 2.
138 ДА КО, ф. 1716, оп. 1, д. 71, л. 31.
139 ЦДАВО України, ф. 4011, оп. 2, д. 5, л. 66.
140 YIVO, RG 80, folder 209, p. 18688–18688 back.
141 Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора. С. 299.
142 ЦДАВО України, ф. 1078, оп. 2, д. 207, л. 43–48.
About the authors
Anton Chemakin
Saint Petersburg State University, Institute of History
Author for correspondence.
Email: info@rcsi.science
кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
Supplementary files