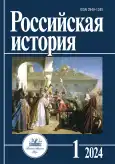Soviet criminal legislation on labor crimes and special features of its enforcement (1940–1956)
- Authors: Khatanzeiskaia E.1
-
Affiliations:
- HSE University
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 161-183
- Section: History of power
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/257089
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24010122
- EDN: https://elibrary.ru/CGKZWH
- ID: 257089
Cite item
Full Text
Full Text
Криминализация обычных для советской действительности нарушений трудовой дисциплины в начальный период Второй мировой войны – важный индикатор общей тенденции ужесточения общественного порядка и последняя стадия срочной мобилизации всех ресурсов общества. Историография «трудовых преступлений», как следствие, достаточно велика, и в ней можно выделить две крупные традиции. Одна представляет собой попытку оправдания ужесточения законодательства тяготами предвоенного и военного времени1. Другая стремится разобраться в механизме действий репрессивной машины, обоснованности применения столь жёстких мер по отношению к рабочим и служащим военной промышленности и приравненных к ней отраслей народного хозяйства, эффективности карательной политики и её масштабах2. Как отмечает О. В. Хлевнюк, после провала «индустриального рывка» стало очевидно, что рабочую силу, в особенности квалифицированные кадры, необходимо закреплять за предприятиями. В отсутствие материальных стимулов единственным выходом оказалось усиление репрессий. При этом, «чтобы угроза репрессий действительно функционировала как стимулирование труда, необходимо было криминализировать труд, превратив в преступление любое нарушение дисциплины или самостоятельный выбор работы»3. А. Я. Кодинцев выявил, что в 1940-х гг. количество трудовых правонарушений только по указу 26 июня 1940 г. составило 50% от числа всех преступлений в СССР. Указ 26 декабря 1941 г. он назвал «провалом», который «стоил многих жертв, сопровождался массовыми издевательствами над невинными людьми, принёс материальные издержки, показал безграмотность руководства и не достиг ни одной из заявленных целей»4. Ю. Г. Белоногов подробно разобрал различные практики уклонения от труда, учёта правонарушений и исполнения судебных приговоров в годы войны и пришёл к выводу, что нарушение трудовой дисциплины оказалось для бедствующих людей средством выживания5.
Так или иначе все современные авторы данного направления отмечают жестокость указов о труде, широкие масштабы их игнорирования или «саботажа» на всех уровнях управления, начиная с директоров предприятий и заканчивая высшими инстанциями, прокуратурой и Министерством юстиции, а также то, что осуждённые по указам – не злостные или идейные нарушители, а простые люди, бежавшие от тяжёлых условий жизни и угрозы голодной смерти. Стоит также указать, что основное внимание историков и юристов приковано к военному периоду. В связи с этим в центре данного исследования – малоизученные аспекты функционирования уголовного трудового законодательства и дискуссии по вопросу его смягчения или отмены в послевоенный период.
Практика правоприменения указов 26 июня и 26 декабря в военное время
Указ президиума Верховного совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» предусматривал увеличение продолжительности рабочего дня с 7 до 8 часов на предприятиях с семичасовым рабочим днём, с 6 до 7 часов на предприятиях с шестичасовым днём, с 6 до 8 часов – для несовершеннолетних и для служащих учреждений. Рабочие и служащие всех государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений переводились с шестидневной на семидневную рабочую неделю. Запрещался самовольный уход рабочих и служащих с места работы, а также самовольный переход из одной организации в другую. Разрешить его могли только директор предприятия или начальник учреждения по причине болезни или инвалидности, невозможности предоставить работнику иную работу на данном предприятии/учреждении, выхода на пенсию, либо в связи с зачислением в высшее или среднее учебное заведение. В случае самовольного ухода сотруднику грозили народный суд и тюремное заключение сроком от двух до четырёх месяцев, а за прогул без уважительной причины – исправительно-трудовые работы по месту службы до шести месяцев с удержанием до 25% зарплаты6. В связи с этим отменялось увольнение за прогул без уважительных причин. Все дела должны были рассматриваться в пятидневный срок, а приговоры немедленно приводиться в исполнение. Директора предприятий и учреждений привлекались к судебной ответственности за неисполнение указа и уклонение от предания суду, а также за принятие на работу лиц, уклоняющихся от судебной ответственности за самовольный уход или прогул.
17 июля 1940 г. вышел указ «О запрещении самовольного ухода с работы трактористов и комбайнёров, работающих в машинотракторных станциях». Эта же мера была распространена на колхозников, строго регламентировался рабочий день в лёгкой промышленности (мастерских по пошиву одежды, ремонту обуви, химчисток, парикмахерских и др.)7. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 22 июля 1940 г. под действие указа от 26 июня 1940 г. попали предприятия промысловой (в том числе лесопромысловой) кооперации8. 17 июня на имя секретаря ЦК И. В. Сталина и председателя СНК СССР В. М. Молотова поступило письмо наркома юстиции Н. М. Рычкова и прокурора СССР М. И. Панкратьева с просьбой дать судебно-прокурорским органам указание привлекать к ответственности за прогулы лиц, совершивших 20-минутное опоздание на работу или ушедших на 20 минут раньше с работы или на обед. Для уже осуждённых за прогул, совершивших новый прогул без уважительной причины, предполагалось заменить неотбытый срок исправительно-трудовых работ тюремным заключением по приговору суда9.
Однако с первых дней начался саботаж. Из выписки протокола заседания июльского пленума ЦК ВКП(б) известно о секретной инструкции, которая обязала Наркомат юстиции (НКЮ) и лично Рычкова «ликвидировать волокиту по разбирательству дел прогульщиков и летунов, самовольно ушедших с предприятий и учреждений». Она запрещала вызов на судебные заседания по этим вопросам в рабочее время рабочих, служащих и администрации предприятий, а также показательные судебные процессы10. Однако эти меры не дали улучшения ни в трудовой дисциплине, ни в качестве производимой продукции. Постановление пленума от 31 июля 1940 г. «О контроле над проведением в жизнь Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.»11 отмечало, что «летуны и прогульщики», а также покрывавшие их директора предприятий и учреждений «оставались безнаказанными».
Репрессивное законодательство саботировалось на всех уровнях: наркоматы не осуществляли практического руководства его реализацией на подведомственных предприятиях и учреждениях, ограничиваясь изданием формальных приказов, опаздывали в решении административно-хозяйственных вопросов. Директора предприятий и начальники учреждений устранились от выполнения указа, возложив задачу привлечения «летунов и прогульщиков» к ответственности на отделы кадров. Последние либо не передавали дела о прогульщиках в суд, либо делали это с большим опозданием. Распространилась практика предоставления работникам кратковременных, двух-трёхдневных отпусков за свой счёт, что в руководстве страны расценили как «форм[у] узаконения прогулов и укрывательства прогульщиков от суда». Прокуратура исполнение указа не контролировала (Панкратьев был вскоре отстранён от должности именно как «не справившийся с воплощением в жизнь Указа»). Народные суды подолгу «мариновали» дела, вынося «общественное порицание, условное наказание», на их заседания в качестве свидетелей защиты по-прежнему вызывались другие работники и представители администрации предприятий и учреждений, развилась практика показательных судов. Кроме того, приговоры не приводились в исполнение немедленно.
Как следствие, 10 августа вышел указ президиума Верховного совета СССР «О рассмотрении народными судами дел о прогулах и самовольном уходе с предприятий и учреждений без участия народных заседателей». Отныне народные судьи должны были рассматривать эти дела единолично12. 21 августа СНК СССР выпустил постановление «О порядке направления в суд дел о преступлениях, предусмотренных Указом от 26 июня 1940 г., и исполнения приговора по этим судам», согласно которому директора предприятий и учреждений обязывались направлять материалы о прогульщиках в суд не позднее следующего дня после установления факта. В качестве доказательства вины представлялись выписка из приказа, устанавливающего факт прогула или самовольного ухода, справки о прежних дисциплинарных взысканиях и о месте жительства. Вместе с местом работы человек терял и жильё. В случае увольнения осуждённого требовалось немедленно сообщить об этом инспекции исправительно-трудовых работ для дальнейшего исполнения приговора по месту нового трудоустройства, а при его отсутствии – на общих основаниях. За нарушение постановления руководители предприятий и учреждений привлекались к судебной ответственности13.
15 ноября 1940 г. новый прокурор СССР В. М. Бочков представил на имя Сталина, Молотова и секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова докладную записку об исполнении указа, согласно которой в суды поступили материалы на 1 973 122 человек, из них осудили 1 577 459, в том числе за прогул – 1 321 740, самовольный уход с работы – 234 579, покровительство прогульщикам – 6 032. В одном только Ленинграде за август вынесли 64 509 приговоров, в народные суды Москвы поступило 61 932 дела14. В документе отразились две тенденции: увеличение количества оправдательных приговоров и сроков тюремного заключения. Если в августе к заключению на два месяца приговорили 62% обвиняемых, а от двух до четырёх месяцев – 38%, то в ноябре – соответственно 13,5 и 86,5%. К исправительно-трудовым работам на срок до трёх месяцев в августе приговорили 61,5% осуждённых за прогул, а от трёх до шести месяцев – 38,5%. К середине ноября пропорция изменилась – 22,5 и 77,5%15.
Практика судопроизводства, которую удалось отследить в течение действия указа 26 июня, продемонстрировала устойчивую тенденцию к ужесточению наказаний. 25 декабря 1941 г. в ЦК ВКП(б) поступила записка о распространении указа на учащихся, находившихся на производственной практике. Мотивировалась просьба тем, что на многих заводах военной промышленности в порядке прохождения практики работало значительное – до 30–40% общего количества трудящихся – число учеников ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО)16. Предложение было поддержано.
26 декабря вышел указ президиума Верховного совета СССР «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» (далее – указ 26 декабря), принятие которого инициировал Рычков. Отныне все рабочие и служащие мужского и женского пола предприятий военной промышленности (авиационной, танковой, вооружения, боеприпасов, военного судостроения, военной химии), в том числе эвакуированных, а также занятые в отраслях, обслуживавших военную промышленность по принципу кооперации, считались на период войны мобилизованными и закреплялись на местах своей работы. Самовольный уход с работы рассматривался как дезертирство и карался тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет. Дела о самовольном уходе рассматривались военными трибуналами17.
3 января 1942 г. вышло секретное постановление СНК СССР «О порядке направления в военные трибуналы дел о преступлениях, предусмотренных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г.». Оно обязало директоров предприятий военной промышленности направлять материалы о самовольно ушедших с работы военному прокурору, а в случае его отсутствия – городскому или районному прокурору по месту нахождения предприятия, не позднее следующего дня после установления факта «дезертирства». Органы прокуратуры в свою очередь должны были немедленно направлять эти материалы в ближайший военный трибунал с постановлением о привлечении обвиняемого к ответственности и избрании меры пресечения. Материалы включали в себя выписку из приказа о факте дезертирства с документами, служащими основанием для его издания, личные документы обвиняемого (паспорт, военный билет и др.), хранящиеся в сейфе администрации, справку о дисциплинарных взысканиях (в том случае, если обвиняемый ранее привлекался к ответственности). Военным трибуналам дела о дезертирствах такого рода следовало рассматривать безотлагательно18.
11 июня 1942 г. указ 26 декабря распространили на предприятия угольной и нефтяной промышленности, 24 августа – на рабочих и служащих железных дорог и предприятий Наркомата путей сообщения, 2 октября – чёрной металлургии, 7 октября – наркоматов речного и морского флота, 10 октября – Наркомата текстильной промышленности, 31 декабря – Главного управления медеплавильной и меднорудной промышленности (Главмедь) Наркомата цветной металлургии СССР19. Кроме того, 14 ноября под действие указа попал вольнонаёмный состав исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР20; в тот же день вводилась уголовная ответственность для всех мобилизованных в рабочие колонны за неявку по мобилизации на призывной пункт, самовольное оставление работы и дезертирство21. К тому времени союзный СНК уже разрешил направлять осуждённых к тюремному заключению по указу 26 декабря для отбытия наказания в лагеря и колонии (секретное постановление об этом, вышедшее 11 марта, подписали Сталин и управляющий делами СНК Я. Е. Чадаев22), а 13 сентября вышел секретный приказ Государственного комитета обороны (ГКО) «О неотложных мерах по увеличению добычи угля в Карагандинском угольном бассейне», поручивший НКВД направлять рабочих и служащих, осуждённых по указу 26 декабря, на специально выделенную для этого угольную шахту (аналогичное решение приняли в отношении Кизеловского бассейна)23.
10 апреля 1942 г. заместитель председателя СНК СССР А. Я. Вышинский направил Сталину письмо, в котором поставил вопрос о том, как квалифицировать «самовольный уход с предприятий военной промышленности учеников-подростков в возрасте моложе 16 лет». Правовое положение несовершеннолетних отличалось от взрослых рабочих: они не могли самостоятельно выполнять определённые виды работ высокой квалификации, для них были установлены иная продолжительность рабочего времени и нормы оплаты труда24. К письму прилагался проект постановления, согласованный с Бочковым и председателем Верховного суда И. Т. Голяковым. 31 июля он был оформлен в виде секретного постановления СНК «Об ответственности за самовольный уход с предприятий военной промышленности учеников-подростков в возрасте моложе 16 лет»: подростки приравнивались к учащимся школ ФЗО и ремесленных училищ, и их следовало подвергать «заключению в трудовые колонии сроком до 1 года»25.
Несмотря на поток решений и законодательных актов, саботаж указа продолжался на всех уровнях, что явствует из записки заместителя председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) М. Ф. Шкирятова от 3 марта 1943 г. «О проверке проведения в жизнь Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г.». Ещё 3 января 1942 г. СНК СССР принял постановление о срочном рассмотрении дел о нарушениях указа, обязавшее директоров предприятий направлять материалы о дезертирстве с производства не позднее следующего дня после установления факта самовольного ухода. Во исполнение этого постановления 28 октября 1942 г. вышел совместный приказ НКВД, НКЮ и прокуратуры СССР «О порядке розыска и исполнения заочных приговоров в отношении рабочих и служащих, дезертировавших с предприятий военной промышленности». Эти задачи возлагались на органы милиции, которые «в случае, если обвиняемый не будет обнаружен через пять дней после получения постановления прокуратуры, дают об этом справку прокурору, на основании чего последний передаёт дело в военный трибунал для заочного рассмотрения»26.
Всего в течение 1942 г. в военные трибуналы поступило 150 028 дел, по которым осудили 120 307 человек. Причём к концу года количество осуждённых резко возросло: если в первом полугодии в среднем в месяц выносились приговоры в отношении 2 652 человек, то только в декабре – 29 508. Все эти дела в подавляющем большинстве рассматривались заочно, но в связи с тем, что до суда дезертиры не разыскивались, приговоры оставались на бумаге, а «дезертиры продолжали разъезжать с одного предприятия на другое»27. Так, военные трибуналы Уральского военного округа рассмотрели дела на 35 120 человек (из них 22 104 – заочно). Из числа заочно осуждённых удалось разыскать 1 422 (5,1%). Трибуналы Приволжского военного округа рассмотрели 17 854 дела, в том числе заочно – 12 004, однако нашли лишь 646 обвиняемых (5,3%). Трибуналы войск НКВД осудили 78 406 человек, среди которых заочно – 44 430 (обнаружены лишь 2 779 – 6,2%). Подходя к делу столь формально, директора предприятий, органы прокуратуры и милиции фактически саботировали приказ.
Часто дела оформлялись несвоевременно. Табельный и адресный учёт рабочих на предприятиях находился в «запущенном состоянии»: почти не проверялись причины их отсутствия, а к суду привлекались ушедшие в армию или находившиеся в больнице. Так, из 734 дел, переданных в прокуратуру дирекцией автомобильного завода № 406 (Горьковская обл.), 137 пришлось прекратить за необоснованностью обвинений: в 10 случаях за дезертиров приняли больных, 18 человек находились в армии, 8 – учились в высших и средних учебных заведениях, 53 дела прекратили из-за тяжёлых бытовых условий рабочих (они жили прямо в цехах, не имели одежды и обуви и т. д.). На заводе «Уралмаш» за четыре месяца 1942 г. самовольно оставили производство 1 172 человека, из них осудили всего 448. На заводе им. Кирова (Челябинская обл.) по той же причине самовольно оставили работу 6 108 человек28. Среди осуждённых значительное количество составляли рабочие из ремесленных училищ и школ ФЗО. В общежитиях, где они проживали, было грязно, сыро, холодно; в бараках – сквозные щели и лёд; отсутствовали элементарные удобства. Скудный заработок и мизерные нормы снабжения не могли покрыть элементарных потребностей в питании. Побег в таких условиях становился понятным и во многом неизбежным решением.
Несмотря на очевидность причин роста дезертирства, Шкирятов предложил в дополнение к постановлению СНК от 3 января 1942 г. обязать директоров устанавливать местонахождение лиц, оставивших работу, и не позднее следующего дня сообщать точный адрес обвиняемых, а начальников управления милиции – лично контролировать розыск дезертиров. Кроме того, он считал необходимым ввести для директоров предприятий и их заместителей по кадрам уголовную ответственность в случае передачи дел для необоснованного привлечения рабочих и служащих к ответственности29. Конечно, эти требования были невыполнимы. В свою очередь Бочков предложил передать право наказывать работников директорам предприятий и учреждений, отметив, что уголовное преследование никак не влияет на улучшение дисциплины, а лишь увеличивает процент осуждённых на производстве. Так, с 1 января 1942 г. по 20 марта 1943 г. на заводе № 2 Наркомата вооружения осудили за прогулы 8 102 человек (26,3% списочного состава рабочих); на заводе № 183 Наркомата танковой промышленности – 6 965 (21,9%); на заводе № 63 Наркомата боеприпасов – 40,7% рабочих30. В постановлении ГКО от 8 июля 1943 г. «О плане производства боеприпасов в третьем квартале 1943 г.» отмечалось, что на заводах «невыходы на работу» составили более 12%31.
Указ 26 декабря тем временем распространялся на всё новые и новые учреждения и отрасли. Так, 16 октября 1943 г. под его действие попал Уральский турбинный завод им. Кирова, 17 октября – заводы и организации Наркомата электропромышленности, 6 ноября – Михайловский содовый комбинат, 3 февраля 1944 г. – предприятия Наркомата тяжёлой промышленности, 15 марта – лесохимические производства Наркомата лесной промышленности и ацетоно-бутаноловые заводы Наркомата пищевой промышленности, 31 октября – Подольский завод «Красный котельщик», 3 марта 1945 г. – Перовский машиностроительный завод Наркомата тяжёлого машиностроения, 29 марта – Храмская ГЭС Грузинской ССР, 19 апреля – вольнонаёмный состав авторемонтных мастерских Главного автомобильного управления РККА32.
Но состояние трудовой дисциплины оставалось неудовлетворительным, что зафиксировало постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1944 г. «Об устранении недостатков в практике применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г.». Из него следует, что органы прокуратуры не обеспечили исполнения указа, а также постановления СНК от 3 января 1942 г., ограничившись канцелярской проверкой материалов, поступавших с предприятий. Ввиду своей массовости дела направлялись в военные трибуналы без расследования. Прокуратура самоустранилась от поиска дезертиров. Органы милиции, перегруженные другой работой, производили розыск крайне неудовлетворительно: обнаруживались лишь немногие бежавшие, дела в большинстве случаев приходилось рассматривать заочно. Руководители предприятий и учреждений принимали дезертиров на работу, а прокуратура не выполняла требования о привлечении таких укрывателей к ответственности. Постановление указало передавать дела в военные трибуналы после розыска обвиняемых, расследование заканчивать в трёхдневный срок, прекратить заочное рассмотрение дел; обязало НКЮ организовать военные трибуналы в крупных промышленных районах, а НКВД – провести розыск беглецов. Приказ НКВД от 28 октября 1942 г. отменялся, отныне жестокие санкции накладывались и на «укрывателей дезертиров»33.
Органы милиции стали уделять беглецам с производства более пристальное внимание, и число осуждённых очно возросло34. Однако эта кампания длилась недолго. Уже 1 августа 1945 г. вышло новое постановление СНК «Об устранении недостатков в практике применения Указа от 26 декабря 1941 г.», в котором говорилось: «Прекратить заочное рассмотрение народными судами дел о дезертирстве, приостанавливать дела в случае нерозыска обвиняемых, народный суд обязан вынести определение о розыске обвиняемого органам милиции»35. Впрочем, такого рода требования повторялись ежегодно и уже стали дежурными.
Таким образом, в течение войны действие указа 26 декабря распространилось на все предприятия и учреждения военной и смежных отраслей, а также на подавляющее большинство предприятий косвенно связанных с военным производством. Под его действие попали даже лагеря и колонии. Однако сложность проведения его положений в жизнь в условиях военного времени обусловила колоссальные масштабы саботажа. Решения высших органов власти «об устранении недостатков», а также увеличение числа очных приговоров почти не повлияли на ситуацию.
Стратегии саботажа уголовного трудового законодательства
С самого начала «указы о дезертирах» саботировали все: директора предприятий и учреждений, отделы кадров, судебно-следственные и надзорные органы и проч. Поэтому контроль за их исполнением требовал от государственного аппарата огромных усилий. Так, в октябре 1942 г. комиссия Наркомата государственного контроля СССР проверила работу НКЮ и прокуратуры по исполнению уголовного трудового законодательства. Было установлено, что дела, заведённые по факту нарушения указа 26 июня, составили около 60% общего количества дел, поступивших в народные суды страны. Тем не менее последовал вывод, что ведомства «не организовали должным образом работу судебно-прокурорских органов по усилению борьбы с дезертирами». Народные суды грубо нарушали указ: не соблюдали сроки рассмотрения дел, несвоевременно направляли приговоры к исполнению, часто допускали заочное рассмотрение. Директора предприятий и руководители учреждений не спешили сообщать органам прокуратуры о нарушениях. Выяснилось также, что минимум 23% дел в народных судах рассматривались с нарушениями сроков.
Фактическое число нарушений превышало уровень выявленных, так как отчётные сведения, представлявшиеся судами в НКЮ, в большинстве случаев не соответствовали действительности. Суды регистрировали не дату получения дела, а дату сдачи его в канцелярию. В ряде случаев судьи и вовсе не делали отметки о времени поступления дела в суд, чем стремились скрыть нарушение сроков рассмотрения. НКЮ и прокуратура не контролировали процесс судопроизводства. В среднем по стране около 44% приговоров отменялись после кассации (в одной только Омской обл. их аннулировали более 63,4%), что также свидетельствует о качестве работы судов36. Значительная часть приговоров в отношении осуждённых к тюремному заключению не исполнялась. К примеру, в Молотовской обл. с 1 января по 1 июля 1942 г. суды направили в органы милиции 2 364 приговора, из них было исполнено 364, возвращено в народный суд – 438, объявлено в розыск – 923, не принято никаких мер по 422 делам37. Как правило, приговоры возвращались по причине «нерозыска обвиняемых», поэтому более 70% таковых выносилось заочно. Так, военные трибуналы Уральского военного округа рассмотрели более 71% дел заочно, а в первом полугодии 1942 г. в Челябинской обл. из 719 заочно осуждённых не смогли разыскать никого38. Учёт неисполненных приговоров и контроль за их исполнением практически отсутствовали.
Среди директоров предприятий и начальников учреждений широко распространилось «укрывательство дезертиров», дававшее возможность выполнять производственные задания и планы в условиях усугубившегося в период войны дефицита кадров и отсутствия материальных стимулов для привлечения работников. Поначалу на него закрывали глаза, но ближе к концу войны (особенно после постановления СНК от 29 июня 1944 г.) партийные структуры решили начать «наведение порядка». Так, в июле 1944 г. на заводах Москвы (завод № 24 НКО СССР и № 28 Главного управления по кислороду при СНК СССР) «вскрыли антигосударственные практики»: администрации трудоустраивали «чужих» квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников. Начальник отдела кадров завода № 24 Климушин, начальник инструментального цеха того же предприятия Мишкин и помощник директора завода № 28, капитан госбезопасности Рыгин систематически принимали на работу бежавших с располагавшегося в Нижнем Тагиле завода № 120 Наркомата авиационной промышленности СССР (преимущественно слесарей и токарей). На завод № 28 перешли 24, а на завод № 24 – 19 рабочих оттуда; помимо этого в инструментальном цехе завода № 24 выявили ещё 25 человек с других предприятий. Рыгин договорился с военным комиссаром Балашихинского района полковником Петровым об оформлении их под видом мобилизации, а взамен направил в военкомат рабочих более низкой квалификации. На заводе № 24 по прибытии следователя военной прокуратуры для задержания дезертира Воробьёва главный инженер Эфман приказал начальнику инструментального цеха удалить того с рабочего места и спрятать на заводском дворе, а в табеле сделать запись о том, что 26 июня, в день проверки, он оставил работу на заводе.
Интересно, что «дезертирами» становились как рядовые рабочие и служащие, так и управленцы «среднего звена». Например, при содействии Рыгина на должность начальника цеха завода № 28 приняли бывшего начальника цеха завода № 120 Решетникова, который оказался в Москве без справки с последнего места работы и без трудовой книжки. Вскоре он написал своим бывшим подчинённым несколько писем, призывая их дезертировать и обещая помощь в устройстве на завод № 28. Так поступили 20 рабочих, часть из них действительно трудоустроили. В итоге Климушина, Мишкина, Решетникова и его заместителя Костюнина, а также ещё нескольких управленцев и дезертиров арестовал следователь военной прокуратуры, их осудили на разные сроки исправительно-трудовых лагерей39.
Подобные процессы прошли и в других городах. Например, осудили начальника отдела кадров алюминиевого завода (г. Сталинск Кемеровской обл.) Горбунова (десять лет исправительно-трудовых лагерей) и заведующего «личным столом» того же предприятия Захарова (пять лет). Они систематически скрывали и освобождали дезертиров (всего около 100 человек) через подложные выписки о признании их больными и нетрудоспособными40. В Днепропетровске на заводе им. К. Либкнехта начальник отдела организации труда Усачёв и начальник мартеновского цеха Ефимов получили по девять месяцев исправительных работ. Председателя Барановского сельсовета Пестряковского района Ивановской обл. А. В. Комнева приговорили к пяти годам, председателя Самохвальского колхоза Арбарского района Кировской обл. И. В. Смирнова – к трём. К уголовной ответственности привлекли: начальника цеха завода им. Дзержинского (Днепродзержинск) И. С. Шевченко за укрывательство 32 дезертиров, начальника 5-го стройуправления спецстройтреста (Кривой Рог) Фомина за «сокрытие дезертиров и непередачу в прокуратуру материалов на 139 человек», бежавших с оборонной стройки, директора фабрики Наркомтекстиля «Красный луч» (Горьковская обл.) Н. И. Кузнецова за укрывательство 13 дезертиров. Впрочем, встречались и случаи самоуправства. Например, предстал перед судом председатель колхоза в Чадаевском районе Пензенской обл. Усов, вынудивший 23 колхозников покинуть работу на предприятии, угрожая лишить их приусадебных участков41.
Следует отметить хаотичный характер применения указа и бессистемность карательных акций. Разнились признаки облав на «дезертиров» и «укрывателей», меры пресечения и виды наказаний при примерно одинаковой степени виновности и т. д. Многое зависело от региона, взаимоотношений местного партийного аппарата и силовых структур, должностей привлекавшихся к ответственности лиц и, конечно, от наличия или отсутствия «связей». Говоря о чудовищном размахе репрессий (за годы войны вынесено более 7,5 млн приговоров, в результате чего около четверти всех рабочих и служащих оказались осуждены по указам о труде), О. В. Хлевнюк сделал вывод о том, что «масштабы игнорирования трудовых декретов были не менее значительны, чем масштабы их исполнения»42. Однако нельзя не отметить их влияния на повседневность и массовое сознание. Производственные планы хозяйственникам на местах приходилось выполнять не благодаря, а вопреки санкциям власти. Постоянный страх сотен тысяч честных людей, использование методов теневой экономики в регулировании деятельности предприятий и учреждений переводили производственный процесс из области выполнения заданий государства в область подпольного сопротивления его карательной политике.
Не меньшие масштабы игнорирования и саботажа наблюдались в деятельности надзорных, судебно-следственных органов, прокуратуры и милиции. В соответствии с постановлением СНК СССР от 1 августа 1945 г. прекращалось заочное рассмотрение дел о самовольном уходе с предприятий и учреждений. Теперь в случае неявки обвиняемых на судебное заседание суды выносили определения о производстве их розыска, который возлагался на органы милиции. Однако новый прокурор СССР К. П. Горшенин в записке Сталину отметил, что «органы» «плохо справлялись с работой, относились к ней формально и часто ограничивались предоставлением справки для суда о том, что обвиняемый не проживает по последнему адресу регистрации». В результате большинство самовольно оставивших работу оставались безнаказанными. Росло и количество приостановленных дел. Так, на 1 июля 1945 г. суды вынесли такие решения в отношении 6 037 из них, на 1 января 1946 г. – 30 732, на 1 января 1947 г. – 134 628, на 1 января 1948 г. – 426 873, на 1 января 1949 г. – 700 049, на конец 1950 г. – около 1 млн дел43. К концу десятилетия дезертиры уже достаточно спокойно устраивались на другую работу.
Прокуратуре СССР постановлением от 1 августа 1945 г. поручалось обеспечить неуклонное выполнение требований закона о привлечении к ответственности должностных лиц предприятий и учреждений, допускавших приём самовольно оставивших прежнее место работы. Однако это указание не выполнялось. В частности, не контролировались передача в суд материалов о прогульщиках и дезертирах, привлечение к ответственности руководителей предприятий и учреждений, розыск беглецов милицией. Отсутствовал надзор за правильностью применения закона в суде, вследствие чего суды выносили приговоры упрощённым способом, часто применяли более мягкие меры наказания, безосновательно оправдывали подсудимых или вовсе прекращали дела. Так, за 1947–1948 гг. только по указу 26 июня оправдали 271 768 человек: 158 305 прогульщиков, 71 830 обвинённых в самовольном уходе, 41 633 необоснованно привлечённых к уголовной ответственности. В одном Кузнецком угольном бассейне сняли обвинения с 217 человек из 1 869 привлечённых (11,6%), причём 208 из них составили кадровые рабочие44.
К сожалению, несмотря на неэффективность правоприменительной практики, численность пострадавших за незначительные трудовые правонарушения оказалась колоссальной, превзойдя масштабы Большого террора. За период действия указа 26 декабря десятки тысяч человек погибли в камерах предварительного заключения в ожидании приговора45, сотни тысяч не вернулись из лагерей. Даже если удавалось избежать тюремного срока, приговоры влекли за собой серьёзные последствия: наличие в биографии отметки о судимости, потерю непрерывного трудового стажа и льгот, трудности в прохождении военной службы или дальнейшем трудоустройстве. Всё это существенно усложняло повседневную жизнь людей.
Размах репрессий и их значение в поддержании трудовой дисциплины на производстве
Согласно записке Горшенина Молотову, на 1 января 1941 г. по закону от 26 июня 1940 г. суды получили дела на 2 476 241 человека, из которых осудили 1 955 790 человек, в том числе за прогул – 1 648 595, самовольный уход с работы – 299 942, покровительство прогульщикам – 6 95146. К 1 апреля, согласно докладной записке начальника уголовно-судебного отдела М. Ф. Золотова и сотрудника прокуратуры С. П. Фаркина прокурору Бочкову «О судебных репрессиях…», под суд попали 3 358 368 человек, из них осуждены 2 576 849, в том числе за прогул – 2 158 406, самовольный уход – 400 085, покровительство прогульщикам – 7 775. Прекратили дела и вынесли оправдательные приговоры в отношении 390 38847.
Однако число прогулов и самовольных уходов оставалось высоким. Не помог и указ 26 декабря. В марте 1942 г. Бочков обратился к Вышинскому с докладной запиской «Об отсрочке исполнения приговора в отношении рабочих и служащих военной промышленности». За первые три месяца действия указа уровень самовольных уходов, прогулов и дезертирства сократился незначительно, а вскоре начался рост числа правонарушений. Так, в январе отмечены 1 004 дезертирства, в феврале – 3 440, на 18 марта – 6 187. Бежали в первую очередь с предприятий военной промышленности, что объяснялось тяжелейшими условиями быта, отсутствием нормального снабжения продуктами питания и товарами первой необходимости. Практика правоприменения показала, что по указу 26 декабря в основном осуждались лица непризывного возраста и несовершеннолетние, окончившие ремесленные училища и школы ФЗО. Так, в январе 1942 г. из 165 человек, осуждённых за дезертирство с военных предприятий в Сталинграде, 125 составляли молодые рабочие до 17 лет; в Свердловской и Молотовской областях 74% осуждённых не достигли 20 лет. Среди дезертиров значительную часть составляли женщины. По обоим указам к 1 января 1943 г. осудили 5 121 840 человек48.
Докладная записка Бочкова членам ГКО Маленкову, Н. А. Вознесенскому, А. А. Андрееву и Н. М. Швернику от 24 июня 1942 г. показала, что количество прогулов и самовольных уходов с работы не сократилось, а напротив, возросло. Их основными причинами снова указаны ужасные материально-бытовые условия и низкая зарплата. Причём, поскольку разыскивать беглецов с военных предприятий было непросто, более 70% приговоров пришлось вынести заочно49. Подобная ситуация сохранялась на всём протяжении войны, о чём свидетельствуют материалы записки заместителя прокурора СССР Г. Н. Сафонова «О количестве осуждённых за нарушение трудовой дисциплины по Указам 26.06 и 26.12» от 6 июня 1946 г. (см. табл. 1).
Таблица 1
Количество осуждённых по указам 26 июня 1940 г. и 26 декабря 1941 г. (по данным прокуратуры СССР)
Год | Всего осуждены по указу 26 июня | Из них | Осуждены по указу 26 декабря | |
за прогулы | за самовольные уходы | |||
1940 | 1 688 526 | 1 435 247 | 253 279 | – |
1941 | 1 803 592 | 1 533 053 | 270 539 | – |
1942 | 1 571 770 | 1 274 644 | 297 136 | 121 024 |
1943 | 1 121 305 | 961 545 | 159 760 | 335 071 |
1944 | 1 055 607 | 889 100 | 166 507 | 242 768 |
1945 | 1 067 048 | 959 347 | 117 701 | 68 152 |
Всего | 8 307 848 | 7 052 936 | 1 264 912 | 767 015 |
Составлено по: РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 88.
По подсчётам работников прокуратуры СССР, за время действия обоих указов осуждению подверглись 9 074 863 рабочих и служащих (в подавляющем большинстве с промышленных предприятий), в том числе свыше 7 млн – за прогулы по неуважительным причинам (невыход на работу, опоздание от 20 минут). Согласно данным НКЮ, по обоим указам с июля 1940 по конец 1945 г. осудили 9 552 912 человек, из них по указу 26 июня – 8 663 868, а по указу 26 декабря – 889 04450. Обе сводки демонстрируют всплеск репрессий в 1943 г. Количество осуждённых по указу 26 декабря достигло максимума – 367 047 человек по статистике НКЮ и 335 071 по данным прокуратуры (при этом численность привлекаемых по указу 26 июня несколько сократилась). По-видимому, это связано с распространением его на подавляющее большинство предприятий военной, смежных и приравненных к ним отраслей промышленности, а также стремлением ответственных за воплощение указа в жизнь показать эффективность работы своих ведомств.
Аналогично пик приговоров по указу 26 июня пришёлся на первые два года после его выхода. Согласно статистике НКЮ, только за 1940 г. осудили 2 091 438 человек (по статистике прокуратуры – 1 688 526) и за 1941 г. – 1 769 152 и 1 803 592 соответственно. К концу войны приговоров стало меньше: по данным прокуратуры, в 1945 г. по указу 26 июня осудили 1 067 048, а по указу 26 декабря – 68 152 человека51. Эти цифры говорят не о количестве фактически совершённых правонарушений, а о числе привлечённых к ответственности. Постепенное снижение последнего может говорить о понимании представителями власти всех уровней неэффективности тактики «запугивания» и репрессий как метода трудового стимулирования.
Тем не менее, несмотря на саботаж, численность заключённых оказалась огромной. В записке Горшенина Молотову от 20 октября 1945 г. приведены цифры освобождённых по амнистии в связи с победой над Германией: из исправительно-трудовых лагерей и колоний – 620 753, тюрем – 123 785, детских трудовых колоний – 19 963 человека. Кроме того, наполовину сокращался неотбытый срок наказания к лишению свободы свыше трёх лет для 212 890 человек, освобождались от наказания 841 125 приговорённых к исправительно-трудовым работам. Общая численность амнистированных осуждённых, а также подследственных, находившихся в момент амнистии под стражей, составила 1 818 516 человек52.
По характеру преступлений наибольшее число освобождённых из тюрем, колоний и лагерей составили осуждённые по указам о нарушениях трудовой дисциплины, что составило 38% от общего числа осуждённых: по указу 26 декабря – 221 719 человек, по указу 26 июня – 7 388, по указу от 28 декабря 1940 г. – 3 233, по другим указам – 2 281 человек. Второе место занимали осуждённые на срок не более трёх лет за имущественные преступления – 185 562 (30%)53. Как видно, наибольшее число амнистированных составили осуждённые по указу 26 декабря, предполагавшему длительные сроки лишения свободы (пять–восемь лет). Эти массы людей, попав под репрессивную кампанию, вместо труда на советских предприятиях вынужденно отбывали наказание в тюрьмах, лагерях, исправительно-трудовых колониях. Стоит отметить, что в это число не включены лица, задержанные и отправленные в следственные изоляторы, но умершие, так и не дождавшись приговора.
Уголовное преследование рабочих и служащих по указу 26 декабря продолжалось и после амнистии 1945 г. Во второй половине года военные трибуналы осудили 69 216 человек, в 1946 г. – 64 310, 1947 г. – 52 708, 1948 г. – 23 71654, всего в послевоенное время – 209 950 человек. Данная статистика, с одной стороны, свидетельствует о снижении численности привлекаемых к ответственности, с другой же – об иррациональном нежелании руководства СССР отойти от драконовских мер закрепления рабочих за предприятиями под страхом уголовного преследования. Чтобы разобраться в причинах этого явления, обратимся к проектам смягчения проводимого курса.
Попытки декриминализации нарушений трудовой дисциплины
Впервые сомнение по поводу эффективности уголовного преследования нарушителей выразил Бочков в записке на имя Молотова от 6 апреля 1943 г. Он отметил, что за время действия указов 26 июня и 26 декабря осудили более 5 млн человек, из них свыше 4 млн – за прогулы. Это свидетельствовало о стойко неудовлетворительном состоянии дисциплины на производстве. Наказания за её нарушения получало слишком большое число рабочих, в результате «судимость теряет своё значение и становится, по сути, бытовым явлением». Бочков обратил внимание, что снижение за прогулы норм выдачи хлеба имело намного больший эффект, чем передача дел в суд. Он предлагал заменить уголовное преследование системой дисциплинарных взысканий и предоставить право директорам предприятий самостоятельно наказывать нарушителей55. Другую идею высказали в НКЮ ещё в марте 1942 г.: там предложили осуждённых к заключению направлять не в исправительно-трудовые лагеря, а на другие военно-промышленные предприятия и в действующую армию56.
Очередная попытка достучаться до руководства страны датируется июнем 1946 г. Первый заместитель генпрокурора СССР Сафонов обратился к Сталину с предложением частично отменить уголовную ответственность за нарушения трудовой дисциплины ввиду её нецелесообразности. Он обратил внимание, что на основании указа «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией» все осуждённые за прогулы и самовольный уход с работы освобождались от наказания и с них снималась судимость. Однако уже за второе полугодие 1945 г. за прогулы осудили 485 546, а за самовольный уход с предприятий – 54 513 человек. Кроме того, осуждённые составляли значительный процент рабочих и служащих предприятий. Так, на Балашовской текстильной фабрике уголовные наказания за прогулы имели 10,8% всех рабочих и служащих, на заводе № 481 Министерства авиационной промышленности – 11%, на Сызранском локомобильном заводе – 12,7%, на заводе «Катэк» Министерства автомобильной промышленности – 15,6%, на Ивановской швейной фабрике – 18,7%. Сафонов отметил, что «при такой массовости судимость за трудовые преступления теряет воспитательную функцию». Наказание за прогул – исправительно-трудовые работы сроком до шести месяцев – в реальности сводилось к штрафу в рассрочку в пределах 25% зарплаты. Его предлагалось заменить иными мерами воздействия, предоставив директору предприятия или учреждения полномочия налагать одну из мер дисциплинарного взыскания: лишение премии, денежный штраф до 25% заработка, при повторном прогуле в течение месяца – лишение права на очередной трудовой отпуск. Также Сафонов считал необходимым ввести льготы для дисциплинированных работников57.
Вскоре к Сталину обратился Л. П. Берия. Он предложил отменить с 1 октября указ 26 декабря, мотивируя это тем, что действие его распространено на более чем 7 млн человек, из которых на предприятиях Урала, Сибири и Дальнего Востока работали 4 250 тыс., в том числе около 900 тыс. эвакуированных. Рабочие, принудительно находившиеся в крайне тяжёлых условиях, смогли бы оставить работу, а их закреплению за предприятиями должны были послужить денежное стимулирование и улучшение материально-бытовых условий: строительство индивидуальных типовых домов и продажа их со скидкой 50%, выдача ссуд для строительства домов со списанием 50% суммы, выдача ссуд на хозяйственное обзаведение (до 3 тыс. руб. на семью со сроком погашения 10 лет), освобождение застройщика в течение двух лет от налога на строение, освобождение от поставок государству продуктов, беспрепятственное освобождение от работы членов семей, пожелавших переехать на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток к месту работы главы семьи (с оплатой расходов по переезду), продажа рабочим и служащим в личное пользование скота, промышленных товаров, исчисление общего трудового стажа (год войны за два года) и начисление стимулирующих выплат. Предусматривалось также повысить в этих регионах заработную плату на 15%, а в угольной, цветной, чёрной металлургии и транспортном машиностроении – на 20%, установить выплаты за выслугу лет от 50 до 100% от зарплаты, увеличить нормы снабжения сахаром и кондитерскими изделиями, организовать дополнительные коммерческие магазины; ввести работникам золотоплатиновой и редкометаллической промышленности выплату за выслугу лет и дополнительный отпуск. При этом указ 26 июня планировалось оставить в силе.
Госплан и Министерство финансов СССР опротестовали введение льгот и повышение зарплаты, остальные министерства выразили согласие. Берия представил два варианта постановления. В одном предусматривалось заключение индивидуальных договоров на выгодных условиях с эвакуированными, репатриированными и мобилизованными сроком от трёх лет. Другой предусматривал различные льготы для рабочих и служащих предприятий Сибири, Урала и Дальнего Востока58. Эти документы свидетельствуют, что даже ближайший соратник Сталина осознал необходимость отказа от жёстких правовых норм военных лет, перехода к экономическим стимулам и договорной системе трудовых отношений. Но, конечно, ни один из проектов принят не был.
Частичная декриминализация трудового законодательства
Назревшую необходимость отмены уголовной ответственности за нарушения трудовой дисциплины понимало большинство представителей руководства СССР, но указ президиума Верховного совета СССР «Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г.» вышел только 31 мая 1948 г. Одновременно отменялись все постановления ГКО о его распространении на смежные отрасли промышленности. Рабочих и служащих теперь следовало привлекать к уголовной ответственности за прогулы и самовольный уход с работы только по указу 26 июня. Прекращалось рассмотрение дел о прогулах и дезертирстве с предприятий военными трибуналами – эта функция перешла к народным судам; дела по опозданиям передавались в товарищеские суды на предприятиях59. Постановлением от 18 июня «Об ответственности работников предприятий, учреждений и организаций железнодорожного, речного и морского транспорта на территории Латвии, Литвы и Эстонии за прогулы и самовольный уход с работы» в соответствии со ст. 2 указа президиума Верховного совета СССР от 2 мая 1948 г. «Об отмене военного положения на железнодорожном, речном и морском транспорте» указ 26 декабря в связи с его отменой заменялся указом 26 июня6060. Таким образом, отменялись самые жестокие наказания в виде многолетних сроков лишения свободы. Однако практика уголовного преследования за нарушения трудовой дисциплины сохранялась.
Вскоре руководству СССР пришлось вернуться к этой проблеме. Из записки Горшенина Сталину от 15 июля 1949 г. «О серьёзных недостатках в применении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.»61 следует, что в 1948 г. число поступивших в суды дел о прогулах составило 32,3% от числа такого рода дел, рассмотренных в 1940 г. Однако сам автор документа отметил, что исполнение указа саботируется, и в очередной раз предложил отменить его. Основным доводом послужило то, что количество самовольных уходов с предприятий меры уголовного преследования не снизили (см. табл. 2).
Таблица 2
Количество случаев самовольного ухода с работы в 1945–1948 гг.
Год | Поступило в суды дел | % к 1945 г. | Окончено судами дел | Привлечено к ответственности лиц по рассмотренным случаям | Из них | ||
осуждены | оправданы | дела прекращены | |||||
1945 | 219 359 | 100 | 191 254 | 180 793 | 120 600 (66,7%) | 22 267 (12,3%) | 37 926 (21%) |
1946 | 336 199 | 153 | 221 395 | 204 018 | 143 600 (70,4%) | 29 824 (14,6%) | 30 594 (15%) |
1947 | 625 732 | 285 | 334 304 | 300 415 | 215 679 (71,8%) | 34 469 (11,5%) | 50 267 (16,7%) |
1948 | 644 084 | 294 | 381 039 | 349 644 | 249 940 (71,5%) | 37 361 (10,7%) | 62 343 (17,8%) |
Составлено по: РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 120.
Как следует из приведённых выше данных, число дел за самовольный уход с работы по указу 26 июня с 1945 по 1948 г. возросло почти в три раза, при том, что в этот период ещё действовал указ 26 декабря. Но численность привлечённых к ответственности и осуждённых лишь удвоилась. Обращает на себя внимание рост количества оправдательных приговоров (в полтора раза) и прекращённых дел. Практика заочного осуждения сохранялась, однако в документах Министерства юстиции разрыв между количеством дел, поступивших в суды и оконченных, объяснялся их приостановкой ввиду розыска обвиняемых, а разрыв между оконченными делами и делами, по которым люди привлекались к ответственности, – тем, что часть материалов возвращалась на доследование.
Переданные в суд дела о прогулах за обозначенный период сократились почти в два раза, до примерно 58% от уровня 1945 г. В несколько меньшей степени снизилось число осуждённых (см. табл. 3).
Таблица 3
Количество дел, поступивших в народные суды по факту совершённых прогулов в 1945–1948 гг.
Год | Поступило в суды | % к 1945 г. | Окончено дел | Привлечено к ответственности лиц по рассмотренным случаям | Из них | ||
осуждены | оправданы | дела прекращены | |||||
1945 | 1 163 685 | 100 | 1 159 574 | 1 140 243 | 957 971 (84%) | 111 023 (9,7%) | 71 249 (6,3%) |
1946 | 1 025 576 | 88,1 | 1 017 029 | 990 242 | 861 340 (87%) | 105 988 (10,7%) | 22 914 (2,3%) |
1947 | 828 428 | 71,2 | 822 474 | 790 213 | 684 441 (86,6%) | 83 171 (10,5%) | 22 601 (2,9%) |
1948 | 679 214 | 58,4 | 674 816 | 658 756 | 564 590 (85,7%) | 75 134 (11,4%) | 19 032 (2,9%) |
Составлено по: РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 120.
Сокращение количества прогулов может быть связано с тем, что после войны органы правопорядка уделяли им уже не столь пристальное внимание. Стремясь сохранить рабочую силу, администрации заводов часто не передавали дела по прогулам в суды, решая вопрос самостоятельно, мерами дисциплинарного воздействия. Несовершенством отличался и учёт: рабочие прогуливали, хотя по табелям находились на месте. Руководители предприятий и учреждений, стремясь предотвратить усиление и без того массовой «текучести кадров», всячески затягивали привлечение подчинённых к ответственности. Так, на комбинате «Сталинуголь» в шахте № 8 им. Сталина треста «Калининуголь» за апрель 1949 г. было совершено 127 прогулов, а материалы в судебные органы поступили только на 11 человек. На шахте им. Кирова треста «Советскуголь» того же комбината из 29 прогульщиков под суд пошли лишь 15. Волокита продолжалась и при передаче дел в суд. Перегруженные работой судебные органы не спешили сразу оформлять дела. К примеру, в г. Прокопьевске Кузнецкого угольного бассейна из 1 649 дел, поступивших из шахт за январь–август 1948 г., по 349 (21,3%) оформление материалов длилось более 10 дней. За это время рабочие успевали совершить ещё несколько прогулов. Так, рабочий шахты им. Сталина Чагин прогуливал с 1 по 8 марта, но наказания избежал. После этого он совершил новые прогулы 12 и 13 марта, и только 5 апреля вышел приказ о привлечении его к ответственности62.
Статистика показывает, что людей не пугали ни сроки лишения свободы, ни последствия в виде судимости. Реальное число правонарушений значительно превышало данные статистики, так как многие факты администрации предприятий либо не учитывали ввиду их массовости, либо не передавали в суд. Положение дел по сравнению с военным временем не улучшалось, а часто даже ухудшалось: средств на обустройство рабочих посёлков, бараков и общежитий почти не выделялось, продолжался голод, при этом действовало репрессивное законодательство. Фактически люди бежали с предприятий не столько в поисках лучшей доли, сколько спасаясь от нищеты и голодной смерти.
В январе 1951 г. Горшенин в очередной раз (теперь уже в роли министра юстиции СССР) обратился в Совет министров СССР с предложением отменить уголовную ответственность за прогул (ч. 2 ст. 5 указа 26 июня), заменив её денежным штрафом. Впрочем, уголовную ответственность за самовольный уход с работы (ч. 1 ст. 5), к которому приравнивался прогул свыше трёх дней, он считал возможным сохранить. Предполагалось ввести обязательное предварительное расследование и участие в судебных процессах народных заседателей. Предстояло также издать указ об амнистии, предусмотрев в нём снятие судимости со всех осуждённых за прогулы и самовольный уход, а также прекращение производства всех нерассмотренных дел, в том числе приостановленных63.
В табл. 4 приведена статистика Министерства юстиции о ежегодном привлечении к ответственности по указу 26 июня после амнистии 7 июля 1945 г. С отменой в 1948 г. указа 26 декабря численность осуждённых за самовольный уход с работы закономерно возросла. Введение более лёгких санкций явилось важным шагом на пути декриминализации трудового законодательства. Однако плохое снабжение, низкий уровень жизни и накопившаяся усталость от чрезвычайных условий труда и быта всё так же влияли на дисциплину: количество самовольных уходов с предприятий росло, тогда как численность привлечённых за прогулы, напротив, снижалась.
Таблица 4
Численность привлечённых к ответственности по указу 26 июня в 1945–1950 гг.
Год | За самовольный уход с работы | За прогул |
1945 (вторая половина) | 57 412 | 493 184 |
1946 | 143 600 | 861 340 |
1947 | 215 697 | 684 441 |
1948 | 249 940 | 564 590 |
1949 | 267 869 | 517 459 |
1950 | 208 962 | 513 891 |
Всего | 1 143 462 | 3 634 905 |
Составлено по: РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 891, л. 3–4.
По данным ведомства в целом со второй половины 1945 г. по конец 1950 г. осудили 4 778 367 человек – это почти половина от общего числа осуждённых за уголовные преступления; только в 1950 г. они составили 44,7%. Среди них – опоздавшие на работу на 20 минут и более, в том числе довольно много молодых людей, только начавших трудовую деятельность после ремесленных училищ и школ ФЗО. Часто рабочие и служащие привлекались без выяснения обстоятельств. Как следствие, только за 1950 г. суды вынесли оправдательные приговоры и прекратили дела в отношении 162 тыс. человек. Кроме того, на начало 1951 г. в судах находилось свыше 1 млн дел о самовольном уходе, приостановленных производством вследствие «нерозыска обвиняемых»64.
Через полгода после обращения Горшенина вышел указ президиума Верховного совета СССР от 14 июля 1951 г. «О замене судебной ответственности рабочих и служащих за прогул, кроме случаев неоднократного и длительного прогула, мерами дисциплинарного и общественного воздействия». Вводились дисциплинарные взыскания согласно правилам внутреннего распорядка или устава предприятий и учреждений. Единовременные выплаты за выслугу лет или процентные надбавки снижались до 25%, крайней мерой становилось увольнение. Дела теперь рассматривали товарищеские суды. Уголовная ответственность наступала лишь в случае неоднократного или длительного прогула: если работник совершал его более двух раз в течение трёх месяцев, либо один раз в течение трёх дней, директор предприятия или начальник учреждения мог передать дело в суд. Уличённый в прогуле подвергался исправительно-трудовым работам по месту прикрепления сроком до 6 месяцев с удержанием до 25% заработной платы. Виновный в самовольном уходе в дополнение к таким же санкциям мог быть лишён свободы на срок от двух до четырёх месяцев65.
В этот же день вышел указ «Об освобождении от наказания и о снятии судимости с рабочих и служащих, осуждённых за самовольный уход с предприятий и учреждений и за прогулы без уважительных причин»66. Судимость снималась с осуждённых по указу 26 июня, однако ничего не говорилось о пострадавших по указу 26 декабря за время с 7 июля 1945 г. по 31 мая 1948 г. Как следствие, в президиум Верховного совета СССР стали поступать заявления с просьбой разъяснить, сохраняется ли судимость за такими осуждёнными (266 311 человек) или её можно считать погашенной. В записке председателя президиума Н. М. Шверника от 30 декабря 1952 г. отмечалось, что министр госбезопасности С. Д. Игнатьев также просил дать разъяснения по данному вопросу, поскольку его подчинённые «лишены были возможности принимать соответствующие решения». Горшенин и Сафонов считали необходимым распространить указ 14 июля на осуждённых по указу 26 декабря. Проект соответствующего указа утвердили 4 января 1953 г.67
Отмена уголовного наказания за трудовые правонарушения
Политбюро приступило к серьёзному обсуждению замены уголовного наказания дисциплинарными взысканиями только в январе 1955 г. К тому времени появились несколько проектов указа, которые также предусматривали отмену «мобилизации» в ремесленных училищах и школах ФЗО, уголовного наказания за невыработку необходимого количества трудодней колхозниками и т. д. Очевидная необходимость изменений в законодательстве подчёркивалась необоснованной жестокостью сохранявшихся норм военного времени. Численность осуждённых по указу 26 июня даже после его частичной декриминализации оставалась высокой (см. табл. 5).
Таблица 5
Количество осуждённых по делам о самовольном уходе с предприятий и учреждений и о прогулах (по данным Министерства юстиции СССР)
Указ 26 июня 1940 г. | За самовольный уход | За прогул |
1940 (второе полугодие) | 321 648 | 1 769 790 |
1941 | 310 967 | 1 458 185 |
1942 | 297 126 | 1 274 644 |
1943 | 160 060 | 961 545 |
1944 | 184 911 | 951 572 |
1945 | 120 600 | 957 971 |
1946 | 143 600 | 861 340 |
1947 | 215 679 | 684 441 |
1948 | 249 940 | 564 590 |
1949 | 267 869 | 517 459 |
1950 | 208 962 | 513 891 |
1951 | 100 239 | 279 555 |
Указ 14 июля 1951 г. | ||
1951 (второе полугодие) | 33 584 | 35 720 |
1952 | 179 695 | 147 885 |
1953 | 137 304 | 107 031 |
1954 | 163 325 | 95 636 |
1955 (первое полугодие) | 91 806 | 44 618 |
Составлено по: РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 62, л. 34.
Если всего со второго полугодия 1940 г. по первое полугодие 1955 г. за самовольный уход с работы осудили 3,2 млн человек, а за прогул – 11,2 млн, то только за 1951–1955 гг. – 707,5 тыс. и 474 тыс. соответственно. Пик пришёлся на начало кампании – 1940–1942 гг. Значительным оставалось количество осуждённых в 1943–1945 гг. (при этом также действовал указ 26 декабря). Однако и после частичной отмены указа 26 июня численность осуждённых оставалась высокой из-за очередных кампаний по борьбе за дисциплину. Её взлёт пришёлся на 1952 г., причём уголовных дел за самовольный уход впервые было заведено больше, чем дел за прогул, и эта тенденция сохранилась до окончания действия указа. Незначительный спад пришёлся на 1953 г., затем последовал новый всплеск, связанный с волной реабилитации и последующим устройством на промышленные предприятия большого числа рабочих, недавно освободившихся из лагерей. Они могли оставить рабочее место без особого труда, но в то же время находились под пристальным вниманием администрации как «неблагонадёжные».
Согласно статистике Минюста рост числа нарушений продолжался. Так, если в 1954 г. количество рабочих, совершивших прогул, составляло 333 тыс. за квартал, то в 1955 г. оно увеличилось до 366 тыс. Количество самовольно ушедших с работы увеличилось с 21 тыс. человек за квартал в 1954 г. до 26 тыс. в 1955 г. В первом полугодии 1955 г. за самовольный уход с работы осудили 91,8 тыс. человек, а за прогул – 49,4 тыс. Особенно тяжёлое положение с прогулами отмечалось в угольной промышленности. В 1955 г. в судебные органы поступили 511,4 тыс. дел, по ним осудили 281,6 тыс. человек, а на 150 тыс. скрывшихся дела пришлось приостановить. Розыск не проводился ввиду больших материальных затрат.
В период проработки вопроса о декриминализации трудового законодательства в 10 союзных республиках и областях прошла проверка состояния трудовой дисциплины, по итогам которой мнения высказали 15 ЦК республиканских компартий и обкомов. Из них 13 поддержали отмену указа 14 июля. С ними солидаризовались 20 союзных министерств, причём пять посчитали, что указ нужно отменить после улучшения жилищно-бытовых условий рабочих68.
Указ президиума Верховного совета СССР «Об отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и из учреждений и за прогул без уважительной причины» вышел только 25 апреля 1956 г. Он предусматривал также прекращение всех дел, не рассмотренных судами, освобождение от отбывания наказания осуждённых, снятие судимости с граждан, отбывших наказание, но освобождённых. Уголовное наказание заменялось дисциплинарными взысканиями69.
Таким образом, закрепление рабочих и служащих за предприятиями и учреждениями и их уголовное преследование за нарушения трудовой дисциплины не дало желаемого эффекта. Прогулы, опоздания и побеги с мест работы не просто сохранились, но оставались массовыми. Исполнение «указов о труде» с самого начала саботировали все уровни системы управления и контроля. Более 60% приговоров выносились заочно ввиду массового бегства рабочих с предприятий. Несмотря на это, численность осуждённых по указам 26 июня и 26 декабря оказалась огромной: они составили примерно половину численности всех осуждённых в СССР по уголовным статьям.
В годы войны жестокость наказания могла быть обоснована чрезвычайными условиями, хаосом в системе управления, потребностью в быстрой переброске трудовых ресурсов в приоритетные отрасли экономики и невозможностью предусмотреть издержки экстренных мер контрактации рабочей силы. Однако в мирное время действие этих норм стало излишним. Межведомственная переписка и многочисленные обращения с предложениями об отказе от уголовного преследования нарушителей отражают понимание этого в органах власти. Но принятие окончательного решения всячески затягивалось, несмотря на то, что практика исполнения продемонстрировала неэффективность такого способа поддержания дисциплины, а как следствие – слабость и постепенную деградацию методов управления, основанных на устрашении и насилии. Частичная, а затем и полная отмена уголовной ответственности за трудовые правонарушения явилась органичной частью демонтажа сталинской системы управления, перехода к более рациональным методам экономического стимулирования труда.
Наконец, необходимо подчеркнуть, что осуждённые по указам 1940–1941 гг. люди не являлись преступниками. Они бежали от крайне низкого уровня жизни и тяжелейших условий труда, но оказались на долгие годы лишены работы, семьи, свободы, либо подвергнуты поражению в гражданских правах за правонарушения, явно несоразмерные наказанию. Поэтому можно утверждать, что действие «указов о труде» – одна из форм массовых репрессий, источник произвола и дискриминации, элемент общей системы нарушений прав человека в СССР.
1 © 2024 г. Е. В. Хатанзейская
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
This article is an output of a research project implemented as part of the Basic Research Program at the HSE University.
Соколов А. К. Принуждение к труду в советской промышленности и его кризис (конец 1930-х – середина 1950-х гг.) // Экономическая история: ежегодник. 2003. М., 2004. С. 74–99; Соколов А. К. Проблемы мотивации труда на советских предприятиях // Труды Института российской истории РАН. 2010. № 9. С. 174–224; Сомов В. А. Потому что была война… Внеэкономические факторы трудовой мотивации в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Н. Новгород, 2008; Сомов В. А. Репрессии как метод трудовой мобилизации в условиях Великой Отечественной войны (по материалам Волго-Вятского региона) // Вестник Липецкого государственного педагогического университета. Сер. Гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 8–18; Морозов А. А. Развитие советского законодательства о дисциплине труда: историко-правовой аспект (1917–1945 гг.). Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2001; Гончаров Г. А. Трудовая армия на Урале в годы Великой Отечественной войны. Дис. … д-ра ист. наук. Челябинск, 2006.
2 Кодинцев А. Я. Кампания по борьбе с «дезертирством» с предприятий военной промышленности в 1942–1948 гг. // Отечественная история. 2008. № 6. С. 101–108; Иванова Г. М. По законам военного времени: правоохранительная деятельность государства в условиях Великой Отечественной войны // Труды Института российской истории РАН. 2017. № 14. С. 49–71; Khlevniuk O. V. Deserters from the labor front: the limits of coercion in the Soviet war economy // Kritika: explorations in Russian and Eurasian history. Vol. 20. 2019. № 3. P. 481–504; Белоногов Ю. Г. Оценка эффективности профилактики трудового дезертирства периода Великой Отечественной войны в современной российской историографии // Великая Отечественная война в исторической памяти народа: изучение, интерпретация, уроки прошлого. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Новосибирск, 2020. С. 181–189.
3 Khlevniuk O. V. Deserters from the labor front… Р. 503.
4 Кодинцев А. Я. Историография трудовых преступлений в СССР в 1930–1950-е годы // Петербургский исторический журнал. 2022. № 3. С. 90–109.
5 Белоногов Ю. Г. Проблемы эффективности карательной политики государства в отношении трудовых дезертиров в период Великой Отечественной войны // Государство, общество, церковь в истории России ХХ–XXI веков. Материалы XIX международной научной конференции. Иваново, 2020. С. 32–37; Белоногов Ю. Г. «Преступление и наказание»: приговоры военных трибуналов в отношении трудовых дезертиров в 1942 г. (на материалах приговоров в отношении осуждённых работников завода № 172 Наркомата вооружений СССР) // Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н. Г. Столетовых. Сер. Социальные и гуманитарные науки. 2021. № 4. С. 5–13; Белоногов Ю. Г. Изменение трудового законодательства в 1940 г. в контексте милитаризации советской экономики накануне Великой Отечественной войны // III международная научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию образования СССР. М., 2022. С. 117–123.
6 РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 2–3.
7 Там же, л. 7–8, 13, 15.
8 Там же, л. 14–17.
9 Там же, л. 9–10.
10 Там же, л. 20–21.
11 Там же, л. 22–23 об.
12 Там же, л. 27.
13 Там же, л. 28.
14 История сталинского ГУЛАГа: конец 1920-х – первая половина 1950-х гг. Собрание документов в 7 т. Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Отв. ред. Н. Верт, С. В. Мироненко. М., 2004. С. 411.
15 РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 412.
16 Там же, л. 36.
17 Известия. 1941. 27 декабря.
18 РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 39.
19 Там же, л. 43–44, 48, 53, 56–57, 60.
20 Там же, л. 116.
21 Там же, л. 59.
22 Там же, л. 40.
23 Там же, л. 51–52.
24 Там же, л. 41.
25 Там же, л. 45–46.
26 Там же, л. 61.
27 Там же, л. 62.
28 Там же, л. 63.
29 Там же, л. 68.
30 РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 885, л. 111.
31 РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 72.
32 Там же, л. 73, 75, 77, 81, 83, 85.
33 Там же, л. 86.
34 Khlevniuk O. V. Deserters from the labor front… P. 487–489.
35 РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 126–127.
36 РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 887, л. 79–81.
37 Там же, л. 88–89.
38 Там же, л. 91–93.
39 Там же, д. 885, л. 25–27.
40 Там же, л. 30.
41 Там же, л. 32–33.
42 Khlevniuk O. V. Deserters from the labor front… Р. 503.
43 РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 123–124.
44 Там же, л. 125.
45 Только за восемь месяцев 1943 г. в тюрьмах умерли от истощения, дизентерии, туберкулёза и других причин 454 подследственных. В августе–сентябре 1943 г. бригада военного трибунала и военной прокуратуры провела чистку тюрем, освободив 3 417 истощённых и больных заключённых (Кодинцев А. Я. Кампания по борьбе с «дезертирством»… С. 104).
46 РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 885, л. 9.
47 История сталинского ГУЛАГа… Т. 1. С. 436.
48 Там же. С. 471.
49 Там же. С. 479.
50 Khlevniuk O. V. Deserters from the labor front… Р. 501.
51 РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 89.
52 РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 885, л. 121.
53 Там же, л. 121–122.
54 Кодинцев А. Я. Кампания по борьбе с «дезертирством»… С. 107.
55 РГАСПИ, ф. 82, оп. 2. д. 885, л. 117.
56 Khlevniuk O. V. Deserters from the labor front… Р. 492.
57 РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 89–90.
58 Там же, л. 93–96.
59 Там же, л. 116–117.
60 Там же, л. 118.
61 Там же, л. 119–134.
62 РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 122–124.
63 РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 891, л. 1–2.
64 Там же, л. 5–6.
65 РГАНИ, ф. 3, оп. 57, д. 61, л. 138–139.
66 Там же, л. 135.
67 Там же, д. 62, л. 3.
68 Там же, д. 62, л. 37.
69 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 – июль 1956 гг. М., 1956. С. 374.
About the authors
Elizaveta Khatanzeiskaia
HSE University
Author for correspondence.
Email: info@rcsi.science
кандидат исторических наук, старший преподаватель Школы исторических наук факультета гуманитарных наук
Russian Federation, MoscowReferences
Supplementary files