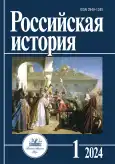Rec. ad op.: J. Bradley. Ruzh’ya dlya tsarya. Americanskie tekhnologii strelkovogo ognestrel’nogo oruzhiya v Rossii XIX veka. Boston, Saint Petersburg, 2022
- Authors: Airapetov O.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 187-192
- Section: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/257091
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24010142
- EDN: https://elibrary.ru/CEYTLV
- ID: 257091
Cite item
Full Text
Full Text
Ещё в 1990 г. американский историк Джозеф Брэдли опубликовал весьма интересное и содержательное исследование «Guns for the Tsar. American technology and the small arms industry in Nineteenth century Russia»1. Разумеется, оно сразу же привлекло внимание специалистов2. Однако его перевод на русский язык появился лишь через 32 года. Он был издан в 2022 г. благодаря просветительской программе издательства «Academic Studies Press – Библиороссика». Это не только делает книгу более доступной для российских читателей, но и безусловно повысит её востребованность в отечественной историографии. Хорошая монография стареет медленно, отличная не устаревает вовсе, а работа Брэдли пока успешно выдерживает проверку временем. Именно поэтому имеет смысл вернуться к анализу и оценке проделанного автором труда и его результатов.
В основе исследования лежат коллекции девяти фондов различных архивов США и Великобритании, а также многочисленные опубликованные источники, список которых достигает 15 страниц (с. 301–315)3, не говоря уже об обширной научной литературе на русском, английском, французском и немецком языках. Не следует забывать, что в 1980-х гг., когда писалась книга, зарубежный учёный, изучавший военную историю Российской империи, практически не имел возможности получить доступ к архивным материалам в СССР (с. 5). Однако Брэдли удалось показать, как много можно извлечь из документов, к которым теперь совсем не просто добраться историкам из России. Так или иначе, использование иностранных источников по истории России по-прежнему актуально. К тому же Брэдли успешно вписывает в исторический (в том числе международный) контекст столь важный и сложный процесс, как перевооружение огромной армии одной из великих держав. Его суждения об уровне развития русской военной промышленности и её потребностях отличаются взвешенностью и глубоким знанием предмета.
Вслед за Т. Шаниным Брэдли полагает, что «Россия XIX века являла собой типичный пример развивающейся страны в современном смысле этого понятия: традиционная социальная структура, самообеспечивающая экономика и устоявшийся государственный аппарат». Её политику «веками определяли потребности армии». Но если «до Крымской войны Россия практически полностью обеспечивала себя военным стрелковым оружием», то «в эпоху быстрых перемен в конструкции и методах производства ружей для пехоты данная отрасль оружейной промышленности России впала в технологический застой» (с. 13–14).
Между тем превосходство на поле боя всё чаще обеспечивалось не наращиванием численности войск, а качеством их вооружения. И хотя Брэдли в соответствии с историографической традицией утверждает, что «в эпоху гладкоствольных мушкетов основанная на принципах А. В. Суворова тактическая доктрина многочисленной кадровой армии практически не менялась» (с. 16), изучение уставов николаевского царствования свидетельствует о постепенно возраставшем внимании к возможностям стрелковых частей и подразделений4. В целом русская армия, как и другие, развивалась вместе со временем. Конечно, удар пехоты по-прежнему предполагалось завершать холодным оружием, причём как в России, так и в США (под Фредериксбергом, Чанселорсвиллем и Гейтисбергом и т. д.). Кстати, называлось это тогда наполеоновской тактикой5. Необходимо учитывать и то, что перед Крымской войной войска Российской империи готовились не столько к многомесячным осадам, сколько к манёвренной войне, в которой скорострельность гладкоствольного ружья была важнее дальнобойности нарезного, заряжавшегося дольше6. Сказывались также и «мизерность сумм», отпускавшихся из казны на изготовление солдатских ружей, и трудности, возникавшие при обучении вчерашних крестьян «использованию и обслуживанию сложного оружия», и сложность его ремонта в полковых мастерских (с. 82–87). Неудивительно, что, рассмотрев все эти факторы, Брэдли признаёт: сделанный при Николае I «выбор систем вооружения имел немалый смысл» (с. 83). Жаль только, что при этом воспроизводятся давно уже устаревшие стереотипы, будто бы русский солдат вплоть до 1874 г. служил в армии по 25 лет и т. п. (с. 85).
Так или иначе, Россия была вынуждена приспосабливаться к требованиям нового времени, создавая, по выражению Дж. Фуллера, собственные «нации оружейников и специалистов» (с. 14) и активно изучая и перенимая зарубежный опыт7. Делать же это приходилось в условиях, когда «правительство зачастую оказывалось единственным потребителем иностранных продуктов или технологий», а частные предприятия играли «незначительную роль в инновациях» (с. 22).
В первой главе монографии Брэдли прослеживает развитие огнестрельного оружия «в индустриальную эпоху» (с. 28–80). При этом он подробно освещает техническую сторону организации производства (с. 46–52) и отмечает, что его механизация приводила к упрощению процесса, тогда как ранее, наоборот, росло количество операций при изготовлении стволов, замков и т. д. Применение машин позволяло сделать выпуск продукции массовым и одновременно решить проблему унификации и взаимозаменяемости деталей, что было невозможно без высокоточных измерений (с. 56–80). Первых успехов в деле стандартизации и механизации Франция и Англия добились в конце XVIII – начале XIX в. Важным этапом на этом пути стало изобретение в 1827 г. игольчатого ружья системы Дрейзе, принятого в прусской армии в 1840-х гг. (с. 31–32, 52–56).
Не оставались в стороне и американские оружейники (с. 56–58). В 1819 г. арсенал Харперс-Ферри выполнил первый заказ на изготовление партии казнозарядных ружей с взаимозаменяемыми деталями (с. 60). Способность пойти на смелый эксперимент и рисковать для того, чтобы получить преимущества перед конкурентами, являлась сильной стороной американцев. В 1850-х гг. их примеру последовали британцы на знаменитом оружейном заводе в Энфилде (с. 61), хотя тогда взаимозаменяемость оставалась условной, а точность машинной обработки нуждалась в усовершенствовании (с. 62).
Очень многое для этого было сделано на заводах полковника С. Кольта в США и Великобритании (с. 66), ставшего с 1850 г. одним из наиболее активных продавцов револьверов в Англии, Франции, Бельгии и т. д. (с. 72–75). Поступали они и в Россию, находившуюся в очень хороших отношениях с США, чему способствовала «общая враждебность к Англии» (с. 96). Как показано в главе «Стрелковое оружие в дореформенной России. Русский “кольт”», американский оружейник трижды посещал империю (с. 103–104). Впервые он приехал в Петербург в апреле 1854 г., представив своё изобретение – шестизарядный револьвер, понравившийся Николаю I. Вскоре 400 револьверов Кольта образца 1851 г., выпущенные на Тульском заводе, поступили на вооружение Гвардейского экипажа8. Дальнейшему сотрудничеству в период Крымской войны помешал запрет нейтральной Пруссии на перевозку оружия через её территорию. Попытка его обойти привела к перехвату партии военной контрабанды в 145 тюках с хлопком, в каждом из которых таможенники обнаружили по 24 револьвера (с. 105–106).
Глава «Русская индустрия стрелкового оружия» (с. 115–165), написанная довольно объективно, носит скорее просветительский характер, сообщая читателям общеизвестные сведения о том, что частной военной промышленности в России не существовало, а казённая, основанная при Петре I, практически не зависела от рынка и испытывала трудности из-за низкого уровня технических навыков населения и т. д. Гораздо более оригинальна, пожалуй, самая важная глава в книге – «Америка и русская винтовка» (с. 166–220). После заключения Парижского мира 1856 г. темпы перевооружения стали «лихорадочными» – быстро появлялись новые системы нарезного оружия, но ни в одной крупной армии мира не знали, какую из них предпочесть (с. 167). В период Гражданской войны 1861–1865 гг. даже североамериканская промышленность не смогла обеспечить единообразными ружьями свои импровизированные армии, в которых под знамёнами одновременно находились почти 1,5 млн солдат, а всего были призваны 2 688 523 человека9. В ходе австро-прусской войны 1866 г. игольчатая винтовка Дрейзе в полной мере продемонстрировала свои возможности – среди раненых на одного пруссака приходилось восемь австрийцев10. В конце 1860-х гг. необходимость замены старых гладкоствольных ружей признавалась уже всеми11. В России первоначально остановились на игольчатых винтовках двух «переделочных» систем – Й. Карле в 1867 г. и С. Крнка в 1869 г.12 Это совпало с началом резкого роста военного бюджета империи, продолжавшегося вплоть до конца царствования Александра II13.
В то же время сокращение спроса на внутреннем рынке и рост международных заказов в связи с массовым переходом европейских армий на казнозарядные винтовки превратили США в крупнейшего экспортёра стрелкового оружия в 1868–1878 гг. (с. 71). Американцы поставляли винтовки Снайдера во Францию, Пибоди-Мартини – в Турцию14, но в России их дела в 1860-х гг. обстояли далеко не блестяще: револьверы Кольта критиковали за сложность производства и ненадёжность, а остальные изделия не вызвали особого интереса (с. 111–112). Ставка делалась на собственные конструкции (с. 113), поскольку Россия, естественно, не желала зависеть от экспорта. В свою очередь данное решение подразумевало реконструкцию военной промышленности, зависевшую от избранных для копирования образцов и финансовых возможностей. Анализируя эти процессы, Брэдли извлёк сведения из статистических справочников, высоко оценил и тщательно проработал публикации таких специальных изданий, как «Оружейный сборник», «Артиллерийский журнал», «Военный сборник», «Инженерный журнал», «Горный журнал» и «Русский инвалид». Но им использован всего один (к счастью, опубликованный) всеподданнейший доклад военного министра за 1861 г., который стоило бы дополнить, по крайней мере, издававшимися отчётами государственного контролёра и известным трудом И. С. Блиоха15.
В обстановке стремительных перемен русскому правительству следовало учесть опыт передовых стран и оценить возможность и перспективы его применения в России при необходимом ей количестве и качестве винтовок. Важную роль в этом деле сыграл полковник (с 1880 г. – генерал-лейтенант) А. П. Горлов (с. 175–180), отправленный в США ещё до завершения Гражданской войны для изучения местного оружия и способов его производства. Эта командировка весьма хорошо описана Брэдли (с. 177–213, 240–263). В итоге в Петербурге сочли оптимальной американскую систему полковника Х. Бердана, сочетавшую преимущество откидного затвора и металлического патрона (с. 180). Правда, поначалу отечественные оружейники были недовольны качеством американских стальных стволов16. После значительных изменений, сделанных русскими офицерами, винтовка в Америке получила прозвище «Russian musket». Проведённые испытания показали её огромное превосходство над имевшимися в России шестилинейными ружьями. В 1869 г. завод Кольта получил заказ на 30 тыс. таких изделий17, но производственные мощности фирмы не позволили исполнить контракт ранее, чем через два года, тогда как три казённых и четыре частных завода в год переделывали под систему Крнка до 369 164 винтовок18.
Первые образцы берданок, поставленные в армию, сразу же заслужили высокую оценку (с. 185). Однако, вопреки мнению А. Г. Тарсаидзе, они не являлись основным оружием пехоты в 1870-х гг. ни в Туркестане, ни на Балканах и в Малой Азии (с. 186), что отмечает и Брэдли (с. 214–215). Система Крнка считалась всё же более дешёвой и простой19. Ижевский завод, например, сдавал государству винтовку Крнка по 15 руб. 50 коп. за штуку, а берданку – по 18 руб.20 И, хотя в боях ружья Крнка оказались весьма капризны и ненадёжны21, их дешевизна оставалась решающим фактором. Серийный выпуск берданок начался только в 1874 г., а перевооружение ими армии закончилось через 10 лет. На Балканы войска выступили с винтовкой Крнка, а в Азии на вооружении оставалась система Карле22. Её также считали очень надёжной и скорострельной23. Тем не менее с конца 1860-х гг. в России осознавали необходимость создать отечественную базу для производства берданок, чем также успешно занимался Горлов.
О соотношении огня и удара автор пишет достаточно традиционно, подвергая особой критике М. И. Драгомирова (с. 204–207). Однако генерал вовсе не принадлежал к ретроградам24. Конечно, он не сумел оценить преимуществ пулемёта (и здесь был не одинок, поскольку первые их модели не отличались надёжностью, да и опыт использования картечниц в 1870–1871 гг. не вдохновлял25), но поддержал такое революционное нововведение, как полевая шестидюймовая гаубица26, которую благодаря ему приняли на вооружение в 1889 г.27 С другой стороны, в армии действительно насчитывалось немало противников скорострельного оружия, скептически оценивавших его возможности (с. 210–213).
В главе «Трудовые ресурсы, организация производственного процесса и передача технологии. Реорганизация русских оружейных заводов» (с. 221–279) Брэдли, опираясь на источники иностранного происхождения, дал весьма основательный обзор технологий изготовления оружия в США, Англии, Бельгии и охарактеризовал становление новой, машинной военной промышленности в России. На русских офицеров, командированных за границу, именно американский опыт производил наиболее благоприятное впечатление, поскольку высокий уровень механизации производства приводил к росту точности и низкому проценту брака (с. 246–249). Американское оборудование совершило настоящий переворот на Тульском оружейном заводе, где ранее бóльшая часть работ осуществлялась вручную (с. 249–254). За ним последовали Ижевский и Сестрорецкий, а также казённый завод в Петербурге, где удалось наладить выпуск металлических патронов (с. 256–265). Впрочем, отсталость машиностроения по-прежнему негативно влияла на возможности русских оружейников (с. 265–271).
Безусловно, военная промышленность была и остаётся комплексом наиболее технологически сложных производств, и неудивительно, что государство и в имперский, и в советский периоды выступало основным заказчиком и организатором переноса передовых изобретений на русскую почву (с. 295–296). Эти заимствования были особенно важны при слабости отечественного станко- и моторостроения. Однако без собственной инженерной школы их дальнейшее развитие зависело от множества обстоятельств и прежде всего – от внимания со стороны государства.
Примечания
1 Bradley J. Guns for the Tsar. American technology and the small arms industry in Nineteenth century Russia. Dekalb (Ill.), 1990.
2 См., в частности, рецензию У. С. Фуллера: Slavic Review. Vol. 51. 1992. № 4. P. 823–824.
3 В этом перечне источников, правда, можно встретить не только опубликованные документы, статьи из «Артиллерийского журнала» и «Оружейного сборника», специальную литературу XIX в., мемуары и проч., но и исторические труды (например, Колчак В. И. История Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом артиллерийской техники. СПб., 1903 (с. 305)) и даже художественные произведения Н. С. Лескова и Ю. В. Трифонова (с. 305, 311).
4 Так, согласно изменениям, внесённым 5 февраля 1852 г. в Устав о строевой пехотной службе, вооружённые штуцерами стрелки включались во взводы застрельщиков, которым надлежало действовать в рассыпном строю и в каре, что отрабатывалось на ротных, батальонных и линейных учениях. В 1854 г. для стрелковой подготовки старослужащим солдатам выдавалось пороха на 10, а свинца на 5 выстрелов, рекрутам соответственно – на 15 и 8. Разумеется, этого было совершенно недостаточно (каждую пулю предполагалось использовать дважды). С 1856 г. нормы боеприпасов для учебной стрельбы повысили: для Гвардейского, Гренадерского, шести пехотных и Кавказского корпусов, Образцового полка, сапёрных и линейных батальонов, дружин государственного ополчения и рекрут – до 25 боевых и 30 холостых патронов, для всех нижних чинов и ополченцев, вооружённых штуцерами и нарезными ружьями, для стрелковых полков и батальонов – пороху на 225 боевых и 30 холостых выстрелов и свинца на 150. Кадетам полагалось от 200 боевых и 100 холостых патронов в Пажеском до 600 и 300 в Первом и Втором кадетских корпусах. Константиновский кадетский корпус получил на учёбу по 2 тыс. боевых и по тысяче холостых выстрелов. В годы Восточной войны доля и численность лёгкой пехоты увеличивались за счёт резерва. Каждая бригада резервных дивизий шести пехотных корпусов должна была состоять из двух полков – пехотного и егерского. Подробнее см.: Айрапетов О. Р. Развитие положений об огневом бое в Уставах русской армии в 1831–1866 гг.: к вопросу о военных реформах 1860–1870-х гг. // История. Научное обозрение OSTKRAFT. 2018. № 3. С. 7–10.
5 Sweetman J. The influence of the Napoleonic tactics on the American Civil war // L’influence de la Révolution Française sur les armées en France, en Europe et dans le monde. Actes № 15. Vincennes, 1991. P. 297–309.
6 Фёдоров В. Г. Эволюция стрелкового оружия. Ч. 1. М., 1938. С. 9.
7 О его усвоении свидетельствовали, в частности, статьи в русской военной периодике, к сожалению, не учтённые автором монографии: О солдатском ружье // Военный журнал. 1827. № 4; Прочность солдатских ружей // Артиллерийский журнал. 1839. № 4; Описание бельгийского способа приготовления ударных колпачков // Там же. 1845. № 3; О новых французских карабинах и об их употреблении // Там же. 1847. № 6; Лугинин В. Ручное огнестрельное оружие французских, английских и сардинских войск, бывших в Крыму // Там же. 1857. № 1; О нарезном стрелковом оружии // Инженерный журнал. 1858. № 1; Эгерштром Н. Сведения, относящиеся до введения в русской армии ручного оружия уменьшенного калибра // Оружейный сборник. 1861. № 1; Пленнис В. Игольчатое оружие. Материалы для критики оружия, заряжающегося с казённой части // Оружейный сборник. 1867. № 2.
8 Мавродин В.В., Ефимов Ю. Г. Самуэль Кольт в Петербурге // История Петербурга. 2004. № 5(21). С. 84.
9 Фёдоров В.Г. В поисках оружия. М., 1964. С. 154; Draper J. W. History of the American Civil war. Vol. 3. N.Y., 1870. P. 646.
10 Фёдоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. СПб., 1911. С. 166.
11 Бильдерлинг П. Русская игольчатая винтовка (исторический очерк постепенных совершенствований над системою Карле и Закса) // Оружейный сборник. 1868. № 1. С. 1–4.
12 Под них переделывали дульнозарядные винтовки образца 1856–1858 гг. (Фёдоров В. Г. Вооружение русской армии… С. 175–176).
13 Блиох И. С. Финансы России XIX столетия. История – статистика. Т. 2. СПб., 1882. С. 195, 228.
14 Фон-дер-Ховен А. Заметка о Провиденском заводе и о ружьях Пибоди-Мартини, турецкого образца // Оружейный сборник. 1877. № 4. С. 16–17, 26; Achtermeier O. The Turkish Connection. The Saga of the Peabody-Martini Rifle // Man at arms. Vol. 1. 1979. № 2. P. 14–21.
15 Блиох И. С. Указ. соч. Т. 2–3. СПб., 1882.
16 Saul N. Concord and conflict: the United States and Russia, 1867–1914. Lawrence (Kansas), 1996. P. 107.
17 Буняковский В. Несколько слов о свойствах русской 4,2 лин[ейной] винтовки, об испытании оной в Америке, об улучшениях, произведённых в ней, и о преимуществах оной перед другими образцами оружия, заряжающегося с казны // Оружейный сборник. 1869. № 4. С. 1, 5.
18 Чебышев В. Современное положение ружейных заводов в Англии, Бельгии, Пруссии и Австрии // Оружейный сборник. 1873. № 1. С. 2.
19 Аргамаков В. О русском переделочном скорострельном оружии // Оружейный сборник. 1875. № 2. С. 26.
20 Ижевский оружейный завод // Оружейный сборник. 1885. № 3. С. 25.
21 Куропаткин А. Н. Блокада Плевны // Военный сборник. 1887. № 4. С. 180; Лопатин И. Три года из жизни 6-го пехотного Либавского полка (воспоминания участника кампании 1877–1878 гг.) // Военный сборник. 1902. № 6. С. 34; Аргамаков В. Ф. Воспоминания о войне 1877–[18]78 гг. // Журнал Императорского русского военно-исторического общества. 1911. Кн. 4. С. 77–78.
22 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцатипятилетие благополучного царствования государя императора Александра Николаевича (1855–1880). Т. 6. СПб., 1881. С. 69, 143.
23 Буняковский В. Русская игольчатая винтовка // Оружейный сборник. 1868. № 1. С. 36–38; Фёдоров В. Г. Вооружение русской армии… С. 210.
24 Подробнее см.: Юдин С. С. Солдат империи. Генерал М. И. Драгомиров. Реформатор. Учитель. Военачальник. М., 2021.
25 Применимы ли картечницы в полевых сражениях? Записка офицера Генерального штаба. СПб., 1877. С. 11, 14; Н. А. Картечницы и автоматические ружья Мэксима // Артиллерийский журнал. 1885. № 1. С. 28–30; Н. Л. Самострельная артиллерия // Там же. 1889. № 9. С. 773–775; О результатах приёмного испытания пяти 3-л[и]н[ейных] автоматических пулемётов системы Максима // Там же. 1894. № 12. С. 581–584
26 Сообщение генерал-майора Энгельгардта о новой укороченной 6-дюймовой пушке и замечания, вызванные этим сообщением в Николаевской академии Генерального штаба 21 и 28 января, 4 и 11 февраля 1888 г. СПб., 1888. С. 2, 87.
27 Приказ № 225. С[анкт]-Петербург. Сентября 22-го дня 1889 года (по Главному артиллерийскому управлению) // Алфавитный указатель приказов по военному ведомству и циркуляров Главного штаба за 1889 год. СПб., 1890. С. 453.
About the authors
Oleg Airapetov
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: info@rcsi.science
кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления
Russian Federation, MoscowReferences
Supplementary files