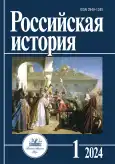Rec. ad op.: J. Keating. On arid ground: Political ecologies of empire in Russian Central Asia
- Authors: Bolshakova O.1
-
Affiliations:
- Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 198-205
- Section: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/257093
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24010169
- EDN: https://elibrary.ru/CEGQCR
- ID: 257093
Cite item
Full Text
Full Text
J. Keating. On arid ground: Political ecologies of empire in Russian Central Asia. Oxford; New York: Oxford university press, 2022. XII, 252 p.[1*]
Интерес англоязычной историографии к Средней Азии стал заметен уже в 2000-х гг., когда значительно усилилась грантовая поддержка исследований этого региона и активно развивалось научное сотрудничество с бывшими советскими республиками. В фокусе внимания историков-русистов, сосредоточившихся на изучении России как империи, находился процесс включения в её состав территорий современных Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стадии этого процесса Ш. Келлер охарактеризовала как «сосуществование, завоевание, конвергенция»2. Тем не менее большинство работ посвящено не столько раннему этапу «сосуществования», сколько последующим стадиям «завоевания» и «конвергенции», т. е. XIX – началу ХХ в. с выходом на раннесоветское время (хотя вопрос о том, являлся ли Советский Союз империей, пока не решён)3.
Центральное место в англоязычной историографии занимают проблемы империостроительства и управления территориями, что включает в себя воссоздание картины взаимодействия имперских властей и местных сообществ, отсюда – обострённое внимание к религии и социальным практикам населявших эти регионы народов. Однако в последнее время наблюдается возникновение устойчивого интереса к материальной составляющей – к природе как объекту и субъекту исторического процесса. Новый подход можно было бы охарактеризовать как переход от изучения культуры к исследованию экосистем в самом широком смысле этого слова; он реализуется в русле так называемой экологической истории (environmental history).
В своей подробнейшей истории завоевания Средней Азии А. Моррисон отметил значение фактора окружающей среды, прежде всего для военных кампаний. Их планирование зависело от местности (степь, пустыня, горы, оазисы), климата, наличия инфраструктуры и возможностей снабжения войск. Моррисон подчёркивает значение вьючных животных, особенно верблюдов, наличие которых было решающим для достижения военного успеха в засушливых регионах. Именно природный фактор, а не желания государственных деятелей «с их предрассудками, паранойей и заботой о престиже», явился определяющим для завоевания Восточного Туркестана Китаем в XVIII в. и сыграл свою роль в российской экспансии в XIX в.4
Новый, «инвайронменталитский», взгляд на завоевание и освоение Средней Азии представлен в монографиях Ю. Обертрайс и М. Петерсон, где рассматриваются два важных аспекта «российского колониального эксперимента»: выращивание монокультуры хлопчатника и ирригация5. Сюжеты книг ожидаемо пересекаются и, при всём различии в подходах, обе исследовательницы показали всемирный характер происходивших в эпоху «высокой модерности» процессов по превращению «пустынных» земель в цветущие оазисы. В основе масштабных проектов по трансформации окружающей среды лежала не знавшая политических границ модернистская идеология с её оптимистической верой в научно-технический прогресс, в рациональность, в господство человека над природой. «Цивилизаторская миссия» Российской империи в Средней Азии в конце XIX – начале ХХ в. опиралась на идеи о превосходстве европейской науки, на «мечты» политиков, учёных, инженеров и предпринимателей о привнесении прогресса и процветания в пустыню – не случайно это слово присутствует в названиях обеих книг. Мечты, как демонстрируют оба автора, реализовались уже в советское время, со всеми катастрофическими для природы и государства последствиями.
Книга британской исследовательницы Дженнифер Китинг продолжает эту линию, анализируя политическую экологию Российской империи в колониальном контексте. По словам автора, история империи фундаментально связана с окружающей средой, поскольку империя «развивается через природу», изменяя её и изменяясь сама под воздействием физико-географических условий. Объектом исследования стало Туркестанское генерал-губернаторство, образованное в 1867 г., хотя основное внимание Китинг уделяет периоду 1881–1916 гг. По её словам, это был «последний имперский проект России», который осуществлялся в новую эпоху развития науки и технологий, транспортного сообщения и коммуникаций, глобализирующихся рынков и нарастающих волн миграции (p. 4). Автор сразу заявляет о своём фактически всеобъемлющем подходе, не сосредоточенном на изучении какого-то одного объекта, как хлопок или строительство ирригационных сооружений.
Как пишет Китинг, для того, чтобы понять империю в российском воплощении, требуется «целостное рассмотрение окружающей среды и её роли посредника в контексте расширения политического суверенитета и построения асимметричных политических режимов власти, процессов миграции и торговли». Власть и суверенитет, раса и гендер, наконец, капитал, – все эти категории традиционного исторического исследования «физически, интеллектуально и юридически имеют отношение к природе и укоренены в ней» (p. 3–4). Значимыми компонентами имперского режима наряду с установлением контроля над территорией являются управление окружающей средой, создание транспортной инфраструктуры, заселение и «улучшение» земли в самом широком смысле этого слова, развитие земледелия и извлечение ресурсов (p. 7).
Все эти сюжеты весьма значимы для экополитологии – дисциплины, подчёркивающей политическое измерение природных объектов и базирующейся на экологии, истории и антропологии. Экологический подход обусловливает внимание к таким проблемам, как коммодификация природы (превращение её в товар), а также нанесение ей ущерба. Обширность туркестанского региона и разнообразие его природных условий дают богатейший материал для изучения экологических изменений, которые, как постаралась показать Китинг, оказали решающее влияние на сам ход строительства империи в регионе и явились значимым фактором её распада, запущенного Туркестанским восстанием 1916 г.
Рассматривая историю развития железнодорожной сети, переселенческий процесс и связанные с ним практики землепользования, модели «озеленения пустыни» и извлечения ресурсов региона, Китинг обращается к соответствующим источникам. Как и подавляющее большинство работ зарубежных историков-русистов, её исследование даёт «русский взгляд» на рассматриваемый материал, что традиционно считается недостатком: почти не слышен голос местного населения, многократно превышавшего количество русских переселенцев (400 тыс. против 6,5 млн в 1911 г.). Однако следует учитывать, что автор исследует именно Российскую империю и потому использует традиционные для темы официальные источники, публицистику и прессу, географические описания и записки путешественников (травелоги), художественную литературу, в том числе произведения среднеазиатских писателей и акынов. Ей не удалось получить доступ в архивы Туркменистана и Узбекистана, однако достаточно богатый материал предоставил Государственный архив Казахстана в Алматы. Нехватку компенсировали центральные архивохранилища России, в первую очередь РГИА и РГВИА, где хранится делопроизводственная документация, обычно дублирующая ту, что находится в архивах местных.
Поскольку важнейшую роль в исследовании играли визуальные источники, ценный материал Китинг черпала в Центральном государственном архиве кинофотодокументов Санкт-Петербурга, в фондах Государственного Исторического музея в Москве, РНБ, РГБ и Национальной библиотеки Казахстана. Основной объём, наряду с живописью и графикой, составляют фотографические и картографические материалы: виды Средней Азии, её ландшафтов и новых поселений, садов и плантаций, железнодорожных станций и ирригационных сооружений; альбомы выставок и архитектурные проекты, карты прокладывавшихся железнодорожных линий, планы поместий и проч. Часть из них попала на страницы книги, однако они служат не только для иллюстрации: автор рассматривает визуальный материал в совокупности с текстами, чтобы выявить роль образов в конструировании пространственных нарративов о Туркестане.
По мнению автора, дискурсивное тесно связано с материальным. На восприятии колонизаторами разнообразных ландшафтов и не менее разнообразного населения Туркестана основывались их планы по трансформации региона. Ключевое значение здесь имела идея окультуривания и обработки больших неиспользуемых площадей «безжизненной» пустыни и степи. И если степь была уже хорошо знакома «коллективному воображению» империи – и как ландшафт, и как историческое пространство, то пески, тем более таких масштабов, как пустыни Каракумы и Кызылкум, представляли собой нечто новое.
Образ пустыни занимал центральное место в русском дискурсе о Средней Азии, о чём напоминает читателю название книги. Пустыня описывалась как мир неизвестный и угрожающий, более опасный для жизни, чем вражеские войска. «Страна зноя и жажды», она ассоциировалась с лунным ландшафтом, и в восприятии первого генерал-губернатора Туркестана К. П. фон Кауфмана отсутствие людей и деревьев было главным признаком «опустошённости» края. Чтобы превратить эту «бесприютную» землю в «ландшафт», её следовало засадить растительностью. Такого рода описания характерны для текстов военных, инженеров и всех тех, кто был озабочен вопросами экономического развития6.
Улучшения могли быть привнесены только извне, и по мнению цивилизаторов, край и его население только и ждали этого. Миссия Российской империи подавалась людьми, вовлечёнными в процесс, как принесение цивилизации в страну, стагнировавшую «под игом ислама и азиатского деспотизма», как противостояние организации и эффективности местному «хаотическому беспорядку». Таким образом обосновывалось превосходство русского правления, экспортировавшего достижения Запада на Восток (p. 22).
В имперской экологической экспансии выделяют следующие стадии: изучение (exploration, т. е. не столько исследования, сколько разведка), упорядочение, объяснение и овладение. Первая стадия активизировалась в Средней Азии в середине XIX в. благодаря главным образом усилиям Императорского Русского географического общества. Однако и в 1910 г. там оставалось много мест, где «не ступала нога русского человека».
Несмотря на увеличивающийся объём знаний о природном разнообразии Туркестана, преобладающим оставался первоначальный образ «пустыни», губительной для тела и духа (p. 20). В то же время оазисы Туркестана с их «страшным плодородием» выступали в описаниях контрастом «абсолютному бесплодию» пустынных земель и давали представление о том, во что можно превратить мертвую землю. Как отмечает Китинг, дистанцируясь в своём исследовании от концепции ориентализма, «колебания между изобилием и нехваткой» – характерная логика фронтира, основанная на резких противопоставлениях (p. 22).
По наблюдениям автора, колебания между оптимизмом и пессимизмом, между интеграцией и сегрегацией составляют важную характеристику политики Российской империи в Туркестане. Вторжение в жизнь местного населения, определявшегося как «неразвитое и фанатичное», представлялось политически опасным, в то время как природа, при всей трудности её покорения, казалась менее сложным объектом для реализации имперской миссии и легитимизации русского присутствия (p. 23).
Делом первой необходимости являлось строительство железных дорог, которое началось в 1880 г. и имело своей первоначальной целью обеспечить подвоз войск и всего необходимого для окончательного завоевания Туркестана. Однако довольно быстро линия, получившая название Транскаспийской и к концу века обеспечившая прямую транспортную связь с оазисами Ферганской долины, стала служить гражданским целям, способствуя экономическому развитию региона и, соответственно, превращению его в «товарный фронтир» (commodity frontier). Подобную стратегию можно интерпретировать не только как одно из проявлений транспортной революции, охватившей во второй половине XIX в. страны Европы и Америки, но и как «железнодорожный империализм» (railway imperialism), оставивший свои неизгладимые следы на экосистемах.
Мургабская линия, ведущая к Кушке на границе с Афганистаном и имевшая исключительно военное назначение, стала «эмблемой территориального суверенитета России», виртуально закреплённого на географических картах, а материально – в объектах, обозначавших российское присутствие (рельсы и шпалы, железнодорожные станции и водокачки, череда телеграфных столбов и проч.) (p. 50). Строилась эта линия военными подразделениями и персидскими рабочими, которых нанимали только на три месяца – дольше выдержать крайне тяжёлые условия было невозможно. Казалось, сама природа противилась строительству. Главную проблему представлял климат, когда температура могла колебаться от +45 градусов днём до нуля ночью. Воду приходилось привозить или опреснять, провиант и все необходимые товары, включая строительные материалы, – доставлять из России. Рабочие болели малярией, лейшманиозом и другими паразитарными болезнями. Настоящим бедствием были скорпионы и тарантулы, а термиты быстро разъедали деревянные части конструкций, в том числе и телеграфные столбы (p. 38).
Негостеприимная природа регулярно ставила перед инженерами сложные задачи и требовала нетривиальных решений. Например, строительство моста через Амударью, которая ежегодно разливалась на несколько километров и славилась непредсказуемостью, постоянно меняя своё русло, представляло собой серьёзную проблему. Инженерное решение для постройки постоянного моста из металлоконструкций было найдено только в 1901 г. и основывалось на зарубежном опыте.
При прокладывании Транскаспийской железной дороги от Красноводска встала проблема песчаных заносов. Там, где линия проходила через барханы высотой несколько метров, предлагалось убрать их либо поднять над ними железнодорожное полотно; другим вариантом были круглосуточные бригады, которые расчищали бы пути. В итоге было решено использовать методику, успешно применявшуюся в Алжире: стабилизировать пески, создав лесозащитные полосы из местной флоры. Это было непросто, поскольку требовался постоянный уход, расчистка и подсаживание новых растений (в 1901 г. от града погибло 2,5 млн саженцев в питомниках), но оказалось эффективно. И когда в 1911 г. знаменитый фотограф С. М. Прокудин-Горский проехал по этой железной дороге, он имел возможность запечатлеть «озеленение пустыни». Кардинальное изменение ландшафта подавалось тогда как свидетельство победы России в «борьбе с природой» (p. 42).
Озеленению в книге уделяется большое внимание: оно имело центральное значение для новой символической географии, имитируя Европейскую Россию. Город Верный, основанный в 1854 г., благодаря тенистым деревьям, а не довольно бедной архитектуре, быстро приобрёл черты имперскости. Не менее значимым направлением деятельности русской администрации являлось «улучшение земли», в полной мере продемонстрированное автором на примере Мургабского государева имения, заложенного в 1887 г. неподалёку от только что открывшейся станции Закаспийской железной дороги Байрам-Али, в окрестностях древнего Мерва. Постепенно оно превратилось в сложно организованное экономическое предприятие с развитой системой орошения европейского образца, с виноградниками и миндальными плантациями, фруктовым садом и парком, со своим хлопковым заводом, городком для служащих и клубом с театральным залом7. Имение существенно преобразило ландшафт, сделав его «знакомым» для русских поселенцев и одновременно «европейским». Действительно, тенистый парк с вечнозелёной растительностью, раскинувшийся к настоящему времени на 44 га, напоминал парки Крыма (и других территорий империи с мягким или жарким климатом), которые закладывались 1830–1850-х гг. с опорой на английские традиции и с использованием импортного посадочного материала. «Восточный» колорит там также присутствовал, особенно ярко проявляясь в архитектуре зданий и дворцов.
Здесь следовало бы добавить, что в данном случае применялся подход, практиковавшийся с 1840-х гг. Министерством государственных имуществ (МГИ). Просвещение аграриев, организация сельскохозяйственных обществ и училищ, создание образцовых хозяйств, которые послужили бы примером для всей округи – эти методы распространились в конце XIX в. и на Туркестан. Но в любом случае следует согласиться с автором, что «улучшение природы» (включавшее в себя борьбу с песками, засолением почв и многим другим) представляло собой, по существу, политический акт (p. 82). Опыт царской экономии, как тогда называли Мургабское имение, оказал большое влияние на взятие преемником МГИ – Министерством земледелия и затем Главным управлением землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) курса на активизацию переселенческого дела.
По мнению Китинг, созданием образцовых хозяйств государство, с одной стороны, предоставляло местным жителям пример процветания, с другой – исключало из этой модели кочевое население, лишая его доступа к пастбищам и воде (p. 25). Политика ГУЗиЗ по расширению аграрной миграции в Среднюю Азию имела своей целью, в формулировке главы управления А. В. Кривошеина, создание «второго Туркестана» – крестьянского, т. е. русского, и кочевникам в нём не было места (как и в других империях, идущих по пути прогресса).
Большой интерес представляет рассмотрение визуального материала – многочисленных фотографий и брошюр, которые рекламировали Семиречье и другие регионы, привлекая переселенцев в этот рай на земле, суливший невиданные урожаи. В 1907 г. было распространено более 100 тыс. таких проспектов. Они не только служили непосредственным политическим целям, но и стали важным инструментом конструирования реальности, создавая образ Туркестана как национальной (т. е. русской) территории.
Реальность выглядела совсем иначе, однако многолетний труд относительно немногочисленных переселенцев действительно сильно изменил многие территории региона. Нельзя сказать, что Китинг усматривает в этом символическом присвоении новых земель путём окультуривания ландшафтов исключительно имперские смыслы. На местном уровне это было просто обустройство места, в котором людям приятно и комфортно жить. Однако ландшафт, сделавшийся «знакомым», имел прямое отношение к идентичности, в данном случае к русской, и здесь подчёркивается перформативная, культурная функция природы, а также связь между экологией и идентичностью.
Образ Туркестана как ещё одного алмаза в короне Российской империи рассматривается автором на примере выставок, где демонстрировались продукция и ресурсы региона. Здесь Китинг обращается к проблеме коммодификации природы, одной из значимых для экологической истории как дисциплины. Однако – и это относится к книге в целом, весьма небольшой по объёму – широкий подход не позволяет осветить проблему с достаточной глубиной. Собственно, это та цена, которую автор заплатила за попытку рассмотреть политическую экологию Туркестана во всей полноте её многоуровневых, в том числе глобальных, связей. Скорее в ней намечены серьёзные проблемы, которые требуют дальнейшего углублённого изучения. Излюбленный метод Китинг – яркие и многоговорящие примеры, такие как сюжет о сатонине (p. 175–180)8. В результате книга производит несколько мозаичное впечатление. Оно усиливается тем, что сюжеты первых пяти глав пересекаются между собой, подчёркивая невозможность чёткого структурирования (т. е. разделения) объекта изучения – природы, рассматриваемой и в материальном ключе, и с точки зрения истории идей. Тем не менее возникает целостное полотно, законченность которому придаёт последняя, шестая глава, посвящённая Туркестанскому восстанию 1916 г.
Этой теме уделено большое внимание и в русскоязычной, и в англоязычной историографии, недавно вышел сборник на английском языке9. Китинг предлагает новый ракурс, рассматривая восстание не только как реакцию на тяготы войны и злоупотребления «поселенческого колониализма» (settler colonialism), но в первую очередь как конфликт по поводу ресурсов (включая его последствия для окружающей среды). В чём-то её подход перекликается с тезисом М. Буттино о том, что революция в Средней Азии в целом представляла собой борьбу разнообразных групп населения за контроль над ресурсами и элементарное выживание10. Однако повествование Китинг обрывается, хотя события 1917–1918 гг. весьма трудно отделить от предшествующего им восстания. По всей видимости, автор сама осознавала проблематичность поставленного ею ограничения, о чём свидетельствует её недавнее обращение к теме революции и последовавшей Гражданской войны в Средней Азии11.
Книга Китинг принадлежит к тому направлению в зарубежной историографии, которое рассматривает Российскую империю как одно из многих современных ей государств того же типа, не лучше и не хуже других, со своими особенностями. Самыми заметными для англоязычных исследователей являются относительно низкий по сравнению с другими империями уровень насилия и отсутствие внятного отрефлексированного расового дискурса. Спираль насилия, как считается, стала раскручиваться в годы Первой мировой войны, и его уровень в Средней Азии, где раньше, чем в Европейской России, началась Гражданская война, в раннесоветское время намного превысил тот, который наблюдался в Российской империи, с её «величием» и «милостью», а также санкционированным «разнообразием», позволявшим любому народу найти себе в ней место12. Представляется, что экологический подход, использованный Китинг, предлагает новые перспективы для изучения периода 1917–1921 гг., когда повсеместно уничтожались результаты человеческого труда, реквизировались скот и зерно, разрушались каналы и плотины, и борьба за выживание принимала самый острый характер.
Примечания
[1*] Китинг Дж. На засушливой земле: Политическая экология империи в российской Центральной Азии. Оксфорд: Изд-во Оксфордского университета, 2022. XII, 252 с.
2 Keller Sh. Russia and Central Asia: coexistence, conquest, convergence. Toronto, 2020. За последнее время вышли обобщающие работы по этой теме: Kendirbai G. T. Russian practices of governance in Eurasia: Frontier power dynamics, sixteenth century to nineteenth century. Abingdon, 2020; Khalid A. Central Asia: A new history from the imperial conquests to the present. Princeton, 2021; Central Asia: Contexts for understanding / Ed. by D. W. Montgomery. Pittsburgh, 2022.
3 Martin V. Law and custom in the steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian colonialism in the nineteenth century. L., 2001; Frank A. J. Muslim religious institutions in imperial Russia: The Islamic world of Novouzensk district and the Kazakh Inner Horde, 1780–1910. Leiden, 2001; Brower D. R. Turkestan and the fate of the Russian empire. L., 2003; Northrop D. Veiled empire: Gender and power in Stalinist Central Asia. Ithaca, 2004; Crews R. D. For prophet and tsar: Islam and empire in Russia and Central Asia. Cambridge, 2006; Sahadeo J. Russian colonial society in Tashkent: 1865–1923. Bloomington, 2007; Morrison A. S. Russian rule in Samarkand, 1868–1910: A comparison with British India. Oxford, 2008; Explorations in the social history of modern Central Asia (19th – early 20th centuries) / Ed. by P. Sartori. Leiden, 2013; Khalid A. Making Uzbekistan: Nation, empire, and revolution in the early USSR. Ithaca, 2015; Kassymbekova B. Despite cultures: Early Soviet rule in Tajikistan. Pittsburgh, 2016; Campbell I. W. Knowledge and the ends of empire: Kazak intermediaries and Russian rule on the Steppe, 1731–1917. Ithaca, 2017; Cameron S. I. The hungry steppe: famine, violence, and the making of Soviet Kazakhstan. Ithaca, 2018; и др.
4 Morrison A. The Russian conquest of Central Asia: A study in imperial expansion, 1814–1914. Cambridge, 2021. Р. 49–50.
5 Obertreis J. Imperial desert dreams: Cotton growing and irrigation in Central Asia, 1860–1991. Gӧttingen, 2017; Peterson M. Pipe dreams: Water and empire in Central Asia’s Aral Sea Basin. Cambridge, 2019.
6 Показательно название одной из брошюр: Анненков М. В. Средняя Азия и её пригодность для водворения русской жизни // Известия Императорского Русского географического общества. Т. XXV. СПб., 1889. С. 277–293.
7 Хлопкоочистительный завод в Байрам-Али по-прежнему функционирует, а в 1933 г. на базе царской усадьбы был организован уникальный санаторий для климатического лечения почечных больных, который является старейшей здравницей Туркменистана.
8 Сатонин – глистогонное средство, добывавшееся из полыни определённого вида («цитварное семя»). К 1900 г. запасы этого растения в Алжире были исчерпаны, и Средняя Азия осталась единственным экспортёром, обеспечив, среди прочего, развитие промышленного животноводства в Европе, Северной и Южной Америке и Австралии.
9 The Central Asian revolt of 1916: A collapsing empire in the age of war and revolution / Ed. by A. Chokobaeva, Cl. Drieu, A. Morrison. Manchester, 2020.
10 Буттино М. Революция наоборот. Средняя Азия между падением царской империи и образованием СССР. М., 2007.
11 См.: Keating J. Devoured riches: thinking environmentally about conflict past and future (URL: https://blog.history.ac.uk/2021/03/devoured-riches-thinking-environmentally-about-conflict-past-and-future/).
12 См.: Payne M. J. «Do you want me to exterminate all of them or just the ones who oppose us?»: The 1916 Revolt in Semirech’e // Empire and belonging in the Eurasian borderlands / Ed. by K. A. Goff, L. H. Siegelbaum. Ithaca, 2019. P. 65–79.
About the authors
Olga Bolshakova
Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: info@rcsi.science
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
Supplementary files