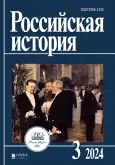The concept of legal dualism and its overcoming in contemporary studies of the Russian Empire
- Authors: Vernyaev I.I.1
-
Affiliations:
- Saint Petersburg State University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 22-42
- Section: Profession and community
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/264329
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030023
- EDN: https://elibrary.ru/GDZZXK
- ID: 264329
Cite item
Full Text
Abstract
The productive interdisciplinary exchange with legal anthropology and the “law and society” paradigm has significantly contributed to the formation of the “legal turn” in historical studies of empires. This “turn” has intensified the study of legal pluralism, the competition and mutual influence among various types of imperial jurisdictions (state, corporate, confessional, ethnic, estate-based, regional, communal, etc.), and the significance of law and judicial institutions in managing diversity and integrating imperial spaces. Additionally, it explores the role of judicial and legal institutions in reinforcing the status and identity of imperial communities and in shaping their interactions with the state. This article, in light of the new interdisciplinary synthesis, discusses one of the oldest and most enduring concepts in the legal-historical sphere of the Russian Empire — the model of “legal dualism”. Formed in the 19th century, this concept remains influential in historiography. It posits the coexistence and sharp distinction between two legal realms: on one hand, a unified realm of modern statutory law and corresponding institutions that regulate the lives of the empire's elite; and on the other hand, an ethnically and locally variable realm of particularistic “customary law” and associated conflict resolution practices prevalent among the heterogeneous population of the imperial center and periphery. According to this concept, the establishment of new courts modeled on European systems during the post-reform period exacerbated the legal and behavioral divide, disrupting pre-existing elements of pre-reform particularistic inclusion of ethnic and class communities. However, recent research has critiqued and revised the “legal dualism” concept in both the pre-reform and post-reform periods. Analyzing this historiographical dynamic has enabled the identification of the most promising avenues for further research on the legal-historical aspects of Russia from the 18th to the early 20th centuries, developing a more realistic depiction of the interaction between the state and various local, regional, class-based, ethnic, and confessional communities within the empire.
Full Text
В последние десятилетия в имперской историографии наметился и активно развивался «правовой поворот» 1, тесно связанный с влиянием юридической антропологии и междисциплинарного направления «право и общество» на исторические исследования империй 2. Они характеризуются особенным вниманием к правовому плюрализму в рамках империй и судебным институтам как важнейшим средствам интеграции имперского пространства.
Судебно-правовое направление исследует столкновение и взаимопроникновение различных правовых пространств и юрисдикций: общегосударственных, региональных, корпоративных, конфессиональных, этнических, сословных, локальных, общинных и проч. Изучение правовой политики в разных империях усложнило представление о самом государственном праве, которое прежде рассматривалось как преимущественно унифицированное и гомогенное. «Обычное право», в свою очередь, исследуется как колониальный конструкт, «выдуманная традиция», связанная с практиками имперского управления. С макроинституционального и нормативного подхода акцент во всё большей степени смещается на изучение судебно-правовой повседневности, на то, как люди и сообщества в реальности взаимодействуют с законом, судами разного типа, используют те или иные правовые нормы на практике. Особое внимание уделяется гибридным пространствам, местам и ситуациям (прежде всего судам, судебным процессам и средам вокруг них), где происходит реальное взаимодействие сообществ и государства, а также акторам-посредникам, обеспечивающим эти процессы (низовые чиновники, разные категории назначенных и выборных судей, поверенные, ходатаи по делам, знатоки закона и судебной процедуры, формальные и неформальные адвокаты, служащие, канцеляристы, переводчики и проч.). Формируется своего рода «этнография» смешанных зон взаимопроникновения государственных институтов и их акторов, с одной стороны, и разнообразных сообществ империй и их представителей – с другой. Имперский закон и обеспечивающие его общие судебные институты рассматриваются и как средство установления господства, гегемонии и иерархического порядка, и как «оружие слабых», средство обеспечения равенства и освоения государственных институтов представителями недоминирующих групп и страт.
Новые подходы в историографии «правового поворота» повлияли также на изучение «правового дуализма», под которым обычно понимается резкое различие между унифицированным, рациональным и гомогенным государственным правом империи и реализующими его модерными судебными институтами и, с другой стороны, миром правовых обычаев и народных институтов разрешения конфликтов. В настоящей статье проанализированы исследования концепции правового (судебно-правового) дуализма, намечаются некоторые ключевые перспективные направления изучения динамики судебно-правового поля поздней Российской империи.
В историографии имеются существенные расхождения в оценке результатов внедрения пореформенных судебных институтов, их способности унифицировать правовое пространство империи в условиях социокультурного разнообразия населения. Одна группа исследователей отстаивает модель крайнего правового дуализма, в соответствии с которым заимствованные в Европе принципы устройства суда, судебные процедуры, правовые нормы и ценности оказались несовместимы с правовыми представлениями и традиционными судебными практиками разнообразных сообществ империи. Яркий пример – работы немецкого историка Й. Баберовски 3, который исходит из того, что судебная реформа 1864 г. являлась амбициозной попыткой подчинить империю единой правовой системе и ликвидировать все сословные и этноконфессиональные партикулярные юрисдикции. Но цели абсолютно не соответствовали имперскому контексту и потому, полагает Баберовски, в основном не были достигнуты. Судебная реформа, по оценке исследователя, оказалась мертворождённой, так как не отражала ни управленческих потребностей администрации, ни чувства справедливости у большинства гетерогенного населения империи, ни особенностей его культуры.
Исключительное этническое и культурно-правовое разнообразие обусловило провал унифицированной и модерной по устройству судебной системы. Местные жители бойкотировали новую юстицию, свидетельством чего стала, в частности, массовая практика лжесвидетельства и даже насильственного сопротивления. Если представители местных сообществ и обращались в пореформенные российские суды, то использовали их в своих целях, не испытывая какого-либо уважения к этому институту и транслируемым им ценностям. На Северном Кавказе, в Степном крае, Туркестане и других окраинах в пореформенный период было особенно ярко выражено существование двух параллельных судебно-правовых систем. Хотя закон предусматривал юрисдикцию российских судов по тяжким преступлениям, остальные дела оставались под юрисдикцией местных народных или шариатских судов.
Большой ошибкой, согласно Баберовски, стало устранение в новой судебной системе традиционных элит, выполнявших роль посредников между центром и этноконфессиональными сообществами регионов империи. Реформа нарушила практики прежнего дореформенного участия местных людей в государственных, в том числе судебно-правовых, институтах, тем самым усилив дуализм. Европейская идея верховенства права и судебной унификации, резюмировал Баберовски, в условиях полиэтнической империи приводила к абсурду. Она настроила местные элиты против российской администрации, не обеспечив при этом никакой культурно-правовой гомогенизации и интеграции страны. Судебная реформа была излишне модернистской и преждевременной для подавляющего большинства населения с его преимущественно традиционалистскими социальным устройством и судебно-правовыми представлениями и практиками. В результате предпринятые радикальные преобразования стали искусственным препятствием на пути естественного и постепенного внутреннего развития страны.
Применительно к пореформенной мировой юстиции модель судебно-правового дуализма развивал американский историк Т. Пирсон 4. Исследователь пришёл к выводу о провале мировых судов 1860–1880-х гг. в сельской местности внутренних и западных губерний. В качестве источников историк опирался по большей части на сенатские ревизии начала 1880-х гг., отзывы губернаторов и земств, материалы правительственных комиссий, мемуары судей.
Проект реформаторов предполагал создание судов по примирению сторон, выносящих решения на основе устных свидетельств, неформальной процедуры, местных обычаев и судейской совести. По факту мировая юстиция стала институтом, ориентированным на писаный закон, формальную судебную процедуру, письменные свидетельства и документы. Эта трансформация произошла, полагает Пирсон, по большей части под влиянием сенатской практики кассации приговоров и обязательного к применению судами толкования законов империи. Судей-идеалистов первой волны постепенно сменяли карьеристы, которые рассматривали эту позицию как хороший старт для продвижения по служебной лестнице. При этом, признаёт исследователь, в связи с новыми задаваемыми Сенатом стандартами судопроизводства повысился образовательный уровень мировых судей.
Формализация и бюрократизация мирового института вызвала, по мнению Пирсона, отчуждение от него как локальных элит, так и сельского простонародья. Те и другие ценили традиционное единство местной административной и судебной власти. Привычные представления крестьян о справедливости и их устоявшиеся практики правосудия были чужды навязываемым пореформенной юстицией модернистским ценностям, статутному праву и формальной процедуре. Всеобщее невежество, пассивность и бедность сельского населения также внесли свой вклад в провал мирового института вне городов. Связанное с формализацией процедур обрастание сельской мировой юстиции канцеляристами, частными адвокатами, несертифицированными посредниками и ходатаями дополнительно затрудняло для сельчан доступ к правосудию, делало его более дорогим. Значимым свидетельством несоответствия мировой юстиции, её процедурных практик и законодательной основы выносимых решений местным контекстам и ценностям стал, по мнению Пирсона, рост в 1870–1880-х гг. числа дел, нерешённых в течение года.
На западных окраинах империи мировые судьи не выбирались, а назначались и также оказались чужды местному полиэтноконфессиональному населению. Здесь пореформенный суд выполнял миссию государственной политики русификации. При этом мировые судьи, как правило, не знали обычаев местных сообществ и в то же время поддавались влиянию местных клик. Следовательно, и здесь мировой институт, по мнению исследователя, оказался неуспешен. В итоге, полагает Пирсон, в ходе «контрреформы» 1889 г. ликвидация во внутренних губерниях мировой юстиции везде, кроме крупных городов, имела объективные низовые основания, а не стала только результатом идеологического поворота в политике центра и межминистерского соперничества.
Следует отметить относительную ограниченность источниковой базы исследования Пирсона: он не использовал материалы самих судебных дел. При этом автор признаёт, что сенаторские ревизии, показав многие недостатки судов, всё-таки сделали вывод об их общей эффективности и востребованности. Крестьяне в их неприятии пореформенной местной юстиции характеризуются исследователем излишне обобщённо, как гомогенная масса, приверженная неформальному устному правосудию на основе посредничества и обычая. Не учитываются существенные изменения пореформенного периода, значительные различия как на локальном, так и на региональном уровне, множественность индивидуальных стратегий сельчан. Игнорируется неоднородность крестьянской среды, рост письменной культуры, дифференциация занятий сельского простонародья, его экономическая и социальная мобильность. Решение большей части дел по официальному законодательству, на основе формальной процедуры могло быть не только следствием воздействия «сверху», но и востребовано «снизу». Рост количества нерешённых дел в мировых судах односторонне трактуется Пирсоном как свидетельство неэффективности новой юстиции. При этом отсутствует всесторонний анализ динамики обращений в мировой суд и нагрузки, что может рассматриваться как признак востребованности и популярности судебного института. Представляется односторонней исключительно негативная оценка роста сетей посредничества и стремления местных сообществ влиять на суд. Официальная русификаторская миссия пореформенного суда на окраинах скрывала по факту более разнообразные установки. Также требуют корректировки выводы Пирсона о чуждности судей местным сообществам окраин. Они игнорируют процессы контекстуализации, регионализации и «коренизации» кадровых корпусов мировой юстиции. Не учитывают региональных различий также утверждения об абсентеизме и пассивности почётных мировых судей 5.
Среди российских историков схожую версию правового дуализма развивает А. Н. Медушевский 6. Он исходит из того, что в России, начиная с эпохи Петра I и особенно реформ 1860-х гг., возникло и сохранялось параллельное существование «c одной стороны, особой сферы неписанного крестьянского права с его архаичными аграрными представлениями о справедливости, приоритете коллективного начала над личным, отрицанием индивидуальной собственности, а с другой – вполне рациональной системы позитивных правовых норм, которые были в значительной мере заимствованы из европейских кодексов, вполне соответствовали представлениям о гражданском обществе и частной собственности… Эти два вида права находились в жёстком противоречии между собой» 7. Крестьянство в этой трактовке рассматривается как единое целое, существующее в пространстве традиции и «обычного права». Вариативность признаётся, но находится в пределах сфер «архаичного», «иррационального, «коллективистского». Распространение на крестьян унифицированного позитивного гражданского права, в том числе путём разработки в конце XIX – начале XX в. Гражданского уложения, могло стать ключевым механизмом модернизации традиционного общества, но так и не было реализовано.
При постулировании модели правового дуализма Медушевский не обращается к реальной практике имперских судов. В своих общих оценках, например, волостной или аналогичной сословной/этносословной юстиции как пространства либо исключительно обычного права, либо произвольного усмотрения и бесправия, исследователь опирается на отдельные мнения современников. Автор не ставит также вопрос о том, в какой мере «традиционное общинное право» является результатом государственной политики и инструментом управления. Не исследуется разнообразие гражданского оборота, судебно-правовых практик и представлений среди сельского и городского простонародья, в том числе вполне «модерных», «рациональных» и основанных на официальном праве. Не ставится вопрос о вполне традиционалистских нормативных идеологиях и практиках среди элит.
Утверждение Медушевского, что крестьянское обычное право в отношении земли во многом основано на её традиционной религиозной сакрализации, противоречит выводам Д. И. Раскина, А. В. Камкина, Т. Деннисон, И. И. Верняева 8. Камкин, в частности, отмечал: «Правосознание северных государственных крестьян второй половины XVIII века предстаёт в виде сложного комплекса правовых знаний, взглядов, оценок и требований. Важнейшей его стороной можно признать знание норм действовавшего во второй половине XVIII века законодательства, и прежде всего относящегося к государственной деревне. Государственным крестьянам были достаточно хорошо известны их права и обязанности; путём собственной активности были познаны правовые принципы и нормы, регулирующие торговлю, промыслы, паспортную практику, отход, процессуальные тонкости» 9.
В отношении пореформенного периода Медушевскому возразила историк права Л. Е. Лаптева: «Говоря о правовой традиции, я не стала бы противопоставлять крестьянскую и официальную правовую культуру». Отстаивая свои интересы, крестьяне активно обращались к государственному закону и суду, приобретали землю и распоряжались ею в соответствии с общими правовыми нормами: «Росту правосознания крестьян способствовала и земская реформа 1864 г. … Для защиты своих имущественных интересов в пореформенном суде крестьяне всем миром нанимали профессиональных юристов. Пытались организовать бесплатные юридические консультации для крестьян через земства, но правительство запретило это делать… К 1917 г. крестьянская культура была готова к правовому восприятию действительности» 10.
Ярким примером современных версий дуалистических подходов в рамках историко-правовых исследований служат работы Т. В. Шатковской, посвящённые обычному праву российских крестьян 11. Исследовательница обобщила труды дуалистической направленности, созданные с XIX в. до современности. Природа традиционного хозяйства, семейный характер производства, общинное мировоззрение определяли особенности народных правовых представлений и практик, которые по большей части противоречили официальным законам. Общинная и общесемейная собственность, «трудовой принцип» в приобретении права на вещи и ресурсы, неразличение уголовных и гражданских дел, практики примирения, баланса и компенсации при их решении радикально расходились с принципами официальной судебно-правовой сферы и элит. Пореформенные и, в частности, мировые суды в сельской местности потерпели неудачу, так как из-за «несоответствия народных правовых воззрений о правде и справедливости законодательным положениям» остались для обывателей «казённо-чуждыми». Редкое обращение к мировой юстиции автор объясняет «консервативностью представлений крестьян о судах и отрицательной реакцией на всё новое, что несли реформы», «различием в правовых представлениях мировых судей и крестьян», непривычной для сельского простонародья процедурой и непонятным языком.
В то же время Шатковская, отчасти противореча своей общей дуалистической концепции, не могла не признать факты массового обращения крестьян в мировые суды с разнообразными исками, особенно со сложными и запутанными – в связи с внутриобщинными конфликтами, с жалобами на действия должностных лиц и на приговоры волостных судов, с делами по поземельным конфликтам и проч. Она констатирует, что женщины-крестьянки предпочитали обращение в мировой, а не «свой» волостной суд. Недостаточное знакомство с законодательством и процедурой пореформенного суда решалось крестьянами путём выбора из своей среды или найма извне поверенного, хорошо знакомого с судебными порядками и законами. Исследовательница привела пример Волоколамского уезда, где в 1871–1872 гг. десятью волостными судами было рассмотрено 679 дел, а тремя мировыми за тот же период – около 1 тыс.12 Эта статистика противоречит тезису автора о наличии радикального дуализма между крестьянским «обычно-правовым миром» и сферой официального права, реализованного в пореформенных судах.
К числу сторонников разных версий дуалистической концепции можно отнести таких исследователей, как М. Левин, С. Хьюман, А. Джоунс, С. Фрэнк, О. Г. Вронский, В. А. Томсинов, О. Е. Кутафин, Г. М. Давидян, В. Б. Безгин и др. 13 Вместе с тем в последние десятилетия появились значимые работы, в которых критикуются крайние проявления дуалистической концепции в исследовании судебно-правовой проблематики, предлагаются её коррекция и пересмотр.
В отношении дореформенного периода большое значение имеют исследования В. А. Воропанова 14. Историком охвачен и проанализирован огромный объём архивного материала, его труды стали настоящей энциклопедией дореформенного суда, в особенности восточных, юго-восточных и северных регионов Российской империи. Воропанов показал различные пути и формы взаимодействия и взаимопроникновения местных сообществ и государственных судебно-административных институтов империи XVIII – первой половины XIX в. Интенсивность этих процессов зависела от демографической ситуации, этноконфессиональной и сословной гетерогенности населения, распространения частновладельческой крепостной зависимости, экономической активности и интенсивности гражданского оборота.
Особое внимание Воропанов уделил институту сословных судебных представителей в коллегиальных институтах, созданных в ходе екатерининских реформ – магистратах и ратушах для горожан, нижних и верхних расправах и нижних земских судах для сельских обывателей. Эти коллегии включали, наряду с назначаемыми коронными судьями, выборных представителей соответствующих сословий – купцов и мещан в городах, разных категорий государственных крестьян в сельской местности. В историографии институт сословных представителей в судах рассматривался скорее как формальный и фиктивный. Исследование Воропанова подтверждает такую оценку, но только в отношении центральных губерний с развитым крепостничеством, доминированием в судебных и административных институтах дворянства, относительно небольшой долей лично свободных сельских обывателей и их локальной раздробленностью.
Иное положение сложилось на северной, восточной и южной периферии. Здесь лично свободное полиэтноконфессиональное население активно участвовало в новых судебных институтах в качестве членов коллегий, обращалось к ним для разрешений конфликтов и борьбы с преступлениями, осваивало и успешно использовало формальную судебную процедуру и имперское законодательство. Через работу в судебных коллегиях в качестве сословных представителей проходили сотни людей – выходцы из местных элитных групп и уважаемые в своей среде простолюдины. В поликультурных регионах судебные коллегии магистратов и расправ формировались с учётом группового представительства. Для некоторых этноконфессиональных сообществ сохранялись обособленные судебно-административные институты.
В этих коллегиях судебные сословные и этносословные представители обретали необходимый юридический и практический опыт взаимодействия с государством и законом. Многие из них перед своим избранием уже имели репутацию ходатая по делам. Или, наоборот, они обращались к этой деятельности после срока сословно-государственной службы, используя приобретённый опыт. Тем самым из этой категории людей складывался слой посредников, обеспечивавших связь между разнообразными сообществами и имперским государством. В это пространство входили и разного рода околосудебные деятели – канцеляристы, переводчики, судебные исполнители и проч. Сами коронные судьи нередко тоже «коренизировались» – назначались из числа людей, знакомых с культурой и языком местного населения, или приобретали такой опыт в ходе службы.
Наличие достаточно развитой инфраструктуры нижних судов, расширяющегося слоя посредников, значительная востребованность публичного процесса и официального судебного решения приводили к тому, что население исследованных регионов активно обращалось к новой, созданной екатерининскими реформами юстиции. На публичное рассмотрение выносились семейно-брачные дела, имущественные споры, индивидуальные и межгрупповые поземельные конфликты, иски по нарушениям контрактных отношений, защите личного достоинства и проч. Участниками процессов были представители как одной локальной, этнической или этносословной группы, так и разных.
Сословные судебные институты – магистраты и расправы – при отсутствии дворянства по факту являлись общегражданскими. Активное обращение к новой государственной судебной системе для разрешения внутри- и межгрупповых конфликтов способствовало формированию общей правовой культуры, имперской интеграции разнообразных групп и категорий населения. При этом в ходе судебных процессов могли использоваться элементы конфессионального и обычного права, получающие тем самым официальную санкцию в системе имперского правового плюрализма. Внутри- и межгрупповая неоднородность требовала формирования государственных или общественно-государственных судебных институтов, усиления роли общего закона и общезначимой стандартной судебной процедуры. Конкуренция и соперничество между группами стимулировали использование институциональных ресурсов государства, возможностей участия в его учреждениях.
В целом работы Воропанова продемонстрировали важность сравнительных межрегиональных исследований. Они позволяют отказаться от поверхностной и излишне генерализирующей концепции судебно-правового дуализма. Реальная картина, как показал исследователь, значительно сложнее, она варьировалась в региональном, групповом, временнóм измерениях.
Историк А. Плате в своих исследованиях нижних и верхних судебных расправ на Среднем Урале в последние десятилетия XVIII в. отчасти дополняет, отчасти критикует подход Воропанова 15. Она отмечает практики обращения крестьян как к обычному, так и к государственному статутному праву и приходит к выводу, что идея, заложенная в концепции правового дуализма не особенно применима на практике. Опираясь на материалы судебных дел, Плате не соглашается со слишком генерализирующим тезисом Баберовски о том, что местная коронная бюрократия и суды были якобы «инородным телом, столкнувшимся с реальностью окружающего домодерного общества». Нормы позитивного права были хорошо известны в деревне. Учитывая это, Плате считает более уместным говорить о правовом плюрализме, сочетании нескольких действующих правовых пространств, к нормам которых люди могли относительно свободно обращаться в зависимости от конкретного дела, состава его участников, контекста. Государственный суд следует понимать как необязательное предложение законодателя. «Для людей, принадлежащих к свободному сельскому населению Пермского наместничества, судебный процесс в нижней расправе был лишь одним из многих возможных способов восстановления справедливости», – констатирует исследовательница. При этом она критикует Воропанова за то, что тот преувеличил степень огосударствления суда и права, недостаточно учёл ситуацию правового плюрализма.
Особым вызовом для историков стало преодоление крайностей концепции судебно-правового дуализма в отношении пореформенного периода (после судебной реформы 1864 г.). Для многих современников казался очевидным разрыв между модерной моделью суда и обычно-правовым миром русской и «инородческой» деревни. Среди работ последних лет наибольшая критика бинарной модели и альтернативные трактовки судебных преобразований представлены в работах немецкого историка С. Кирмзе 16. Общая тема его исследований – взаимодействие пореформенного государства с обществом, роль новой судебной системы в интеграции имперского пространства. В качестве методологической базы используются междисциплинарные подходы с привлечением моделей, разработанных в рамках юридической антропологии, сравнительных исследований правового плюрализма в имперском и постимперском контекстах, субалтерных исследований и такого направления, как «право и общество».
Свои общие оценки Кирмзе основывает на эмпирическом исследовании пореформенной юстиции последних десятилетий XIX в. в Таврической (главным образом в Крыму) и Казанской губерниях – в прошлом фронтирных территориях, ставших частью имперского ядра, но сохранивших существенную специфику и культурно-правовое своеобразие. В центре изучения – взаимодействие татарско-мусульманского населения с имперскими окружными и, в меньшей степени, мировыми судами. Для изучения этого взаимодействия на низовом уровне, в повседневном режиме и глазами его непосредственных участников привлечён широкий круг источников, включая протоколы судебных заседаний.
Исследователь приходит к выводу, что татары в качестве обвиняемых, пострадавших, свидетелей, истцов и ответчиков, присяжных заседателей, почётных судей, полицейских, легальных и нелегальных адвокатов, ходатаев по делам, переводчиков, канцеляристов и многочисленной публики в судебном зале постоянно и массово взаимодействовали с пореформенной имперской юстицией. На крымском и средневолжском материале Кирмзе исследует деятельность новых посредников, смысловое и практическое взаимопроникновение модерных судебно-правовых институтов и местных татарских сообществ.
Формируемое в среде татарского населения и его соседей пореформенными судами институциональное пространство отличалось правовым плюрализмом. Кирмзе критикует сформировавшиеся в литературе XIX в. и до сих пор влиятельные в историографии представления о русской деревне как об «отдельном мире, отличном от цивилизованной России», а о нерусской деревне – вообще как о «другой вселенной» 17. На примере татар Среднего Поволжья и Крыма он показывает правовую, экономическую, социальную, гендерную, культурную, профессиональную, бытовую, религиозную неоднородность сельских и городских сообществ. Они не являлись обособленными социальными системами, жизнь которых целиком определялась унифицированным сплавом обычного и исламского права. Татарские поселения, констатирует исследователь, не были монолитными сетями солидарности, где люди во всех ситуациях заступались друг за друга и отказывались сотрудничать с агентами государства. Люди могли до известной степени выбирать разные стратегии, формальные и неформальные, разрешения конфликтов и борьбы с девиацией, обращаясь к конфессиональным или сословным судам, или к официальным имперским институтам. Кирмзе отмечает, что поразительно большое количество татар как в городах, так и в сёлах при наличии выбора предпочитали общеимперские суды.
Государственный закон, легализованные формы обычного и конфессионального права, пореформенные институты имперского правосудия играли всё бóльшую роль в повседневной жизни людей, обеспечивали относительное равенство перед законом и тем самым постепенно трансформировали страну в направлении «империи законности» (lawful empire). Позднеимперская Россия, констатирует Кирмзе, была полна «юридических форумов» (легальных судебных институтов разного типа) и правовой активности. Право и институты правосудия выступали не только средством управления и контроля, но и значимым ресурсом для людей и сообществ, в том числе этноконфессиональных меньшинств. С помощью этих ресурсов они разрешали конфликты внутри и вовне своей среды, боролись с преступниками, утверждали или бросали вызов существующим иерархиям, интерпретировали, выбирали и смешивали нормативные порядки, сотрудничали, противостояли и воздействовали в своих интересах на государство и его представителей.
Автор оспаривает распространённую в историографии идею о чёткой и повсеместной границе между государственным и местным пониманием закона. Понятия законности и справедливости не навязывались бескомпромиссно «сверху» и не отвергались последовательно «снизу», но развивались во взаимодействии. Проблема пореформенной юстиции заключалась не столько в столкновении правовых культур, сколько в нехватке ресурсов и инфраструктуры. Исследователь не отрицает того факта, что во многих случаях люди не доверяли государственной юстиции, но, тем не менее, постепенно осваивали, активно использовали и частично присваивали её (used and partly appropriated) 18.
В качестве недостатка работы Кирмзе стоит отметить то, что он, анализируя пореформенные суды, сосредотачивается на их взаимодействии с одной из этноконфессиональных общин. При этом важной функцией новой позднеимперской юстиции было как раз разрешение конфликтов, поддержание правового порядка и обеспечение гражданского оборота в гетерогенных сообществах и ареалах. Процессы смешения различных групп населения обусловили переход от партикулярной к общей судебной системе. Поэтому важно исследовать пореформенную юстицию в контексте социальной, экономической и культурной гетерогенности. Можно также отметить недостаточное использование Кирмзе количественных данных о функционировании судов. Но отчасти это объясняется плохой сохранностью в архивах протоколов и иной массовой судебной документации.
Следует отдельно остановиться на работах американского историка Дж. Бёрбэнк, исследовавшей процессы взаимодействия государства и разнообразных сельских и городских сообществ на материалах волостных судов внутренних губерний и в меньшей степени – сословных и этносословных судов окраин империи 19. Основанные на большом объёме архивных материалов, работы Бёрбэнк вносят большой вклад в давнюю и ещё не завершённую дискуссию об оценке сохраняющихся и после судебной реформы этносословных юрисдикций и соответствующих судов: являлись ли они в пореформенный период фактором интеграции и сближения с общегражданской судебно-правовой системой или фактором усиления партикуляризма и правового дуализма.
Исследование Бёрбэнк судебно-правовых институтов и практик основано на общем подходе к империям как системам управления разнообразием 20. Политику Российской империи в отношении её населения исследовательница обозначает термином «имперский режим прав» (imperial rights regime). В соответствии с этой управленческой моделью отдельные категории населения, выделенные по тому или иному критерию, наделялись особым групповым статусом и соответствующими партикулярными институтами, в том числе судебными. Основные линии различения – социальное положение, служебный чин, религия, этничность и регион проживания. Коллективный правовой режим групп и их институты были отчасти легализацией существующих до имперского завоевания норм и практик, отчасти результатом изменений и конструирования их имперской властью при участии самих сообществ и их элит. Повседневная жизнь подданных, объём их прав и возможностей, формы семейно-брачных отношений, приобретения и передачи собственности, заключения сделок, регламент мобильности, права и обязанности в отношении государства, институты самоуправления и суда определялись припиской к сословию, вероисповеданию, легализованной этносословной группе, административной единице и проч. Согласно Бёрбэнк, режим дифференцированных групповых прав и институтов на протяжении многих десятилетий обеспечивал относительную устойчивость империи, позволял гибко администрировать разнообразие, формировал каналы взаимодействия сообществ и государства.
Применяя модель «имперского режима прав» к анализу волостных судов внутренних губерний России конца XIX – начала XX в. и проанализировав по нескольким десяткам параметров более 3,5 тыс. архивных судебных дел, Бёрбэнк пришла к выводу, что в крестьянской среде сформировалась ярко выраженная правовая культура, которая основывалась по большей части на государственном законе и формальной процедуре и в меньшей – на обычае и контекстуальном усмотрении. Крестьяне охотно, массово и публично решали спорные дела в волостном суде. В этом отношении деревня не была ни «царством обычая», ни «пространством беззакония» и самосуда, как полагали многие современники и историки. Крестьяне тесно взаимодействовали с государством, умело и прагматично использовали официальные институты. Волостная юстиция – самый массовый сословно-государственный судебный институт в дореволюционной России – находилась ближе к пореформенной мировой и общей юстиции, чем к неформальным, «традиционным» и «обычно-правовым» судебным форумам.
На окраинах империи аналогичную функцию выполняли этносословные судебные институты (инородческие, горские, сельские, народные и другие разновидности низших судов). Как показала Бёрбэнк, в позднеимперский период все типы низовых сословных и этносословных судов имели схожие черты и сближались по ряду параметров с общей пореформенной юстицией. Они были близки сельскому простонародью, доступны для него и в пространственном, и в организационно-коммуникационном отношениях. Функционировали они, как правило, в дни, свободные от сельскохозяйственных работ. Судопроизводство осуществлялось на языке местного населения. Судьи выбирались из числа местного населения, но с обязательным утверждением имперскими властями. Состав судов был коллегиальным, включая, как правило, представителей различных поселений в составе волости или аналогичной административной единицы. Это обеспечивало относительную независимость суда и его решений от неформальных соседских, родственных и патрон-клиентских сетей. Другими гарантиями правосудия являлись регламентация деятельности судов, письменная фиксация решений, возможность апелляции в вышестоящие инстанции, государственный надзор.
Что касается материального права, то в разных типах этносословных судов применялись как государственный закон, так и легализованные и частично интегрированные в имперское законодательство элементы регионального письменного, обычного и религиозного права. В отношении легализации обычая большое значение имел судебный прецедент.
Этносословные суды окраин империи аналогично волостным судам крестьян центра обеспечивали связь сообществ нерусских народов с империей, их интеграцию. Как и в случае с русскими крестьянами, не приходится говорить о непреодолимом дуализме «обычая» и «государственного закона», традиционных и модерных институтов и соответствующих ценностей и поведения. Скорее речь идёт о гибридном пространстве взаимопроникновения сообществ и государства через механизм партикулярно-групповых институционально-правовых режимов. В этом пространстве формировался и новый слой посредников – низовых имперских управленцев из числа представителей местных сообществ.
Бёрбэнк сделала важный вклад в пересмотр дуалистической модели судебно-правовой сферы империи. По её мнению, «необходимо отказаться от абсолютной дихотомии между обычаями и законом, если мы хотим выйти из мира российских элит и понять подлинный легализм волостных судов» 21. Государство и сообщества, в том числе сельские, сближались между собой, разделяли многие общие черты правовой культуры и связанных с ней моральных ценностей, в равной мере признавали важность официально утверждённых законов и легальной публичной процедуры разрешения конфликтов и наказания за нарушения норм.
Но осуществлялось это сближение главным образом не через общие унифицированные институты и законы, но через дифференцированные для каждой официальной сословной и этносословной категории. И в этой своей оценке Бёрбэнк сближается с Баберовски. Оба исследователя скептически относятся к попыткам проевропейски настроенных российских реформаторов ликвидировать групповые судебно-правовые пространства, разработать и внедрить унифицированное право и единые для всех подданных судебные учреждения. Наиболее успешным и эффективным, по их мнению, было взаимопроникновение через имперско-партикулярные, отчасти легализованные, отчасти сконструированные империей, площадки правосудия. Новые универсалистские институты оказались мало результативны, они разрушали установившиеся общественно-государственные институционально-правовые пространства и отторгались большинством населения.
Выступая в целом против дуалистической модели и генерализирующих характеристик крестьянства, Бёрнбэк в то же время использует элементы этого дуализма и неоправданного обобщения. Исследовательница не учитывает в полной мере процессы размывания сословных границ, роста разнообразия в социокультурных, правовых, экономических характеристиках русских крестьян и «инородцев». К концу XIX в. миллионы людей перестали жить в своих сословно-территориальных «ячейках». Ускорялось формирование отношений поверх партикулярных категорий. Города, сельские территории, предприятия, рабочие посёлки, объекты транспортной инфраструктуры, торговые места, коммерческие и гражданские организации, образовательные и медицинские учреждения, армейские коллективы, стройки, прииски становились постоянными и временными местами смешанных сообществ, объединяющих в едином территориальном, функциональном и институциональном пространстве людей с разным сословным, культурным и правовым бэкграундом. Далеко не все отдавали предпочтение «своим», обособленным институтам, в том числе судебным. Для регулирования многих быстрорастущих сфер отношений общегражданская юстиция была безальтернативна и весьма востребована. Недостаточно учтены Бёрнбэк и процессы адаптации пореформенной системы судебных институтов к существующему разнообразию 22.
«Реформаторы» во власти и среди экспертов также характеризируются Бёрбэнк слишком обобщённо – как последовательные сторонники правового монизма и полной унификации суда, однозначно негативно оценивающие опыт партикулярной имперской юстиции. На самом деле спектр мнений и оттенков был очень широк. Так, разрабатываемый в позднеимперский период дизайн местной юстиции включал различные гибридные варианты, в которых учитывалось судебно-правовое и социокультурное разнообразие 23.
Подходы Бёрбэнк во многом поддержала и развила канадская исследовательница К. Годен. Она фокусируется на отношениях между государством и деревней в контексте модернизации рубежа XIX–XX вв. Основной полигон исследования – центральные губернии. Анализ разнообразных архивных и опубликованных материалов показал, что крестьянские общества не были замкнутыми социокультурными мирами и являлись частью более широких институциональных рамок. Крестьяне активно обращались в официальные суды, взаимодействовали с административными институтами, используя при этом ресурсы имперского законодательства и государственной риторики (в том числе патерналистской – превозносящей «общинные обычаи» и необходимость их защиты). Годен сосредоточилась на ключевых «сценах» этого повседневного взаимодействия и взаимопроникновения – институтах волостного суда, старшины и писаря, сельского общества и схода, земского начальника, уездных и губернских административных структур. Через посредство этих «сцен» крестьяне влияли на государство, а государство – на крестьян.
В исследовании Годен показано, что количество крестьянских судебных дел, рассматривавшихся волостными судами и земскими начальниками, за годы функционирования этих государственных институтов выросло в разы. Современники-публицисты как консервативного, так и либерального лагерей осуждали широко распространившееся в крестьянских массах сутяжничество, стремление судиться по любому поводу в доступной инстанции, заваливать её жалобами и исками. Однако на деле это показывало массовую потребность крестьян в официальном правосудии, их знакомство с юридической процедурой, уровень доверия к государственным институциям, освоение их ресурсов и возможностей.
По подсчётам Годен, в 1904 г. количество гражданских дел в волостном суде варьировалось от 193 на 1 тыс. домохозяйств в Вятской губ. до 522 в Херсонской губ. В одной из волостей Московской губ. в 1914 г. каждый пятый взрослый крестьянин был участником гражданского судебного процесса. При этом стороны привлекали, как правило, по несколько свидетелей. Официальный суд и закон стали частью повседневного опыта большинства крестьян. В качестве причин этих процессов исследовательница называет рост влияния в деревне городской культуры, развитие грамотности, повышение мобильности, утрату доминирования старших на уровне дворохозяйства и общины и соответственно их возможности выступать в роли медиаторов конфликтов. В конце XIX – начале XX в. деревня во всё большей степени зависела от управления извне. Если знания о контексте и обстоятельствах разнообразных конфликтов находились внутри крестьянских сообществ, то возможности и средства их разрешения – по большей части уже вне их 24.
Дела, инициированные крестьянами в волостном суде, могли доходить до рассмотрения Сенатом. По оценке Годен, в последнее десятилетие империи до половины всех дворохозяйств исследованных регионов вели дела в уездном съезде как апелляционной инстанции 25. Широко распространившаяся практика подачи в вышестоящие инстанции апелляционных и кассационных жалоб на решения волостных судов свидетельствовала о преодолении автаркии крестьянских обществ, более глубоком проникновении государства и закона на сцену деревенской жизни.
В целом Годен пересматривает распространённый среди современников и в историографии образ изолированной, однородной, пассивно-консервативной крестьянской общины. Она критикует преувеличение дихотомии государства и общины, дуалистическое видение государства как единственного и ведущего актора модернизации, а крестьян – как исключительно сопротивляющихся переменам защитников традиций. Крестьянские общины были полны внутренних различий, противоречий, конфликтов, разнообразных стратегий экономического, социального и правового поведения. Столь же неоднородно было само государство и его политика, в которой сочетались модернизационные и патерналистски-консервативные тенденции. Существенные проблемы с реализацией реформ 1889 и 1906–1914 гг. связаны не с общинной культурой крестьян, а с непоследовательностью и противоречивостью государственной политики. Так, судебно-административный институт земских начальников призван был одновременно интегрировать крестьян в государственные институты и при этом поддерживать и укреплять «общинные обычаи».
Российский исследователь И. А. Попп в своих работах по-иному преодолевает крайности концепции судебно-правового дуализма 26. В отличие от Бёрбэнк и Годен он делает акцент на недостатках сословного волостного суда, препятствиях, которые он создавал на пути судебно-правовой интеграции. Попп обращает внимание на растущее стремление крестьян и горнозаводского населения переносить свои споры из волостных судов в общегражданскую мировую юстицию. Свой тезис он продемонстрировал на материалах Пермской губ.
Помимо стремления к переносу дел в мировые суды (в том числе путём различных манипуляций с содержанием исков), крестьянское и горнозаводское население стало активно пользоваться возможностями апелляции и кассации решений волостных судов в вышестоящих инстанциях. При этом сами волостные суды к концу XIX в. во всё большей степени стали основывать свои решения – в том числе вследствие запроса «снизу» – на нормах официального законодательства. В регионе действовало множество «ходатаев» – знатоков государственного права и судебных процедур, которые выступали в роли посредников, соединительного звена между деревенским и поселковым простонародьем и государственными судебно-административными институтами. Основные проблемы мировой юстиции исследователь видит скорее в недостаточной развитости её инфраструктуры, материального и кадрового обеспечения.
Существенный вклад в пересмотр концепции судебно-правового дуализма внесла американская исследовательница Дж. Нойбергер. Она сосредотачивает своё внимание на мировой юстиции в крупнейших городах Российской империи – главным образом в Санкт-Петербурге, Москве и Одессе, используя в качестве источников материалы судебных процессов, данные статистики и отчётов, многочисленные хроники судебных дел в городской прессе и публицистике 27. Исследовательница доказывает, что проектируемый реформаторами образ мирового судьи как своего рода «местного Соломона» – избранного уважаемого человека, хорошо знающего локальный социальный и культурный контекст, – не нашёл воплощения в практике городского правосудия. Но это не означало неуспех здесь мировой юстиции. Напротив, мировой суд был крайне востребован и популярен среди разных слоёв горожан, в том числе рабочих, строителей, ремесленников и их учеников, извозчиков, служащих разного ранга, прислуги, подёнщиков, сезонных крестьян-отходников и проч.
Вопреки первоначальным расчётам, практически сразу после введения в рассматриваемых крупных городах новой юстиции дела решались преимущественно в соответствии с формальной процедурой и через обращение к статутному праву, а не путём медиации, примирения сторон и опоры на «естественное» чувство справедливости и локальный обычай. Причин такого несоответствия первоначальной модели мирового правосудия несколько, но основная заключалась не столько в давлении Сената (как полагал Т. Пирсон), сколько в том, что большинством участников судебных процессов был востребован именно государственный закон с его легитимностью, имиджем процедурной и смысловой определённости, универсальности, чёткости, относительной независимости от контекста. Горожане искали защиты суда и особенно ценили создаваемое верховенством закона формальное равенство участников процесса с разным социальным и экономическим статусом 28. Исключительно востребована была публичность суда, которая позволяла вынести конфликт на общественную и официальную сцену. Поэтому судебные формальности, процедурная строгость и даже некоторая театральность суда были важны для участников процессов, ценились, а вовсе не отторгались ими. Даже те, кто находился в невыгодном положении перед законом, часто предпочитали его менее предсказуемым формам судебного разбирательства.
Сотни тысяч горожан, констатирует Нойбергер, относительно легко адаптировались к официальной правовой культуре: «Да, судебная реформа была делом государства, но она была многими принята без всякого сопротивления и даже с большим воодушевлением. Мировая юстиция смогла удовлетворить массовое народное желание институционализированного правосудия. Множество людей приняли и признали власть мировых судов и закон, который они применяли и внедряли. Даже в отсутствие неформальности мировой суд процветал: в течение XX в. число дел в мировом суде росло быстрее, чем численность населения. Официальная правовая культура, возможно, существенно глубже укоренилась в позднеимперском городском обществе, чем мы привыкли думать» 29. Российские реформаторы «недооценили способность русского народа как понимать закон, так и манипулировать им… К концу XIX в. повседневная городская жизнь – коммерческая, гражданская и уголовная – регулировалась законом, и регулировалась относительно хорошо», – резюмирует Нойбергер 30.
Отдельное внимание исследовательница уделяет частным поверенным (адвокатам), несертифицированным поверенным, разного рода ходатаям по делам, судебным представителям и т. п. При относительной недоступности официальных адвокатов огромная сеть неформальных посредников помогала простым горожанам и сельчанам приобщаться к ресурсу государственного правосудия. Тем самым неграмотность участников процессов, незнание законодательства и деталей формальной процедуры компенсировались развитым, доступным и относительно качественным посредничеством. Как отмечает Нойбергер, «большинство из простонародья, кто обращался в мировой суд, искали там прежде всего юридических решений, основанных скорее на статутном праве, чем на медиации. Массовое обращение людей к нелегальным адвокатам свидетельствует об их нужде именно в правовой информации, а не просто в здравом смысле и “естественной справедливости”, как предполагали реформаторы. Это также говорит об относительной удовлетворённости этим сервисом» 31.
Убедительно продемонстрировав отсутствие жёсткого правового дуализма в городской среде, исследовательница в то же время воспроизвела в своих публикациях некоторые клише относительно полного провала мировой юстиции в сельской местности. Так, она несколько искусственно провела линию разделения между городом и деревней в части соотношения закона и обычая, статутного права и «естественной справедливости», правовой универсальности и социально-бытовой контекстуальности, формальной судебной процедуры и неформального посредничества в поисках примирения.
Американский историк У. Вагнер исследовал один из важнейших институциональных механизмов взаимодействия сообществ и государства в части изменения и выработки норм гражданского права. В центре внимания исследователя – деятельность Гражданского департамента Сената как кассационной судебной инстанции и института адаптации имперского законодательства к меняющимся социальным и экономическим реалиям пореформенного периода 32.
Вагнер исходит из того, что граница между государством и обществом была гораздо более проницаемой и интерактивной, чем обычно изображалось как современниками, так и впоследствии историками и этнографами. Дуалистическая концепция правовой культуры, по мнению Вагнера, преуменьшает различия внутри групп, представляет их полностью гомогенными. В результате степень, в которой элитные социальные группы усвоили идеал законности, преувеличивается, а разнообразные вариации вовлечённости крестьянства и городских низов в общий гражданский правопорядок, в практики обращения к закону на различных форумах по разрешению споров, как правило, теряются. Исследователь выдвигает обоснованные возражения против мнения об отсутствии общественного интереса к закону и его обсуждению, о неспособности понять важность статутного права, а также о неадекватности судов, созданных в результате судебной реформы 1864 г.
Современники и историки зачастую недооценивали масштабы правовых изменений, произошедших за несколько десятилетий после судебной реформы. В отношении семейного, имущественного и наследственного права новая судебная система доказала свою способность не только определять общие правовые нормы и применять их разумно и единообразно к конкретным делам, но и творчески адаптировать закон к изменяющимся условиям и взглядам. Новые суды, констатирует Вагнер, расширили сферу правового регулирования и увеличили обращение к закону как со стороны общества, так и государства.
Автор констатирует, что Правительствующий Сенат обладал такими полномочиями в области судебного правотворчества, которые были уникальными и для России, и для континентальных европейских правовых систем. Он давал однозначные толкования гражданского права и оказывал огромное влияние на решения судов низшей инстанции. В частности, Гражданский кассационный департамент смог адаптировать существующее законодательство о семье и браке, собственности, наследовании, имущественном статусе женщин, а также другие области гражданского права в соответствии с меняющимися потребностями и жизненными условиями российского общества. Объединённая в интегрированную систему, новая юстиция позволяла людям и сообществам через систему судов, силой решений Кассационного департамента Сената путём дополнения, коррекции и новой интерпретации существующих законов институционализировать, легализовать формирующиеся массовые практики и интересы.
Ещё до принятия соответствующих законодательных актов в 1910-х гг. Сенат разработал и ввёл в практику новые нормы, сократившие значимость родовой собственности, усилившие роль индивидуальной собственности и права собственника ею распоряжаться (в том числе в роли завещателя). Решения Кассационного департамента поддержали статус нуклеарной семьи. Вопреки общим установкам канонического и статутного права, фактически легализовалась практика раздельного проживания супругов, что имело большое значение для защиты прав женщин. Решения высшего суда империи отвечали требованиям всё более широких кругов населения и помогали адаптировать законодательство к меняющимся социальным и экономическим условиям. Они становились обязательными как для нижестоящих судов, так и для административных властей. Эти новые сенатские нормы распространялись в том числе на крестьянские волостные суды, которые активно использовали их при рассмотрении гражданских дел.
Вагнер предполагает, что об адекватности нормотворческой деятельности Сената меняющимся общественным реалиям и признании широкими слоями населения пореформенной юстиции как эффективного средства разрешения споров и защиты личных прав и собственности можно судить, в частности, по тому, что число гражданских дел в судах быстро росло. Кроме того, такой рост знакомил всё большее количество людей с идеями, заложенными как в процессы, так и в решения новых судов.
* * *
Подведём итоги дискуссии о судебно-правовом дуализме. Сторонники этой концепции, верно отмечая неоднородность имперского судебно-правового пространства, допускают неоправданные обобщения. Сельскому и городскому простонародью и в центре, и на окраинах приписывается однозначная приверженность неформальному разрешению конфликтов на основе обычая и устного посредничества, неприятие судебных институтов эпохи модерна, формальной судебной процедуры, письменной правовой культуры. Пореформенные суды описываются как чуждые, непонятные ни в языковом, ни в смысловом планах. Судьи на окраинах империи характеризуются как отчуждённые от местного населения исполнители политики русификации и культурно-правовой ассимиляции. Судебная реформа 1864 г. усилила разобщённость государственных институтов и большинства сообществ империи, нарушила сформировавшиеся элементы дореформенной партикуляристской инклюзии. Разросшееся формальное и неформальное посредничество между сельскими и городскими обывателями и пореформенными органами юстиции оценивается скорее негативно.
Ревизионистская литература, как правило, основана на значительно более широкой источниковой базе. Преимущественно это массовый архивный материал судебных процессов, позволяющий выявить объём, динамику и спектр дел, состав участников, типы исков, аргументацию и поведение сторон, варианты и основания приговоров. Эти исследования продемонстрировали быстрорастущее взаимодействие сельского и городского простонародья центра и окраин с пореформенной юстицией и, шире, с государственными институтами. Происходило интенсивное освоение процедурных правил, приёмов письменной и устной коммуникации с судебным и административным аппаратом, повышалась готовность оспаривать решения низовых инстанций в вышестоящих. Показан не столько дуализм, сколько разнообразие нормативных порядков, к которым обращались как участники процессов, так и судебные и административные инстанции. Исследователи этого направления предпочитают говорить не о противостоящих друг другу целостных культурно-правовых мирах, а о совокупности пересекающихся нормативно-институциональных пространств разрешения конфликтов и поддержания порядка. Скорее позитивно оценивается растущая посредническая среда, помогающая взаимодействию людей и государственных институтов, расширению пространства новой правовой культуры.
В этой литературе доказывается отсутствие принципиальной противоположности общей, мировой и сословной/этносословной юстиции. Обращается внимание на тенденции их сближения в части усиления значимости статутного права и формальной судебной процедуры. Показано, что в позднеимперский период обозначилась и отчасти реализовалась модель соподчинённости низших партикулярных (сословных, этносословных) и местных общегражданских судов. Признана значимость новых пореформенных судов как площадок взаимодействия массовых сообществ и имперского государства.
В развитие этого подхода намечу перспективы. Помимо исследования взаимодействия в судебно-правовой сфере государственных институтов и отдельных этноконфессиональных/этносословных групп необходимо обратить внимание на процессы смешения сообществ, институтов, мест. Именно эти процессы во многом определили востребованность общегражданской юстиции и усиления государственной инфраструктуры разрешения конфликтов, повысили функциональность и ценность закона, формальной судебной процедуры. Сами сословные, этносословные, этнические, локальные сообщества становились всё более неоднородными, дифференцируясь по типу мобильности, экономической активности, социальной стратификации, участия в гражданских сделках в своей общине и за её пределами, степени взаимодействия с государственными учреждениями, востребованности в тех или иных отношениях статутного права и др. Если элитные страты в рамках локальных, региональных, этноконфессиональных групп могли быть заинтересованы в сохранении групповой обособленности, судебно-правовых институтов под собственным контролем («дуализма»), то многие представители подчинённых слоёв, напротив, стремились к более активному взаимодействию с общегражданскими институтами, обращались к ресурсам имперского статутного законодательства, которые в большей степени обеспечивали их права и усиливали позиции во внутриобщинных конфликтах.
Необходимо дальнейшее исследование форм и направлений «укоренения» пореформенных институтов в тех или иных локальных, региональных, этноконфессиональных и поликультурных средах. Оно шло по пути стабилизации региональных судейских корпусов, насыщения их местными людьми, получившими соответствующую профессиональную и практическую подготовку, адаптации присланных судей к местному социокультурному контексту. Следует обратить внимание на разницу взглядов в среде судейского корпуса на выполняемую миссию, отношения с местным населением, его культурой и правовыми привычками. Заслуживает особого внимания институт почётных мировых судей, который на окраинах имел существенно большую значимость и действовал активнее, чем в центральных губерниях. Далеко не исчерпана тематика изучения видов и форм посредничества. Необходима детальная «этнография» судейских канцелярий, разного рода служащих при судах, околосудебной среды ходатаев, процессуальных посредников, формальных и неформальных адвокатов, переводчиков и проч. На смену прежним имперским посредникам дореформенного периода из числа местных элит приходили представители широких кругов населения. Через более тесное взаимодействие со структурами государства выходцы из средних и низших слоёв получали более широкие возможности для социальной мобильности и повышения своего статуса.
Перспективным представляется изучение формальных и неформальных институциональных, смысловых, коммуникационных, правовых связок и взаимовлияния общегражданских судов и этнических, сословных, конфессиональных судебных и судебно-административных институций, а также неформальных форумов правосудия. Отказ от негибкой дуалистической концепции не означает отказа от детального исследования правового и судебного разнообразия. Оно подразумевает изучение роли, взаимодействия и взаимовлияния различных правовых полей – имперского, регионального, обычного, конфессионального права, представлений о «естественной» справедливости – в реальных судебных процессах, в зависимости от места, контекста, участников, сложившейся судебной практики в том или ином округе.
С целью оценки востребованности пореформенной юстиции следует провести тщательный сравнительный межрегиональный анализ динамики судебной активности. Особенно важна численность гражданских судебных дел, инициированных самими участниками процессов. Как показывают предварительные исследования, картина может очень разниться в зависимости от регионов и местностей. Это позволит отказаться от неоправданных обобщений, которые допускались в исследовательских работах, созданных в духе концепции правового дуализма. Для изучения взаимодействия сообществ и имперских институтов необходимо радикально расширить источниковую базу: активнее привлекать материалы судебных процессов, служебных биографий судей, обращений представителей местных сообществ в органы государственной власти относительно судов и судей, очень детальные, как показывают архивные изыскания, материалы ревизий местных имперских судов.
1 «Legal turn» – термин, предложенный немецким историком С. Кирмзе (Kirmse S. «Law and society» in Imperial Russia // InterDisciplines: journal of history and sociology. Vol. 3. 2012. № 2. P. 125).
2 Benton L. Law and colonial cultures: legal regimes in World history, 1400–1900. N.Y., 2002; One law for all? Western models and local practices in (post)imperial contexts / Ed. by S. Kirmse. Frankfurt a/M; N.Y., 2012; Legal pluralism and empires, 1500–1850 / Ed. by L. Benton, R. Ross. N.Y., 2013.
3 Baberowski J. Autocratie und Justiz: Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864–1914. Frankfurt a/M, 1996. S. 339–427, 781–791; Baberowski J. Law, the judicial system and the legal profession // Cambridge history of Russia. Vol. II. Imperial Russia, 1689–1917. Cambridge, 2006. P. 344–368.
4 Pearson Th. Russian law and rural justice: activity and problems of the Russian justices of the peace, 1865–1889 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1984. № 32. P. 52–71; Pearson Th. Russian officialdom in crisis: autocracy and local self-government, 1861–1900. Cambridge, 1989. P. 96–99.
5 Подробнее о возможности других трактовок см.: Верняев И. И. Адаптация мировой юстиции Российской империи на Южном Кавказе // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2019. № 4. С. 1240–1256; Верняев И. И. Мировая юстиция в Бессарабской губернии: сравнительный анализ в имперском контексте // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 63. С. 5–15; Верняев И. И. Профессионализация, демократизация и «коренизация» корпуса мировых судей Юго-Западного края в позднеимперской России // Былые годы. 2021. № 16. С. 1835–1848.
6 Медушевский А. Н. Российская правовая традиция – опора или преграда? Доклад и обсуждение. М., 2014; Медушевский А. Н. Проекты аграрных реформ в России: XVIII – начало XXI века. М.; Берлин, 2015.
7 Медушевский А. Н. Проекты аграрных реформ… С. 702.
8 Раскин Д. И. Использование законодательных актов в крестьянских челобитных середины XVIII века (Материалы к изучению общественного сознания русского крестьянства) // История СССР. 1979. № 4. С. 179–192; Камкин А. В. Правосознание государственных крестьян второй половины XVIII века (по материалам Европейского Севера) // История СССР. 1987. № 2. С. 163–173; Dennison T. K., Carus A. W. The invention of the Russian rural commune: Haxthausen and the evidence // The historical journal. Vol. 4. 2003. № 3. P. 561–582; Верняев И. И. Реформа 1861 года в торгово-промысловом селе Павлово Нижегородской губернии. Часть 1-я // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 2012. Вып. 3. С. 16–41; Верняев И. И. Реформа 1861 г. в торгово-промысловом селе: село Павлово Нижегородской губернии. Часть 2-я // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 2012. Вып. 4. С. 3–30.
9 Камкин А. В. Правосознание государственных крестьян… С. 172.
10 Медушевский А. Н. Российская правовая традиция… С. 91–92.
11 Шатковкая Т. В. Обычное право российских крестьян второй половины XIX – начала XX века. Ростов н/Д, 2009; Шатковкая Т. В. Реализация правовых представлений россиян о справедливом правосудии в процессе адаптации к институту мирового суда // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 5. С. 38–42.
12 Шатковская Т. В. Реализация правовых представлений…
13 Lewin M. Customary law and Russian rural society in the post-reform era // The Russian review. 1985. № 44. P. 1–19; Heuman S. E. Perspectives on legal culture in pre-revolutionary Russia // Law in revolution: contributions to the development of Soviet legal theory / Ed. by P. Beirne. Armonk; N.Y., 1990. P. 3–16; Jones A. Late Imperial Russia. An interpretation: three visions, two cultures, one peasantry. Bern, 1997; Frank S. Crime, cultural conflict and justice in rural Russia, 1856–1914. Berkeley (СА); L., 1999; Вронский О. Г. Крестьянская община на рубеже XIX–XX вв.: структура управления, поземельные отношения, правопорядок. М., 1999; Томсинов В. А. Правовая культура // Очерки русской культуры XIX века. Т. 2. Власть и культура. М., 2000. С. 102–167; Кутафин О. Е., Лебедев В. М., Семигин Г. Ю. Судебная власть в России: история, документы. Т. 4. На рубеже веков: эпоха войн и революций. М., 2003. C. 27; Давидян Г. М. Организация правосудия в Закавказье в XIX в.: судебные реформы // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2015. № 2. С. 76–86; Безгин В. Б. Мужицкая правда. Обычное право и суд русских крестьян. М., 2017.
14 Воропанов В. А. Практика местного правосудия: государственные суды для сельских обывателей Оренбургской губернии в последней четверти XVIII – начале XIX в. // Ab imperio. 2002. № 3. С. 137–160; Воропанов В. А. О деятельности судебных представителей сельских сословий в уездах Русского Севера в конце XVIII века // Генезис: исторические исследования. 2015. № 2. С. 104–120; Воропанов В. А. Суд и правосудие в провинции Российской империи во второй половине XVIII в. (на примере областей Поволжья, Урала, Западной Сибири и Казахстана). М., 2016.
15 Plate A. «To judge by the letter of the law»: сases filed to peasant crown courts in the Central Urals, 1780s–90s // Bylye Gody. Vol. 17. 2022. № 1. P. 93–99.
16 Kirmse S. «Law and society» in Imperial Russia. P. 103–34; Kirmse S. Law and empire in late Tsarist Russia: Muslim Tatars go to court // Slavic review. Vol. 72. 2013. № 4. P. 778–801; Kirmse S. New courts in late Tsarist Russia. On imperial representation and Muslim participation // Journal of modern European history. Vol. 11. 2013. № 2. P. 243–263; Kirmse S. The lawful empire. Legal change and cultural diversity in late Tsarist Russia. Cambridge, 2019.
17 Kirmse S. The lawful empire… P. 22–23.
18 Ibid. P. 278, 282.
19 Burbank J. Russian peasants go to court: legal culture in the countryside, 1905–1917. Bloomington, 2004; Burbank J. An imperial rights regime: law and citizenship in the Russian Empire // Kritika: explorations in Russian and Eurasian history. Vol. 7. 2006. № 3. P. 397–431; Burbank J. Thinking like an empire: estate, law, and rights in the early twentieth century // Russian Empire: space, people, power, 1700–1930 / Ed. by J. Burbank, M. von Hagen. Bloomington, 2007. P. 196–217; Burbank J. Rights of the ruled: legal activism in Imperial Russia // Wisconsin international law. Journal 29. 2011. № 2. P. 319–342.
20 Burbank J., Kuper F. Empires in world history: power and the politics of difference. Princeton, 2010.
21 Burbank J. Russian peasants go to court… P. 8.
22 См., например, исследование по Закавказью: Верняев И. И. Адаптация мировой юстиции…
23 Верняев И. И. Реформа местного суда 1912 г. в имперском измерении: как строить общие институты в многосоставном обществе // Новейшая история России. Т. 8. 2018. № 4. С. 966–982.
24 Gaudin C. Ruling peasants: village and state in late Imperial Russia. DeKalb, 2007. P. 85–131, 207.
25 Ibid. P. 111.
26 Попп И. А. Мировой суд в Пермской губернии. Екатеринбург, 2011; Попп И. А. «Безусловные похвалы, высказанные… в отношении волостных судов… сделаны людьми, смотревшими на дело с одной только теоретической стороны»: власть и местное судопроизводство в России во второй половине XIX века // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. М., 2021. С. 196–222.
27 Neuberger J. Popular legal cultures: the St. Petersburg mirovoi sud // Russia’s great reforms, 1855–1881 / Ed. by B. Eklof, J. Bushnell, L. Zakharova. Bloomington, 1994. P. 231–246; Neuberger J. Between statute and custom: mediation, the justice of the peace, and popular legal culture in Imperial Russia. Conference on judicial reform in Russia, 1864–1995. Toronto, 1995. Р. 1–23; Neuberger J. «Shysters» or public servants: uncertified lawyers and legal aid for the poor in late Imperial Russia // Russian history / Histoire Russe. Vol. 23. 1996. № 1–4. P. 295–310; Neuberger J. When the word was the deed: workers vs employers before the justices of the peace // Workers and the intelligentsia in late Imperial Russia: realities, representations, reflections / Ed. by R. E. Zelnik. Berkeley (CA), 1999. P. 292–308.
28 Neuberger J. Between statute and custom… P. 18.
29 Neuberger J. Popular legal cultures… P. 240–241.
30 Neuberger J. Between statute and custom… P. III.
31 Neuberger J. «Shysters» or public servants… P. 310.
32 Wagner W. The Civil cassation department of the Senate as an instrument of progressive reform in post-emancipation Russia: the case of property and inheritance law // Slavic review. Vol. 42. 1983. № 1. P. 36–59; Wagner W. Family law, the rule of law, and liberalism in late Imperial Russia // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1995. H. 4. S. 519–535; Wagner W. Civil law, individual rights, and judicial activism in late Imperial Russia // Reforming justice in Russia, 1864–1996: power, culture, and the limits of legal order / Ed. by P. Solomon. N.Y., 1997. P. 29–44.
About the authors
Igor I. Vernyaev
Saint Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
кандидат исторических наук, доцент
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Безгин В.Б. Мужицкая правда. Обычное право и суд русских крестьян М.: Common place, 2017. 334 с.
- Верняев И.И. Адаптация мировой юстиции Российской империи на Южном Кавказе // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2019. № 4. С. 1240–1256.
- Верняев И.И. Мировая юстиция в Бессарабской губернии: сравнительный анализ в имперском контексте // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 63. С. 5–15.
- Верняев И.И. Профессионализация, демократизация и «коренизация» корпуса мировых судей Юго-Западного края в позднеимперской России // Былые годы. 2021. № 16(4). С. 1835–1848.
- Верняев И.И. Реформа 1861 года в торгово-промысловом селе: Павлово Нижегородской губернии. Часть 1-я // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2012. Вып. 3. С. 16‒41.
- Верняев И.И. Реформа 1861 г. в торгово-промысловом селе: село Павлово Нижегородской губернии. Часть 2-я // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 3‒30.
- Верняев И.И. Реформа местного суда 1912 г. в имперском измерении: как строить общие институты в многосоставном обществе // Новейшая история России. 2018. Т. 8, № 4. С. 966–982.
- Воропанов В.А. О деятельности судебных представителей сельских сословий в уездах Русского Севера в конце XVIII века // Генезис: исторические исследования. 2015. № 2. С. 104–120.
- Воропанов В.А. Практика местного правосудия: государственные суды для сельских обывателей Оренбургской губернии в последней четверти XVIII – начале XIX в. // Ab imperio. 2002. № 3. С. 137–160.
- Воропанов В.А. Суд и правосудие в провинции Российской империи во второй половине XVIII в. (на примере областей Поволжья, Урала, Западной Сибири и Казахстана). М.: Юрлитинформ, 2016. 451 с.
- Вронский О.Г. Крестьянская община на рубеже XIX–XX вв.: структура управления, поземельные отношения, правопорядок. М.: Московский педагогический университет, 1999. 153 с.
- Давидян Г.М. Организация правосудия в Закавказье в XIX в.: судебные реформы // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2015. No 2. С. 76–86.
- Камкин А.В. Правосознание государственных крестьян второй половины XVIII века (по материалам Европейского Севера) // История СССР. 1987. № 2. С. 163–173.
- Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, документы. Т. 4: На рубеже веков: эпоха войн и революций. М.: Мысль, 2003. 677 с.
- Медушевский А.Н. Российская правовая традиция — опора или преграда?: Доклад и обсуждение. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2014. 136 с.
- Медушевский А.Н. Проекты аграрных реформ в России: XVIII –начало XXI века; 2-е изд. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. 761 с.
- Попп И.А. «Безусловные похвалы, высказанные... в отношении волостных судов... сделаны людьми, смотревшими на дело с одной только теоретической стороны»: власть и местное судопроизводство в России во второй половине XIX века // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. М.: НЛО, 2021. С. 196–222.
- Попп И.А. Мировой суд в Пермской губернии. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2011. 370с.
- Раскин Д.И. Использование законодательных актов в крестьянских челобитных середины XVIII века (Материалы к изучению общественного сознания русского крестьянства) // История СССР. 1979. № 4. С. 179–192.
- Томсинов В.А. Правовая культура // Очерки русской культуры XIX века. — Т. 2. Власть и культура. М., 2000. С. 102–167.
- Шатковcкая Т.В. Обычное право российских крестьян второй половины XIX – начала XX века. Ростов н/Д: Южный федеральный университет, 2009. 576 с.
- Шатковская Т.В. Реализация правовых представлений россиян о справедливом правосудии в процессе адаптации к институту мирового суда // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 5. С. 3842.
- Baberowski J. Autocratie und Justiz: Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864–1914. Frankfurt am Main: V. Klostermann Publ., 1996. 845 p.
- Baberowski J. Law, the judicial system and the legal profession // Cambridge History of Russia. Vol. II: Imperial Russia, 1689–1917. Cambridge University Press, 2006. Pp. 344–368.
- Benton L. Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400–1900. New York: Cambridge University Press, 2002. XIII+285 p.
- Burbank J. An Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2006. Vol. 7. No 3. Pp. 397–431.
- Burbank J. Rights of the Ruled: Legal Activism in Imperial Russia // Wisconsin International Law. 2011. Journal 29, No. 2. Pp. 319–342.
- Burbank J. Russian Peasants Go to Court: Legal Culture in the Countryside, 1905–1917. Bloomington; Indianapolis, IN: Indiana University Press, 2004. 374 p.
- Burbank J. Thinking Like an Empire: Estate, Law, and Rights in the Early Twentieth Century // Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930 / Ed. by J. Burbank, M. von Hagen. Bloomington: Indiana University Press, 2007. Pp. 196–217.
- Burbank J., Kuper F. Empires in world history: power and the politics of difference. Princeton, NJ, Princeton University Press, 2010. 528 p.
- Dennison T.K., Carus A.W. The invention of the Russian rural commune: Haxthausen and the evidence // The Historical Journal. 2003. Vol. 4, no 3. Pp. 561–582.
- Frank S. Crime, Cultural Conflict and Justice in Rural Russia, 1856-1914. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1999. xxii, 352 pp.
- Gaudin C. Ruling Peasants: Village and State in Late Imperial Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2007. X, 271 p.
- Heuman S.E. Perspectives on Legal Culture in Pre-Revolutionary Russia // Law in Revolution: Contributions to the Development of Soviet Legal Theory / Ed. by P. Beirne. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1990. Pp. 3–16.
- Jones A. Late imperial Russia. An interpretation: Three visions, two cultures, one peasantry. Bern, 1997.457 p.
- Kirmse S. «Law and society» in imperial Russia // InterDisciplines: Journal of History and Sociology. 2012. Vol. 3. No 2 (Law and Historiography: Contributions to a New Cultural History of Law). Pp. 103–134.
- Kirmse S. Law and Empire in Late Tsarist Russia: Muslim Tatars Go to Court // Slavic Review. 2013. Vol. 72, No 4. Pp. 778–801.
- Kirmse S. New Courts in Late Tsarist Russia. On Imperial Representation and Muslim Participation // Journal of Modern European History. 2013. Vol. 11, No 2. Pp. 243–263
- Kirmse S. The Lawful Empire. Legal Change and Cultural Diversity in Late Tsarist Russia. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2019. XIV, 341 pp.
- Legal Pluralism and Empires, 1500–1850 / Ed. by Lauren Benton and Richard J. Ross. New York: NYUPress, 2013. 336 p.
- Lewin M. Customary Law and Russian Rural Society in the Post-Reform Era // The Russian Review. 1985. N44. Pp. 1–19.
- Neuberger J. «Shysters» or Public Servants: Uncertified Lawyers and Legal Aid for the Poor in Late Imperial Russia // Russian History / Histoire Russe. 1996. Vol. 23. № 1–4. Pp. 295–310.
- Neuberger J. Between Statute and Custom: Mediation, the Justice of the Peace, and Popular Legal Culture in Imperial Russia. Conference on Judicial Reform in Russia, 1864–1995. University of Toronto, 1995. URL:https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1995-807-28-Neuberger.pdf (дата обращения: 17.04.2023).
- Neuberger J. Popular Legal Cultures: The St. Petersburg Mirovoi Sud // Russia’s Great Reforms, 1855–1881/ Ed. by B. Eklof, J. Bushnell, L. Zakharova. Bloomington: Indianapolis University Press, 1994. Pp. 231–246.
- Neuberger J. When the Word Was the Deed: Workers vs. Employers Before the Justices of the Peace // Workers and the Intelligentsia in Late Imperial Russia: Realities, Representations, Reflections / Ed. by R.E. Zelnik. Berkeley, CA: University of California Press, 1999. Pp. 292–308.
- One Law for All? Western Models and Local Practices in (Post)Imperial Contexts / Ed. by Stefan B. Kirmse. Frankfurt, New York: Campus, 2012. 297 p.
- Pearson Th. Russian Law and Rural Justice: Activity and Problems of the Russian Justices of the Peace, 1865–1889 // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 1984. № 32 (1). Pp. 52–71.
- Pearson Th. Russian Officialdom in Crisis: Autocracy and Local Self-Government, 1861–1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 284 p.
- Plate A. “To Judge by the Letter of the Law”: Сases Filed to Peasant Crown Courts in the Central Urals, 1780s-90s // Bylye Gody. 2022. Vol. 17. Iss. 1. Pp. 93–99.
- Wagner W. Civil Law, Individual Rights, and Judicial Activism in Late Imperial Russia // Reforming Justice in Russia, 1864–1996: power, culture, and the limits of legal order / Ed. by P. Solomon. New York: M. E. Sharpe, 1997. Pp. 29–44.
- Wagner W. Family law, the rule of law, and liberalism in late imperial Russia // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1995. H. 4. S. 519–535
- Wagner W. The Civil Cassation Department of the Senate as an Instrument of Progressive Reform in Post-Emancipation Russia: The Case of Property and Inheritance Law // Slavic Review. 1983. Vol. 42, iss. 1. Pp. 36–59.
Supplementary files