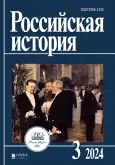State power and society of Late Imperial Russia in the assessments of V. A. Maklakov
- Authors: Minakov A.S.1,2
-
Affiliations:
- Institute of Russian History (RAS)
- Moscow Pedagogical State University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 44-49
- Section: Dialogue about the book
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/264331
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030032
- EDN: https://elibrary.ru/GDWTCF
- ID: 264331
Cite item
Full Text
Abstract
The article describes the publication of part of the memoirs of a prominent political and public figure in Russia at the beginning of the twentieth century, one of the leaders of the Kadet Party, the famous lawyer Vasily Alekseevich Maklakov. The excellent style and content of the memoirs are noted, reflecting the development of the social movement in Russia, the relationship between government and society, the fate of the Kadet Party, and vivid portraits of contemporaries through a biographical context. This publication is very important for the study of the social movement and Russian liberalism of the early twentieth century.
Keywords
Full Text
Василий Алексеевич Маклаков – блистательный адвокат и интеллектуал, признанный лидер правого крыла кадетской партии, а позднее – российской эмиграции в Париже, – принадлежал к числу фигур, влиявших на развитие общественной жизни России начала ХХ в. В 1928 г., приступая к работе над воспоминаниями о долгой и насыщенной событиями жизни, он сообщал Б. А. Бахметеву: «Писать буду исключительно для русских, по-русски, но зато с полной откровенностью» 1.
Мемуарное наследие Маклакова, как и его не менее интересная переписка, хорошо известны историкам 2. Поэтому научное издание наиболее крупной его части, впервые вышедшей тремя выпусками в 1936 г. как приложение к парижскому еженедельнику «Иллюстрированная Россия», – значимое событие в историографии. Подготовивший его С. В. Куликов дополнил авторский текст обстоятельными комментариями (с. 512–698), аннотированным указателем имён и предисловием, освещающим ключевые вехи пройденного Маклаковым пути, а также обстоятельства появления и публикации его труда, основанного не только на личных впечатлениях, но и на многочисленных документах самого разного характера.
Юность Маклакова пришлась на царствование Александра III, когда бывшие «крепостники» уже «поняли пользу “новых порядков”», сложившихся в 1860-е гг., а «в обществе наступило отрезвление и успокоение», и оно «стало гораздо способнее к реальной и полезной работе». Между тем советники императора совершили «глубокое преступление перед Россией», направив его политику «не на исправление, а на уничтожение Великих реформ, на борьбу с принципами, на которых они были построены» (с. 43–45).
На личностное и профессиональное становление Маклакова сильно повлияло знакомство с европейским опытом. Посетив в 1889 г. Всемирную выставку в Париже, он проникся глубокой симпатией к общественному устройству Франции и впоследствии ежегодно проводил Пасху и Рождество в её столице. Молодому франкофилу и поклоннику идей 1789 г. «хотелось перенести к нам эти порядки» (с. 111). В целом он, видимо, никогда не сомневался в том, что в пореформенные годы «России было нужно проходить стадию естественной капиталистической эволюции… по проторенным путям, по которым раньше победоносно пошли европейские демократии» (с. 35–36).
Серьёзным испытанием зрелости русской общественности стал голод 1891–1892 гг., показавший уязвимость казавшейся эффективной самодержавной системы. На этом фоне «началась первая борьба представителей общества с “властью”». Тогда «с её обличениями выступили» даже «те, полная лояльность которых была вне всяких сомнений» (гр. В. А. Бобринский, Д. Ф. Самарин). «И власть вдруг сдала», – с удивлением отмечал мемуарист. Именно так интерпретировались правительственные меры, направленные на устранение катастрофических последствий недорода 3. По словам автора, «самое главное: была разрешена частная инициатива для помощи голодающим». При этом Маклаков признаёт: «Бедствие было так громадно, что вся общественная помощь была каплей в море в сравнении с тем, что было нужно; государство могло дать и дало для борьбы с голодом бесконечно больше, чем общество». Но для него «важно, что этим разрешением государство отклоняло энергию общества от борьбы с властью на борьбу с голодом». Василий Алексеевич называет это «умной политикой», в результате которой, «если бы она везде проводилась… общество организовалось бы для содействия, сотрудничества с властью, а не для одного сопротивления». Однако шанс был упущен, поскольку «если власть поняла, что в данную минуту и на таком деле надо сделать уступку, то она совсем не хотела, чтобы это стало переменой политики; при первой возможности все уступки были взяты назад» (с. 128–129). Между тем «тогдашняя общественность» руководствовалась чисто моральными соображениями и, в отличие от 1914–1916 гг., ещё не пыталась «соревноваться» с правительством. Вот «только власть этого не захотела ни понять, ни оценить, ни использовать» (с. 129–130).
Вместе с тем, по свидетельству мемуариста, работавшие в начале 1890-х гг. в деревне «рассказывали как о курьёзе, что все голодающие твёрдо убеждены, что деньги на помощь голодающим даны царём, что общественные работники были присланы им и что поэтому своей работой они служили только его прославлению». Уже позднее пришло осознание того, что «это была та незнакомая интеллигенции народная психология, которую она неожиданно открывала при соприкосновении с настоящим народом» (с. 130). Таковым считались прежде всего крестьяне, униженные и неравноправные, но упорно ожидавшие от верховной власти новых наделов, так как, по их представлениям, «земля их бывших помещиков должна им перейти потому, что когда-то помещики ими самими владели. Это казалось для них нормальным окончанием старых крепостных отношений» (с. 200). Со своей стороны, Маклаков признавал, что «это настроение крестьянства было опасно не для самодержавия, а для всего государства», и «для борьбы с ним нужны были решительные, но отнюдь не репрессивные и не революционные меры». Более того, «исторический долг либерализма был их предложить». Однако в начале XX в. редакция журнала «Освобождение», для которой «главным фронтом была тогда война с самодержавием», напротив, поощряла и разжигала ожидания грядущего передела собственности (с. 201).
«Опасность» мемуарист усматривал и в «общем настроении рабочего класса» (с. 176). При этом ему казалось, что «рабочий вопрос должен был разрешаться прежде всего самодеятельностью и организацией рабочего класса. Государство должно было только ему помогать… Когда перед рабочими открыты пути защищать свои интересы, они не мечтают о революции; этим поддерживается кровная связь рабочих с государством. Это школа, которая лучше полицейской силы удерживает от беспорядков» (с. 178). Но в России на рубеже XIX–XX вв., «выступая в роли всемогущего устроителя жизни, государство брало на себя ответственность за всё, чем рабочие могли быть недовольны. Оно претензии рабочих против хозяев благодаря этому окрашивало “политическим цветом”; рабочего вопроса оно не разрешило, но защиту рабочими своих интересов против хозяев превратило в борьбу против власти» (с. 179). И если «правительство, стараясь оградить рабочую среду от всякой политической агитации и мешая поэтому легальным влияниям, само создало на фабриках фактическую монополию подпольной социал-демократической пропаганды» (с. 179), то либеральная оппозиция не решилась «противопоставить свой идеал правового порядка идеалу социал-демократии», не желая «рисковать расколом в освободительном лагере» (с. 181).
На протяжении всей книги Маклаков вписывает свои размышления в биографический контекст повествования. Но в центре его внимания всегда остаётся трагедия «освободительного движения» и его ответственность за судьбу страны при политической отсталости населения, не подготовленного к восприятию демократических и гражданских свобод.
Маклаков знал настроения земских либералов как секретарь и архивариус кружка «Беседа», воплощавшего «молодость русской либеральной общественности». В этом элитарном клубе, не имевшем широкой опоры в обществе, «не было ни следа демагогии или искания популярности». Его участники «думали и говорили о “пользе” народа, а не о “воле народа”». Созданная ими организация «не упрощала вопросов, не старалась бросать лозунгов, соблазнительных для “народа”» (с. 261). Атмосфера «Беседы» импонировала Маклакову, с детства усвоившему достоинство высшего общества, не испытывавшему комплекса вины перед народными массами и полагавшему, что им надо помогать, но не уступать своё место и тем более не следовать за их предрассудками. Рано осознал он и одну из ключевых проблем всех демократических режимов – подавление малоразвитым большинством более культурного и образованного меньшинства 104.
В земстве Маклаков видел единственную часть оппозиции, имевшую хоть какой-то управленческий опыт и способную стать зрелым партнёром правительства (с. 145–146, 386–387). Он мечтал о компромиссе – о том, чтобы власть дала конституцию и тем самым обеспечила бы себе поддержку общества. Однако в начале царствования Николай II «без всякой необходимости вместо ожидаемого развития либеральных реформ» заявил «о несовместимости самодержавия с простым участием земства в государственном управлении; он признал, что враги самодержавия не в революционной, а в лояльной земской среде» (с. 153). А в 1905–1906 гг. уже «настроение общества… сорвало ту комбинацию, которая могла бы поставить Россию на прочные рельсы, – примирения исторической власти с либеральной общественностью» (с. 396). Неудачные диалоги гр. С. Ю. Витте с её представителями выявили раскол между земцами и интеллигенцией и их неготовность к сотрудничеству (с. 369–385). Сетуя на «политическое младенчество» земского съезда, обсуждавшего в ноябре 1905 г. условия поддержки правительства, Маклаков констатировал отсутствие шансов на гражданское согласие (с. 392–396). В итоге государство поспешило дать сразу много свобод незрелому обществу, которое, увлекаясь, выдвигало максималистские претензии, тогда как на деле «торжество либеральных идей и конституционных начал было гораздо больше связано с сохранением монархии, чем с победой революции» (с. 437).
Маклакова разочаровали действия его соратников по кадетской партии в I Думе, которые из-за наивной самоуверенности, преувеличив значение собственной победы и ослабление государственного аппарата, не сумели воспользоваться электоральным триумфом: «Поверив в свою непобедимость, они хотели конфликта». Им не удалось верно оценить силу свободного волеизъявления народа, так как это были, по сути, первые, и, как оказалось, единственные выборы, прошедшие в империи без давления властей. Результаты голосования, обеспечившие успех кадетов, наглядно «показали, что старого порядка – самодержавия – страна больше не хочет» (с. 461–465). Но именно поэтому, как писал Маклаков, вспоминая о I Думе, «соглашение общественности с исторической властью для либеральных реформ и стало в это время конкретной задачей либерализма и, прежде всего, той партии, которая представляла собой почти всё либеральное общество» 5. И если её не решили, то, риторически вопрошал мемуарист, не потому ли, что «партия была во власти прошлого и вперёд смотреть не умела?» (с. 463).
Впрочем, недальновидность и политическую неискушённость демонстрировали не только депутаты. В начале ХХ в. присяжные поверенные, защищая обвиняемых на политических судебных процессах, также вступали в схватку с властью (с. 160–164). А созданный весной 1905 г. Всероссийский союз адвокатуры скорее выражал отношение к происходившим событиям, нежели формулировал корпоративные интересы. Рассказывая о том, как «профессиональный Адвокатский союз» провёл свой первый съезд, Василий Алексеевич удивлялся, «насколько собрание адвокатов, людей культурных и образованных, по профессии связанных с самыми разнообразными правовыми проблемами государства, оказалось малоподготовленным к роли государственного устройства России, которую оно с такой лёгкостью брало на себя» (с. 315). Его наблюдения вполне подтверждаются современными исследованиями, указывающими на повальное увлечение профессиональными объединениями в годы Первой русской революции и «завышенные ожидания либеральной общественности, стремившейся к абсолютному освобождению публичной сферы от государственного контроля» 6. В целом мемуарист реалистично отобразил портрет русской либеральной интеллигенции, которая, по словам В. В. Шелохаева, «демонстрировала органическую неспособность к компромиссу» и «не смогла найти “общего языка” ни c властью, ни со своими идеологическими оппонентами» 7. Как вспоминал Маклаков, «в России либеральное течение казалось обречённым быть вечною и безнадёжною оппозицией. Либерализм стал, по существу, оппозиционной категорией». Конечно, «русский либерализм давно этим страдал, как профессиональной болезнью. Но “освободительное движение” все эти свойства либерализма усилило и обострило… Прежнего, знакомого типа либерального деятеля, которые бывали у власти, больше не оставалось. Освободительное течение их уничтожило и похоронило» (с. 219).
Маклаков оставил в мемуарах немало ярких портретов своих современников. В их числе министры, партийные лидеры, юристы и т. д. Автору явно импонировали сильные личности, видимо, отсутствовавшие в рядах российских либералов начала ХХ в. Он не раз с пиететом цитировал О. фон Бисмарка (с. 219, 265, 353, 364, 489). Подробно описано им знакомство в 1906 г. с Ж. Клемансо: «Старый якобинец, он смотрел на нас с сочувствием человека, видавшего виды, и не прочь был умерить наш пыл. Как всегда был остроумен и блестящ, сыпал парадоксами и афоризмами, но говорил совсем не в том тоне, который можно было ожидать по его левой репутации. В нём уже обнаруживался тот реалист, который словами не увлекается и не боится смотреть правде в глаза, каким позднее он себя показал» (с. 451).
Особое внимание Маклаков уделял Витте, которого признавал выдающимся государственным деятелем, называя «последним представителем “либерального самодержавия”, каких мы видели в эпоху 1860-х годов». Для мемуариста «он олицетворял собой то, что в обречённом на гибель, разрушающем себя самодержавии ещё оставалось здорового и что могло спасти ему жизнь». Василий Алексеевич часто обращался к опубликованным воспоминаниям Витте, а также к его суждениям, звучавшим в их частных разговорах после отставки Сергея Юльевича с поста председателя Совета министров (с. 226–227, 359–362). Противоположных оценок Маклакова удостаивался В. К. Плеве, который изображён в книге не только как антипод Витте, но и как «временщик той эпохи» (с. 214) и «трагическая фигура в нашей истории» (с. 255), гонитель земства и авторитетных земских деятелей – М. А. Стаховича и Д. Н. Шипова (с. 267–268, 279), один из виновников развязывания русско-японской войны (с. 214, 255, 279). Маклаков утверждал, что «Плеве был последней ставкой агрессивного самодержавия» и его «смерть была встречена почти всеобщею радостью» (с. 281). Правда, мемуарист признаётся, что «жил в среде людей, которые не могли быть к нему беспристрастны», а сам «никогда с ним не говорил». Между тем «свою политическую позицию Плеве защищал с большой энергией», «не боялся создавать себе врагов», «был и последователен», «не вилял и взглядов своих не скрывал», «бился с открытым забралом» и «не был похож на слепого фанатика», напротив, «был человек умный и трезвый». Более того, «фигура всем ненавистного Плеве была не лишена не только трагизма, но и своеобразного героизма» (с. 256–257).
На фоне таких характеристик образы вождей «освободительного движения» выглядят гораздо бледнее, тогда как их критика звучит жёстче. Чаще других при этом обличается П. Н. Милюков, выступавший против сближения кадетской партии с властью (с. 415).
В примечаниях к воспоминаниям Маклакова публикатор раскрывает упомянутые в них персоналии и географические названия, приводит пространные выдержки из законодательных актов и документов, поясняет различные события и уточняет факты. Аннотированный именной указатель существенно облегчает пользование книгой. Однако научно-справочному аппарату порою не хватает единообразия. Так, говорится о том, что кн. Д. И. Шаховской «расстрелян», А. И. Шингарёв «убит», а Д. Н. Шипов «репрессирован» большевиками, В. К. Плеве «убит 14 июля 1904 г. эсером Е. С. Сазоновым» (с. 724, 733–734). Однако об обстоятельствах смерти других жертв террора – Н. Э. Баумана, Н. И. Бобрикова, Н. П. Боголепова, Д. С. Сипягина ничего не сказано. При передаче текста, к сожалению, не исправлены некоторые опечатки во французских словах («nouivelles» вместо «nouvelles», «Place Bauveau» вместо «Place Beauvau» (с. 66, 453)).
Отдельные примечания выглядят спорно. Например, приказ Николая II «опечатать бумаги» гр. Витте после его смерти объясняется «тем, что в нём видели активного сторонника Германии и сепаратного мира с нею» (с. 579). Однако император давно интересовался личным архивом и оригиналом знаменитых мемуаров графа 8. Кроме того, официальное изъятие документов, оставшихся после видных сановников, являлось в Российской империи обычной практикой (те из них, что носили сугубо частный характер, затем, как правило, возвращались). Некоторые комментарии несообразно обширны из-за почти дословного цитирования хорошо известных и легко доступных текстов, например, Манифеста 29 апреля 1881 г., обращений и резолюций общественных организаций и деятелей, статей Уголовного уложения и др. (с. 513–515, 563–564, 638–641). В целом, комментарии, занимающие почти треть книги, заметно перегружены.
Может показаться, что мемуары Маклакова рассчитаны на подготовленного читателя, легко ориентирующегося в калейдоскопе противоречивых зигзагов политической истории России рубежа XIX–ХХ вв. Однако великолепная авторская стилистика и логичная композиция делают их замечательным путеводителем по общественным настроениям предреволюционного времени. Они раскрывают хитросплетения и парадоксы российского либерализма, с его яркими замыслами, смелыми реформаторскими планами, полемической энергией и перманентными исканиями, сочетавшимися с иллюзорными надеждами, самообольщением, заблуждениями и отсутствием прагматизма в государственных делах.
1 «Совершенно лично и доверительно!» Б. А. Бахметев – В. А. Маклаков. Переписка. 1919–1951. Т. 3 / Публ. О. В. Будницкого. М., 2002. С. 413.
2 Маклаков В. А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917. М., 2006; Маклаков В. А. Первая Государственная дума. Воспоминания современника. 27 апреля – 8 июля 1906 г. М., 2006; Маклаков В. А. Вторая Государственная дума. Воспоминания современника. 20 февраля – 2 июня 1907 г. М., 2006; «Совершенно лично и доверительно!» Б. А. Бахметев – В. А. Маклаков. Переписка. 1919–1951. В 3 т. / Публ. О. В. Будницкого. М., 2001–2002; Спор о России. В. А. Маклаков – В. В. Шульгин. Переписка. 1919–1939 / Публ. О. В. Будницкого. М., 2012.
3 Подробнее о них см.: Robbins R. G. Famine in Russia, 1891–1892. N.Y.; L., 1975. P. 176; Степанов В. Л. Министр финансов И. А. Вышнеградский и голод 1891–1892 гг. // Российская история. 2023. № 5. С. 47–69.
4 Будницкий О. В. Нетипичный Маклаков // Отечественная история. 1999. № 2. С. 14.
5 Маклаков В. А. Первая Государственная дума… С. 13.
6 См., в частности: Туманова А. С. Первая русская революция и провозглашение свободы союзов и собраний // Отечественная история. 2005. № 5. С. 44.
7 Шелохаев В. В. Либерализм в России в начале ХХ века. М., 2019. С. 494.
8 Витенберг Б.М. К истории личного архива С. Ю. Витте // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XVII. Л., 1985. С. 248–254.
About the authors
Andrey S. Minakov
Institute of Russian History (RAS); Moscow Pedagogical State University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
Dr. Sc. (History), Head of the Directorate for the Study of History, Professor of the Department of Russian History, Leading Research Fellow
Russian Federation, Moscow; MoscowReferences
- Будницкий О.В. Нетипичный Маклаков // Отечественная история. 1999. № 2. С. 14.
- Витенберг Б.М. К истории личного архива С.Ю. Витте // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XVII. Л., 1985. С. 248–254.
- Маклаков В.А. Власть и общественность на закате старой России: воспоминания современника. М., 2023.
- Маклаков В.А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917. М., 2006;
- Маклаков В.А. Вторая Государственная дума. Воспоминания современника. 20 февраля – 2 июня 1907 г. М., 2006;
- Маклаков В.А. Первая Государственная дума. Воспоминания современника. 27 апреля – 8 июля 1906 г. М., 2006;
- «Совершенно лично и доверительно!» Б.А. Бахметьев – В.А. Маклаков. Переписка, 1919–1951. В 3 т. / Публ. О.В. Будницкого. М., 2001–2002;
- Спор о России. В.А. Маклаков – В.В. Шульгин. Переписка, 1919–1939 / Публ. О.В. Будницкого. М.,2012.
- Степанов В.Л. Министр финансов И.А. Вышнеградский и голод 1891–1892 гг. // Российская история. 2023. № 5. С. 47–69.
- Туманова А.С. Первая русская революция и провозглашение свободы союзов и собраний // Отечественная история. 2005. № 5. С. 44.
- Шелохаев В.В. Либерализм в России в начале ХХ века. М., 2019. С. 494.
- Robbins R.G. Famine in Russia, 1891–1892. N.Y.; L., 1975. P. 176
Supplementary files