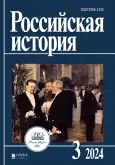Autocracy and the Great Reforms in the memoirs of V. A. Maklakov
- Authors: Mamonov A.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 68-81
- Section: Dialogue about the book
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/264336
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030051
- EDN: https://elibrary.ru/GDQGIG
- ID: 264336
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the analysis of the first scientific edition of V.A. Maklakov's memoirs. The author examines the problems of the relationship between the autocracy and the social movement in the Russian Empire at the beginning of the twentieth century.
Full Text
Подзаголовок книги В. А. Маклакова «Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника» способен только запутать читателя. Это легко почувствовать, если сравнить её с более поздней редакцией мемуаров 1. Их тексты порою дословно совпадают (хотя стилистически последняя версия обработана гораздо лучше), в основной части они охватывают один и тот же период, но выстроены совершенно по-разному. В центре издания 1954 г. – фигура автора, меланхолично излагающего «главный урок моей жизни», лишь в последней главе дополняя его рассуждениями о государстве, земельной собственности и демократии. Между тем в 1936 г., собирая воедино и перерабатывая выходившие ранее журнальные очерки, Маклаков фокусировал внимание читателя не на себе, а на судьбе пореформенного самодержавия, от его «торжества» в 1861 г. и «укрепления» в 1880-е гг. до «агонии» в 1905 г. и «падения» в 1906 г. При этом мемуарные зарисовки и отступления не столько связывали и вели сюжет повествования, сколько дополняли, конкретизировали и иллюстрировали мысли автора, переходившего, судя по названиям частей и глав, не от юности к зрелости, а от «реакции» к «лжеконституции».
Однако именно благодаря добавлению «воспоминаний» рассказ Маклакова приобрёл ту характерную личную, псевдоисповедальную тональность, которая придаёт ему особую убедительность. И она ещё больше усиливается тем, что автор, на первый взгляд, никого полностью не оправдывает (в той или иной мере в случившемся в стране «пожаре» у него виноваты все), наоборот, критикует «своих» товарищей и не раз хвалит противника, не демонизируя и не принижая его. Всё это подаётся образно, афористично, с широкими обобщениями и запоминающимися портретами современников. Читателю невольно передаётся ощущение погружённости мемуариста в описываемые события и процессы (даже когда тот непосредственно в них не участвовал), и его тянет за новым Вергилием на берега так часто упоминаемого Маклаковым «Ахеронта» 2. Впрочем, подобная «соблазнительная» увлекательность авторской концепции и свидетельствует о необходимости критического анализа её внутренней логики и аргументации.
Очерчивая свою позицию, мемуарист на первых же страницах отмечал: «Для моего поколения проблема “самодержавия” оказалась в центре политической мысли… В зрелые годы борьба с ним стала всё покрывающим лозунгом, отодвинула на задний план всё остальное». В то время, в начале XX в., «оно было обречено всеми и бесповоротно», казалось, что «самодержавие проигрывало тогда неправое и безнадёжное дело» (с. 121). В 1920–1930-е гг. ситуация изменилась, Маклаков признавал, что «теперешняя идеология фашизма и диктатур реабилитирует самодержавие», которое всё же «защищало полноту своей власти не для себя, а для того, чтобы ею служить интересам народа, всех состояний, классов и рас, не завися от обладателей привилегий» (с. 36). Так или иначе, оказалось, что «в наше “фашистское” время легче понять психологию тех, кто в самодержавии видел тогда превосходный инструмент для блага страны» (с. 151). Между тем большевики «после шестимесячного разложения власти… вновь создали её, на старых самодержавных началах» и принялись «калечить Россию во имя борьбы с капиталом, с буржуями и личной свободой». Решительно возражая против происходившей у него на глазах в Европе «реабилитации большевизма», Маклаков не отрицал, что это «заставляет нас пересмотреть теперь наше старое отношение к русскому самодержавию» (с. 34–36). Но означал ли этот «пересмотр» некое «примирение с действительностью» минувших лет перед лицом «тоталитарных режимов» 3 нового типа или же продолжение прежней борьбы иными средствами?
Поскольку Маклаков никогда нигде не служил, о самодержавии и его политике он судил исключительно с чужих слов и по наблюдениям со стороны (как правило, со значительного расстояния). На его представления заметно влияли впечатления от прочитанных в юности сочинений А. И. Герцена. Во всяком случае, «идеология самодержавия» формулировалась мемуаристом с помощью цитаты из статьи, опубликованной в Колоколе 18 февраля 1858 г. (с. 37). Не раз Маклаков ссылался на «Былое и думы»: познакомившись с книгой в студенческие годы, он и полвека спустя хорошо помнил даже сравнительно мелкие её эпизоды (с. 70, 170, 213). Под воздействием герценовской публицистики и прозы складывалось убеждение, будто в 1830–1840-е гг. «те, кто тогда не был сломлен, в самодержавии видели одно только зло» (с. 32). Оттуда же, вероятно, черпались и «анекдоты о Николае, которые моё поколение возмущали, как проявление самодурства», хотя «среди обывателей» к ним относились даже с «гордостью». Характерно, что в конце 1880-х гг. «ненависть Герцена к Николаю» оказалась «откровением» для студента, который «до тех пор встречал восхищение» покойным императором (с. 39).
Чтение Герцена накладывалось у Маклакова на опыт общения с толстовцами и посещения их колоний, являвшихся специфическими центрами наивного и трагикомического антигосударственнического сектантства с сильным морализаторским оттенком. В 1889 г. к этому добавилось увлечение идеями Французской революции конца XVIII в. Попав в 20 лет на Всемирную выставку в Париже, Маклаков «начитался речей Мирабо», у него даже «образовался культ» вождя Учредительного собрания, противостоявшего «крайностям». Его портрет, а также чад непривычных для молодого человека политических дебатов, бурливших в не вылезавшей из кризисов III республике, Василий Алексеевич увёз с собой в самодержавную Россию 4.
Разумеется, на Маклакова, прошедшего через историко-филологический факультет Московского университета, воздействовали и повторявшиеся «из года в год» лекции В. О. Ключевского, которые «даже те, кто знал их наизусть, ходили… слушать и наслаждаться, как слушают знакомую музыку в превосходном её исполнении», и занятия у П. Г. Виноградова, стремившегося «прочитать историю Средних веков, не назвав ни одного собственного имени», ибо «они не нужны для её понимания» 5. У своих учителей студент приобрёл знания о становлении русской монархии и «абсолютизма».
В итоге образ самодержавия, к концу 1880-х гг. враждебно воспринимавшегося юношей, вышел крайне упрощённым, схематичным и моралистически окрашенным. Удивительно, но, несмотря на все потрясения и разочарования, он проступает и в мемуарах, как бы их автор ни оплакивал неспособность «общественности» к конструктивному диалогу с властью. Под «самодержавием» Маклаков понимал не ограниченную законом власть, которая, как и диктатура, по его мнению, «не есть нормальный порядок» и «в эпохи мирного, т. е. здорового, развития» вырождается (с. 37). «Главной опорой» самодержавия, как полагал мемуарист, являлась «социальная несправедливость»: «оно держалось на подчинении крепостного крестьянского большинства дворянскому меньшинству» и «было нужно дворянству, чтобы силой государственного аппарата защищать эту несправедливость». При этом тут же утверждалось, что «оно держалось и мистической верой народа в царя», который «оберегает народ от помещиков». Откуда эта вера бралась при столь «несправедливом» господстве, не пояснялось (с. 47). Однако в «Заключении» говорилось уже о том, что «со времени Петра власть была много выше общества и народа и вела их к их же благу насилием», хотя «успехи власти, за которые ей должна была быть благодарна Россия, были народу непонятны и чужды» (с. 505). Более того, на протяжении всей книги автор то считает нечто «нравственным долгом самодержавия» (с. 469), то пишет про «попытку вернуть самодержавие к его историческому долгу перед Россией» (с. 224) и т. д. Как этот долг образовался у режима, призванного «защищать несправедливость», пользуясь «мистической верой», опять же умалчивалось.
В более поздней редакции воспоминаний Маклаков поместил уже развёрнутое рассуждение о том, как «из столкновений между людьми выросла необходимость государства, которое своей организованной силой могло устранять противоречия и объединять усилия отдельных людей для общего блага». Однако он констатировал, что «государство немыслимо без “государственной власти”, то есть без того меньшинства, которое признаётся руководителем всего государства и подавляющим преобладанием силы над отдельными людьми может заставлять их всех себе подчиняться». Причём «эта власть может от назначения своего отклоняться; может служить не общему благу, а поддерживать привилегии и преимущества одних над другими; может пренебрегать интересами населения, подчиняя их своим собственным выгодам». В результате «соперничество и борьба между отдельными людьми или классами стали перерождаться в борьбу между человеческой личностью и государственной властью». По мнению Маклакова, «к этой антиномии свелась главная проблема нашей эпохи. Государство стало общей формой общежития; и повсюду, где оно есть, идёт борьба между человеком и им. И несмотря на эту борьбу, они необходимы друг другу; ни одного из них нельзя уничтожить, чтобы и другой не пострадал. Чтобы эта борьба прекратилась, между ними должно быть равновесие». Достичь же его возможно «только на признанной ими обоими обоюдной пользе, то есть на справедливости». Автор верил, что «если наша планета не погибнет раньше от космических причин, то мирное общежитие людей на ней может быть построено только на началах равного для всех, то есть справедливого права. Не на обманчивой победе сильнейшего, не на самоотречении или принесении себя в жертву другим, а на справедливости». И хотя «никто поручиться не может, что в мире будет господствовать справедливость», но «для человеческой природы мир на земле возможен только на этих началах», и «в постепенном приближении к ним состоит назначение государства, а может быть, и всемирного государства» 6. Как тут не вспомнить о маклаковском масонстве…
Таким образом, анализ конкретных политических конфликтов своего времени Маклаков вписывал в контекст мифологического противостояния отвлечённых начал космического масштаба, и в нём искал объяснения и оправдания происходивших событий. Поэтому для его картины мира так характерны безличные закономерности (вполне в духе Виноградова), всевозможные предназначения, определяемые не реальными действующими лицами, а описывающим их теоретизирующим демиургом прошлого, телеологическая заданность событий и процессов и, наконец, трагическая обречённость их участников, превращающая историю в драматическое и чуть ли не оперное произведение.
В полной мере это относится и к интерпретации Маклаковым реалий пореформенного времени. По его словам, самодержавие, стремившееся «служить интересам народа», «показало себя на высоте такого призвания» (с. 36), «дало доказательство своей жизненности» и «начало ряд глубоких реформ, превращавших постепенно Россию в современную демократию» (с. 226). Но «для того, чтобы в 1860-х годах поставить Россию на эту дорогу, нужно было самодержавие», поскольку «тогдашний правящий класс этих реформ не хотел», да и сам император «был вынужден к ним» и проводил их, ломая «свои личные предубеждения» (с. 37). К таким действиям его подталкивали «Крымская неудача» (с. 217) и «опасение перед “крепостным” Ахеронтом» (с. 166), страх «движения снизу» (с. 37). Именно в том, что власть руководствовалась «объективной необходимостью», прислушиваясь «к народным желаниям», Маклаков усматривал «идейное оправдание самодержавия» (с. 37).
Между тем, как пишет мемуарист, «когда в 1861 году было отменено “крепостное право”, была уничтожена ось, на которой держалось всё старое государство» (с. 185). Именно поэтому приверженцы Герцена и прочие «народолюбцы, отдавшие тогда себя на служение родному народу, могли не истощать своих сил в борьбе против власти» (с. 37), которой «пришлось спешно проводить другие реформы: судебную, земскую, воинской повинности, словом всё, что стало придавать России современный европейский характер» (с. 185). Собственно «либеральная программа 1860-х годов» сводится Маклаковым к триаде «свобода, законность, самоуправление» (с. 144). Впрочем, «деятели реформ были тем и велики, что сумели перестроить здание, не дав ему развалиться» (с. 185). Более того, своими действиями Александр II «не подорвал, а укрепил принцип самодержавия». И соответственно «шестидесятые годы, которые превозносили либерализм, были торжеством не только его представителей; они были и торжеством самодержавия». Однако «победа самодержавия сделалась началом его собственной гибели», когда после Великих реформ оно вступило в конфликт «с обществом» (с. 37).
Если верить Маклакову, «героическая пора самодержавия» (с. 37) быстро прошла: «С тех пор, как самодержавие отделило свою судьбу от дворянства, освободило крестьян и этим нанесло сословности непоправимый удар, его дни были сочтены. Как и современные фашизмы, оно было нужно, чтобы сломить старый порядок, силу преобладающих классов и построить общежитие на новых началах. Но когда это было окончено, в нём более не было надобности; жизнь стали устраивать на других основаниях, которые исключали необходимость “неограниченной власти”». Из этого автор делал «логический вывод», будто в пореформенный период «на самодержавии лежал последний долг довести до конца начатое дело, дать развиться созданным им учреждениям, укорениться новым идеям – и затем разделить свою власть с выросшим и подготовленным обществом, как честный опекун сдаёт имущество своему бывшему подопечному» (с. 47). Мемуарист не сомневался, что «в России было зерно, из которого “самотёком” росла конституция». Таким ему виделось «местное самоуправление, т. е. земство», которое «ведало те же общие нужды, что и государство», так же «было принудительной организацией, но осуществляло принцип “народоправства”». Казалось, «стоило постепенно развить это начало к низу и к верху, и конституция сама собой бы пришла», пусть и «долгим путём, но во время него воспитывались бы кадры людей, которые на опыте узнавали бы нужды страны, трудности, которые им предстояли бы, и были бы подготовлены, чтобы сменить прежних представителей власти». Исходя из этого, Маклаков утверждал, что «самодержавие было обречено; оно могло выигрывать время, но спасти себя не могло. Обществу было достаточно жить и расти, чтобы получить всё, что ему было нужно, в том числе и “увенчание здания”» (с. 138–139).
Рисуя подобную картину, Маклаков мог убедительно критиковать и самодержавие, не спешившее «сдавать имущество», и противостоявшее ему «освободительное движение», не желавшее потерпеть. Но на что же он опирался, помимо собственных умозаключений и бытовавших в его время логических конструкций? Мемуарист, родившийся в 1869 г., естественно, не только не застал эпоху Великих реформ, но и «последние годы Александра II» помнил «смутно» (с. 37). К тому моменту, когда он стал проявлять интерес к общественной жизни, как в булгаковском романе: «Исчезло всё – и либеральное самодержавие Александра II, и либеральные государственные люди, и “подпольная” революция, и признаки того общего недовольства, из которых родятся народные революции, всё было задушено или замерло на наших глазах». При Александре III студенту оставалось лишь учиться у «старших», споривших о 1860-х гг.: «Всё ещё было полно воспоминаниями о них. Ни у кого не могло быть безразличного к ним отношения. Одни говорили о них с восхищением, возмущаясь всякою критикой; другие – с насмешкой и злобой» (с. 32–33). Постепенно в 1880-е гг. «создавалась не всегда искренняя идеализация реформ и самой личности Александра II», не вызывавшая доверия у подраставшего поколения (с. 33–34, 48). А в целом и защита, и критика преобразований 1860–1870-х гг. превращались в своего рода полемический приём, способствовавший скорее их мифологизации, чем критическому анализу. К тому же всё это были впечатления и размышления людей, не формировавших правительственную политику, а переживавших её последствия и обычно слабо осведомлённых о тех мотивах, которыми она вдохновлялась.
Неудивительно, что в изображении Маклакова существенные черты Великих реформ стушёвывались или искажались. Проводя их, самодержавие и либеральная бюрократия вовсе не предполагали в дальнейшем кому-либо «передавать» ни властные полномочия, ни инициативную роль в преобразовании страны. Любые попытки как «либералов», так и «крепостников» навязывать свою волю правительству систематически пресекались и до 1861 г., и после. Новые институты «укрепляли» власть не потому, что ломали некие «предубеждения», а поскольку увеличивали её ресурсы и совершенствовали способы распоряжения ими. Та же регулируемая гласность являлась важным рычагом внутренней политики не только при подготовке освобождения крестьян, но и в 1863 г., когда она усиливала общественный подъём, способствовавший подавлению польского мятежа.
Собственно и перспективы самодержавия после 1861 г. виделись реформаторам иначе, чем Маклакову. Весной 1863 г. Н. А. Милютин (один из основных разработчиков и идеологов крестьянской и земской реформ 7) писал из Парижа своему брату Дмитрию, возглавлявшему военное ведомство: «Общественное мнение Европы нам враждебно; это факт; порывы его смутны, неясны, в практическом отношении большей частью нелепы; но они все (надо сознаться) направлены против абсолютизма. Тут важную, если не самую главную роль играет опасение той несокрушимой силы, которую может в более или менее отдалённой будущности представлять Россия, обновлённая, покойная, богатая и послушная одному направлению. Всё, что может рисовать наше патриотическое воображение в минуты самого восторженного своего настроения, – всё это мерещится и Европе в виде страшного призрака» 8. Характерно, что именно либеральные бюрократы в 1860–1870-е гг. решительно выступали против любых «конституционных» (или считавшихся таковыми) экспериментов, в которых можно было усмотреть шаг от авторитаризма к дворянской олигархии. Причём отторжение у них вызывали не принципы выборности или представительства как таковые, а именно попытки придать выборным политический вес и значение, противопоставив их слишком «красному» чиновничеству (к чему склонялись, к примеру, П. А. Валуев или гр. П. А. Шувалов).
Но действительно ли в пореформенное время из земства «росла конституция»? Возможно, так бы оно и получилось в случае реализации планов Валуева, предусматривавших подчинение местным землевладельцам волостного управления, доминирование дворянства в уездном земстве и образование Съезда земских гласных при Государственном совете. Тогда гипотетически рядом с государственным аппаратом могла бы возникнуть самостоятельная власть, опирающаяся не на войска и полицию, а на материальную зависимость крестьян от помещика в деревне, подавляющее влияние дворян и их предводителей на малочисленных чиновников в уезде и поддержку условной «аристократической партии» (противопоставлявшейся либеральной бюрократии) в правящих кругах 9. Однако земство в том виде, как оно было создано и существовало, собственной власти не имело и иметь не могло. Оно, конечно, делало обязательные для населения распоряжения и в этом смысле являлось «принудительной организацией» (с. 139), но «принуждать» к их исполнению оно могло только через административно-полицейские структуры. Тем самым «силу» земские учреждения получали не от влиятельных «земцев», державших уезд в своих руках, а, в сущности, от того же правительства. Потому и выборы являлись для них не источником власти, а всего лишь способом комплектования. На такой почве росли не «конституции», а исключительно жалобы в Сенат, выступавший арбитром между органами администрации и самоуправления 10.
В изображении же Маклакова «русское земство» представало как «разумный общественный слой, с которым самодержавная монархия может без опасности для государства разделить свою власть». Мемуарист даже утверждал, что «это издавна было мнением передовой бюрократии, начиная с Лорис-Меликова и кончая Святополк-Мирским» (с. 386). Правда, по его же словам, почему-то не это намерение, а «бессилие справиться с террором в 1870-х годах привело к политике Лорис-Меликова» (с. 166), пытавшегося будто бы «преодолеть революционную смуту уступкой либеральным желаниям» (с. 43). В чём же она состояла? В «Заключении», упомянув про «предложение о введении в Государственный совет нескольких представителей земств», автор напишет, что «за него слетели сподвижники Лорис-Меликова» (с. 502). Видимо, с этим он связывал и то, что «в плане Лорис-Меликова испуганное воображение завидело “конституцию”» (с. 46). Просто удивительно, насколько пугливые люди, согласно Маклакову, правили империей: то «Ахеронт» вызывал у них «боязнь его стихийной мощи», то заседающие вместе с чиновниками земцы. И это при том, что замыслы гр. М. Т. Лорис-Меликова кажутся мемуаристу гораздо более скромными, чем последующие предложения кн. П. Д. Святополк-Мирского (с. 288), не говоря уже о проекте «булыгинской думы» (с. 377).
Всего этого Маклаков касается вскользь, мимоходом, как хорошо известного сюжета. С тех пор он многократно освещался в историографии 11. Тем более странно прочесть в комментариях, что «в действительности по поручению Александра II министр внутренних дел граф М. Т. Лорис-Меликов разработал проект… создания при Государственном совете Особого совещания из представителей населения», которому предстояло рассмотреть «подготовленные Министерством внутренних дел законопроекты, нацеленные на решение вопросов местного значения», и это «явилось бы шагом к установлению конституции» (с. 516). Чуть позже комментатор исправляется, указывая, что в известном докладе графа речь шла о созыве не «Особого совещания», а «подготовительных и Общей комиссий» (собственно им, а не МВД, и следовало составлять законопроекты), но почему-то расценивает это как «создание при Государственном совете аналогов нижней палаты» (с. 599). Такой комментарий скорее вводит читателя в заблуждение, нежели поясняет нечёткие формулировки автора 12.
Между тем толковая характеристика деятельности гр. Лорис-Меликова в примечаниях к мемуарам Маклакова выглядела бы весьма уместно, поскольку она позволила бы выявить натяжки в авторских построениях, иные из которых превратились в историографические штампы. Во-первых, «бессилие» правительства в борьбе с террористами – явное публицистическое преувеличение. При тех возможностях, какими располагала полиция 1870-х гг., и учитывая новизну задачи, с которой ей довелось столкнуться, она действовала вполне успешно, громя кружок за кружком, совершенствуя свою структуру и навыки и за несколько лет практически выбив или выдавив за границу террористическое подполье. Во-вторых, гр. Лорис-Меликов, в отличие, кстати, от кн. Святополк-Мирского, не предлагал обуздывать «смуту» либеральными уступками. Для её пресечения граф рекомендовал создать не Общую комиссию, а Департамент полиции, усиленный чинами прокуратуры (откуда и вышли В. К. Плеве и П. Н. Дурново). В своих докладах 1880–1881 гг. он исходил из того, что решительная демонстрация силы и продуманные репрессии позволят, подавив революционное движение, вернуться к либеральной политике, а вовсе не из надежды остановить террористов теми или иными послаблениями. Цель намечавшихся преобразований виделась ему в развитии созданных в 1860–1870-е гг. институтов и их использовании для устранения социальных проблем, возникавших в пореформенное время и формировавших питательную среду для «крамолы» 13. При этом предусматривалось активное включение в правительственную политику земства, печати, судебного ведомства, но отнюдь не превращение их в самостоятельные центры силы, с которыми пришлось бы, по выражению Маклакова, «разделить свою власть». К подобным претензиям земцев-конституционалистов гр. Лорис-Меликов относился совершенно иначе, нежели кн. Святополк-Мирский. И весьма характерно, что их лидер И. И. Петрункевич, осенью 1904 г. председательствовавший на полулегальном земском съезде, в 1880–1881 гг. находился в административной ссылке и писал отчёты для жандармского полковника, который, видимо, таким образом «разделил» с ним свою власть 14.
В-третьих, не менее важно и то, что предложенный гр. Лорис-Меликовым механизм разработки преобразований при помощи особых комиссий, составленных из чиновников и экспертов, опирался не на пример европейских представительных учреждений (как валуевский проект 1863 г.), а на опыт подготовки крестьянской реформы 1861 г. Общая комиссия с выборными от земских собраний и городских дум, по сути, представляла собой более либеральный вариант созыва депутатов от губернских комитетов в 1859–1860 гг. Меньше всего она напоминала «нижнюю палату». Созвать её предполагалось в виде опыта на шесть недель, причём в ней преобладали бы всё те же чиновники и эксперты, формальным председателем планировалось назначить наследника престола, а его заместителями и фактическими распорядителями всего дела – главу МВД (шефа жандармов) и военного министра. Такой «палаты» было бы «не сыскать» даже Людовику XVIII. Сравнивать её всерьёз с Генеральными штатами не приходилось 15.
Цареубийство 1 марта 1881 г. сделало задуманную графом комбинацию неосуществимой. Судя по его пассивности на известном заседании Совета министров 8 марта, он и сам это хорошо понимал. В сложившихся тогда условиях для продолжения реформаторского курса требовалась консолидация правительства уже не вокруг сановника, пользовавшегося исключительным доверием Александра II, а на основе общей программы, одобренной новым императором. Однако Александр III не без оснований опасался, что сокращение межведомственных разногласий и дальнейшая институциализация управления существенно увеличат его зависимость от более опытных и компетентных министров, проводящих солидарную политику. Именно в этом, а не в мифической «конституции», он видел угрозу своей власти, которую формально никто не собирался ограничивать. 29 апреля, подписав за спиной членов своего правительства сочинённый К. П. Победоносцевым манифест, монарх фактически спровоцировал отставку гр. Лорис-Меликова и его сторонников [16].
По-видимому, после 1881 г. развитие институтов, возникших в эпоху Великих реформ, прочно ассоциировалось у Александра III с «либеральной системой» гр. Лорис-Меликова. Не случайно император резко изменил в лучшую сторону отношение даже к тем противникам преобразований 1860-х гг., к которым, будучи цесаревичем, испытывал неприязнь (гр. Д. А. Толстой, гр. П. А. Шувалов и др.). Однако отсутствие единой правительственной программы в равной мере парализовывало как реформаторские, так и «контрреформаторские» усилия.
Маклаков признавал, что «царствование Александра III оказалось роковым для России; оно направило Россию на путь, который подготовил позднейшую катастрофу». Но, как писал мемуарист, «мы это ясно видим теперь; тогда же по внешности это царствование казалось благополучным: «вырос престиж России и самодержавия, и самого самодержца» (с. 38), террор в 1880-е гг. «прекратился» (с. 167), «в обществе наступило отрезвление и успокоение» (с. 43), «оно занималось своими делами, добивалось личных успехов на существующих поприщах и не думало о борьбе с государственною властью», у него «ослабел интерес ко всякой политике». Более того, «Александр III к концу своей жизни стал популярен. Вреда, который он принёс России, тогда не замечали» (с. 49). И к началу 1890-х гг. «все были уверены, что он самодержавный режим укрепил и надолго» (с. 38).
Со всем этим Василий Алексеевич как будто даже готов был примириться (во всяком случае, в эмиграции). Его вполне устраивало не «увенчание» и даже продолжение, а «охранение Великих реформ, их главных основ, на которых стояла новая Россия, и благожелательное исправление тех погрешностей и недочётов, которые обнаружила жизнь». Тогда бы царствование Александра III «могло быть консервативным, а не реакционным», и затем установился бы тот же конституционный строй, что и в 1905–1906 гг., только «другого числа и в другой обстановке; тогда и трёхсотлетняя династия не погибла бы так бесславно». Всё повернулось иначе, и если на рубеже 1850–1860-х гг., по мнению мемуариста, «программа» самодержавия определялась «объективной необходимостью», то в 1880-е гг., наоборот, «советники государя увлекли его на другую дорогу», хотя, «вероятно, и его личные симпатии клонились туда». С весны 1881 г. «с утрированной резкостью» проповедуемая Победоносцевым «идеология реакции толкнула его на гибельный план – постепенно душить реформы 1860-х годов» (с. 44–47). А в середине 1890-х гг., уже при Николае II, «курс Александра III, простительный как передышка, был объявлен вечной программой самодержавия». Объявив «бессмысленными мечтаниями» надежды земств на участие «в делах внутреннего управления», император оттолкнул тех, «кто думал, что самодержавие способно продолжать эпоху либеральных преобразований в России» (с. 134).
Ответом на это стало развернувшееся в начале XX в. «освободительное движение», сосредоточившееся «исключительно и всецело на низвержении самодержавия». Как утверждает Маклаков, «эта война скоро захватила всё общество» (с. 134). В итоге «в этой борьбе против истории самодержавие было побеждено, но России дорого обошлась такая борьба» (с. 47). Вернуться на путь мирной эволюции стране не удалось.
Разительные перемены в общественных настроениях на рубеже XIX–XX вв. мемуарист объяснял именно тем, что «в эпоху 1880-х годов только отдельные единицы с проницательностью заклятых врагов догадывались, что реформы 1860-х годов, либерализм и самодержавие несовместимы. Широкое общество эту несовместимость искренне отрицало… Но при Николае II это опасное учение о несовместимости стало официальным мнением власти… Вся идеология Великих реформ оказывалась принципиально с самодержавием несовместимой» (с. 135).
Важным подтверждением этого для Маклакова и его товарищей по «освободительному движению» служили апории С. Ю. Витте, доказывавшего в 1899 г. в полемике с И. Л. Горемыкиным несовместимость самодержавия и земства (с. 135, 229, 555–556). Василий Алексеевич полностью соглашается с логикой и выводами известной записки Витте, поспешно опубликованной эмигрантами 17 и активно распространявшейся конституционалистами, использовавшими её для дискредитации монархии (с. 229–232). При этом мемуарист совершенно упускает из виду, что если в теории можно сколько угодно противопоставлять принципы «самодержавия», «самоуправления», «народоправства» и проч., то на деле исторически земство создавалось самодержавием, функционировало с помощью его власти и прекратило своё существование вскоре после его падения. В 1899 г. можно было остроумно спорить об их совместимости и противоположности, но к 1936 г. бесспорным являлось то, что земские учреждения без самодержавия оказались нежизнеспособны. То же можно сказать и о других институтах, возникших в эпоху Великих реформ.
Характерно, что сам Витте представлен Маклаковым как «идеолог либерального самодержавия» и искренний приверженец свободы и авторитарного реформаторства одновременно (с. 224–248). В конфликте Витте и Плеве автор видел «тот же спор, который в 1881 году столкнул Лорис-Меликова и Победоносцева» (с. 267). Это весьма показательно, поскольку Витте по своему жизненному опыту и карьере разительно отличался от тех либеральных бюрократов, которые готовили и проводили преобразования Александра II. Он не прошёл их бюрократической школы и был далёк от круга столичных канцелярий. В его быстром возвышении при Александре III проявлялось стремление императора выдвигать на первый план представителей небюрократического мира (прежде всего, из предводителей дворянства), защищаясь от преобладания профессиональных чиновников, которым он никогда не доверял. Витте многое сближало с реакционными публицистами, критиковавшими Великие реформы и делавшими ставку на неформальные рычаги влияния на монарха. Как и они, Витте тяготел не к институциализации власти (привлекавшей деятелей Великих реформ), а скорее к харизматическому персональному доминированию. В системе, формировавшейся при Александре II, ему было бы тесно, он искренне хотел неформализованного самодержавия в победоносцевском стиле, но для себя. Точно так же его устраивала бы и конституция, если бы она дала ему волю. Любопытно, что основные оппоненты Витте – Горемыкин и Плеве – являлись как раз классическими бюрократами и сторонниками институциализации власти, причём в той или иной мере лично причастными к политике гр. Лорис-Меликова 1880–1881 гг. У Маклакова же их противостояние, по сути, вывернуто наизнанку.
В 1905 г., в условиях нараставшего революционного хаоса, созданного действиями как императора, так и оппозиционной общественности, всё больше смыкавшейся с явными революционерами, бюрократия, как либеральная, так и консервативная, отчаянно искала поддержки у таких фигур, как Витте или Д. Ф. Трепов, надеясь при их участии выстроить хоть какой-то баланс и поставить, наконец, под свой контроль императора при помощи диктатуры или конституции. Ведь появление полномочного диктатора или призрак Государственной думы в равной мере вынуждали самодержца смириться с консолидацией правительства, от которой Александр III отказался в 1881 г. Без этого же дезорганизация управления грозила империи коллапсом.
Маклаков полагал, что Манифестом 17 октября 1905 г. «самодержавие себя упраздняло» (с. 345) и через несколько месяцев «Россия стала конституционной страной». Ведь в ней в апреле 1906 г. «была объявлена настоящая конституция и власть самодержца сделалась ограниченной по закону», а собравшаяся вскоре Дума являлась уже «неотъемлемым фактором государственной жизни» (с. 502). Но «Основные законы» в Российской империи были сведены воедино ещё в 1832 г., и их нормы, покуда они действовали, равно как и всевозможные манифесты, жалованные грамоты, положения, уставы и проч., также регулировали и тем самым в той или иной мере ограничивали распоряжения императора. Поэтому драматический спор на Царскосельских совещаниях об исключении в новой редакции Основных законов из ст. 4, определявшей характер и прерогативы царской власти, эпитета «неограниченный» (с. 474–477, 688–690) был в значительной степени схоластическим. Поскольку признавалось, что императору принадлежит «верховная самодержавная власть», его воля оставалась единственным источником полномочий всех государственных учреждений, не исключая и представительных. Та же Государственная дума получала свою власть по царскому манифесту и в пределах, очерченных монархом в тех же Основных законах. Никакой собственной власти, помимо предоставленной ей царём, Дума не имела. Именно поэтому её можно было спокойно распускать и даже переформатировать настолько, насколько это признавалось целесообразным в правящих кругах. Вплоть до 1917 г. император и высшая бюрократия оставались единственным гарантом самого существования Государственной думы 18. И не случайно сразу же после отречения Николая II она оказалась никому не нужна и ушла в политическое небытие, хотя буквально перед этим её лидеры готовились взять в свои руки управление страной 19.
Разумеется, наличие Думы усложняло для царя и его правительства законотворческий процесс, что отнюдь не делало политику самодержавия более эффективной. Но едва ли на практике оно ограничивало верховную власть намного более, чем сложные процедуры межведомственного согласования законопроектов и правительственных решений. Не случайно, по свидетельству Н. Х. Бунге, ещё в середине XIX в. «Н. А. Милютин… в шутку назвал препирательства наших высших административных учреждений между собой – нашей конституцией» 20. В конечном счёте, при особо упорном сопротивлении депутатов или членов Государственного совета любой закон можно было издать и воплотить в жизнь и без участия выборных. Поэтому если, по выражению Маклакова, до 1905 г. «русское общество знало разные виды самодержавия, но другого порядка не знало» (с. 153), то и впоследствии мало что изменилось. Самодержавная власть представляла собой прежде всего организованную (и персонифицированную) силу, и для её реального ограничения требовались не просто те или иные юридические нормы и учреждения, а появление в государстве другой социально-политической силы, вполне независимой от правительства, необходимой ему и располагающей сопоставимыми ресурсами и уровнем организованности. Только тогда между ними могла быть заключена полноценная конституционная сделка, условия которой фиксировались бы уже основным законом и регулировались на тех или иных «представительных» площадках. Без этого всякий «конституционализм» оказывался миражом или инструментом бюрократической «нормализации» и институциализации положения верховной власти в рамках всё того же, пусть и слегка обновлённого или даже вовсе «перестроенного», самодержавного режима.
Так или иначе, воспоминания Маклакова заставляют задуматься о том, было ли «обречено» пореформенное самодержавие и что представляло для него настоящую угрозу. То, что монархию в России некому было политически ограничить, не спасло её от гибели. Осуществив в середине XIX в. беспрецедентные на тот момент по своему масштабу и успешности реформы, самодержавие в начале XX в. не справилось с их социальными последствиями – демографический рост и развитие страны опережали усложнение и увеличение государственного механизма, увязшего сперва в «реакции», а потом – в конституционных экспериментах. Причём нараставшее с 1881 г. взаимное отчуждение и недоверие верховной власти и бюрократии сыграло в судьбе империи едва ли не ключевую и роковую роль.
Однако после гибели монархии в России неограниченная («самодержавная») власть сравнительно быстро восстановилась в ином обличии. Теперь вместо царского авторитаризма с тенденцией к бюрократической олигархии установилась партийная олигархия с тенденцией к вождистскому авторитаризму. При этом выяснилось, что ни выборность (легко контролируемая или манипулируемая), ни всевозможные декларативные конституции и «громкие права» для настоящего, не ограниченного другими силами, самодержавия не помеха. Борьба с «абсолютизмом», на которую Маклаков потратил лучшие годы своей жизни, оказалась губительной и напрасной. Её оправдания звучали сомнительно. Но ещё можно было попытаться убедить современников и потомков в неизбежной «обречённости» любых «диктатур», сколь бы прочными ни казались их позиции в данный момент. А заодно и одержать над погибшим и возрождённым самодержавием последнюю, пусть и сугубо литературную, победу. Что, собственно, Василий Алексеевич и сделал на страницах своих мемуаров.
1 Маклаков В. А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. В дальнейшем этот вариант не раз переиздавался. См., в частности: Маклаков В. А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике 1880–1917. М., 2006; Маклаков В. А. Из воспоминаний. Уроки жизни. М., 2011; Маклаков В. А. Из воспоминаний / Сост. В. П. Крашенинников. М., 2016.
2 Почему именно с этой мифической рекой у Маклакова (имевшего репутацию «отличного ученика» в классической гимназии и едва не ставшего историком античности в студенческие годы) ассоциировалась «антигосударственная стихия» (с. 165), сказать непросто. С. В. Куликов полагает, что мемуаристом так обозначалась «народная масса» (с. 565). Но в «воспоминаниях современника» можно встретить и «студенческий Ахеронт» (с. 176), и указание на то, что «самый антигосударственный вид Ахеронта – политический террор» (с. 166). Очевидно, речь шла о чём-то довольно расплывчатом, «подпольном» и даже инфернальном, несущем неминуемую и непоправимую гибель. Ближе всего по смыслу, видимо, понятие «революционное движение».
3 Это выражение Маклаков употреблял уже в 1950-е гг. (Маклаков В. А. Воспоминания… С. 334, 348–350).
4 Подробнее об этом: Маклаков В. А. Воспоминания… С. 76–91, 125.
5 Там же. С. 164–165.
6 Там же. С. 326–327, 347–348.
7 Подробнее см.: Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856–1861 // Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011; Морозова Е. Н. Н. А. Милютин: замыслы и результаты (от полицейской реформы к созданию проектов эффективного местного управления). Саратов, 2019.
8 Цит. по: Милютин Д. А. Воспоминания. 1863–1864 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М., 2003. С. 137.
9 Подробнее о ней см.: Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850 – середина 1870-х гг. М., 2002.
10 При этом, как пишет Е. А. Правилова, «в большинстве случаев I департамент [Сената] решал дела в пользу земств»: Правилова Е. А. Законность и права личности: административная юстиция в России (вторая половина XIX в. – октябрь 1917 г.). СПб., 2000. С. 90–91.
11 Готье Ю. В. Борьба правительственных группировок и манифест 29 апреля 1881 г. // Исторические записки. Т. 2. М., 1938. С. 240–299; Зайончковский П. А. Кризис самодержавия в России на рубеже 1870–1880 годов. М., 1964. С. 148–378; Захарова Л. Г. Земская контрреформа 1890 г. М., 1968. С. 60–68. См. также: Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. С. 418–426; Чернуха В. Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978. С. 127–190; [Чернуха В. Г.] Внутренний кризис: 1878–1881 гг. // Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб., 1996. С. 362–367; Итенберг Б. С., Твардовская В. А. Граф М. Т. Лорис-Меликов и его современники. М., 2004. С. 102–210. Подробную библиографию см.: Шилов Д. Н. Главы высших и центральных государственных учреждений Российской империи. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. Т. 1. СПб., 2024. С. 797–803.
12 Справедливости ради нельзя не сказать, что подавляющее большинство комментариев С. В. Куликова, напротив, существенно облегчают чтение мемуаров, сопровождая их не только ссылками, но и пространными цитатами из документов, упомянутых Маклаковым (иногда они даже приводятся целиком). Не менее ценны и отзывы современников мемуариста об описываемых им событиях, которые часто приводит комментатор. Весьма содержательны также справки о различных органах власти. Сожаление вызывает лишь то, что их автор воспроизводит расхожее ошибочное представление об учреждении Государственного совета не в 1801, а в 1810 г. (с. 512). Встречаются и другие фактические неточности. Так, С. С. Уваров назван графом в 1833 г. (с. 518), хотя этот титул он получил только в 1846 г. «Члены тайного общества “Народная воля”», как известно, возникшего на рубеже лета–осени 1879 г., организуют покушение на Александра II в апреле 1879 г. (с. 513) и т. п. Впрочем, при обширных комментариях (с. 512–698) и именном указателе с развёрнутыми аннотациями (с. 699–736) подобные недочёты особого значения не имеют.
13 См.: Конституция графа Лорис-Меликова. Материалы для её истории / Публ. кн. Н. В. Голицына // Былое. 1918. № 4–5. С. 154–166.
14 Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания / Под ред. А. А. Кизеветтера // Архив русской революции. Т. 21–22. М., 1993. С. 136–155.
15 Как позднее рассказывал граф, «Государь подписал мой проект Общей комиссии очень легко и лишь раз и то с чьих-то чужих слов спросил меня: “А это не будут ли États généraux?” и снова отдался ежедневным заботам, официальным суетам и огромному механическому труду дня, состоящему в бесконечном чтении всяких докладов и делании отметок» (Кони А. Ф. Граф М. Т. Лорис-Меликов // Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 5. М., 1968. С. 197–198). Подробнее см.: Мамонов А. В. Граф М. Т. Лорис-Меликов и формирование правительственной политики в 1880–1881 гг. // Пётр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С. 592–607.
16 Подробнее см.: Мамонов А. В. «Неожиданный и непонятный для большинства современников»: манифест 29 апреля 1881 г. и либеральная бюрократия // Вестник университета Дмитрия Пожарского. 2017. № 1(5). С. 88–108.
17 Самодержавие и земство. Конфиденциальная записка министра финансов статс-секретаря С. Ю. Витте (1899). С предисловием и примечаниями Р.Н.С. [П. Б. Струве]. Stuttgart, 1901.
18 Подробнее см.: Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917). М., 2016.
19 Николаев А. Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года. Т. 1–2. СПб., 2017.
20 Бунге Н. Х. Загробные заметки / Публ. В. Л. Степанова // Река времён (книга истории и культуры). Кн. 1. М., 1995. С. 218.
About the authors
Andrey V. Mamonov
Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Бунге Н.Х. Загробные заметки / Публ. В.Л. Степанова // Река времён (книга истории и культуры). Кн. 1. М., 1995.
- Гайда Ф.А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917). М., 2016.
- Готье Ю.В. Борьба правительственных группировок и манифест 29 апреля 1881 г. // Исторические записки. Т. 2. М., 1938. С. 240–299.
- Зайончковский П.А. Кризис самодержавия в России на рубеже 1870–1880 годов. М., 1964.
- Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011.
- Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. М., 1968.
- Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856–1861 // Захарова Л.Г. Александр II и от-мена крепостного права в России. М., 2011.
- Итенберг Б.С., Твардовская В.А. Граф М.Т. Лорис-Меликов и его современники. М., 2004.
- Кони А.Ф. Граф М.Т. Лорис-Меликов // Кони А.Ф. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 5. М., 1968.
- Конституция графа Лорис-Меликова. Материалы для её истории / Публ. кн. Н.В. Голицына // Былое. 1918. № 4–5. С. 154–166.
- Маклаков В.А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике 1880–1917. М., 2006.
- Маклаков В.А. Из воспоминаний / Сост. В.П. Крашенинников. М., 2016.
- Маклаков В.А. Из воспоминаний. Уроки жизни. М., 2011.
- Мамонов А.В. «Неожиданный и непонятный для большинства современников»: манифест 29 апреля 1881 г. и ли-беральная бюрократия // Вестник университета Дмитрия Пожарского. 2017. № 1(5). С. 88–108.
- Мамонов А.В. Граф М.Т. Лорис-Меликов и формирование правительственной политики в 1880–1881 гг. // Пётр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С. 592–607.
- Милютин Д.А. Воспоминания. 1863–1864 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2003. С. 137.
- Морозова Е.Н. Н.А. Милютин: замыслы и результаты (от полицейской реформы к созданию проектов эффективно-го местного управления). Саратов, 2019.
- Николаев А.Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года. Т. 1–2. СПб., 2017.
- Правилова Е.А. Законность и права личности: административная юстиция в России (вторая половина XIX в. – ок-тябрь 1917 г.). СПб., 2000.
- Самодержавие и земство. Конфиденциальная записка министра финансов статс-секретаря С.Ю. Витте (1899). С предисловием и примечаниями Р.Н.С. [П.Б. Струве]. Stuttgart, 1901.
- Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850 – середина 1870-х гг. М., 2002.
- Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978.
- [Чернуха В.Г.] Внутренний кризис: 1878–1881 гг. // Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб., 1996.
- Шилов Д.Н. Главы высших и центральных государственных учреждений Российской империи. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. Т. 1. СПб., 2024.
Supplementary files