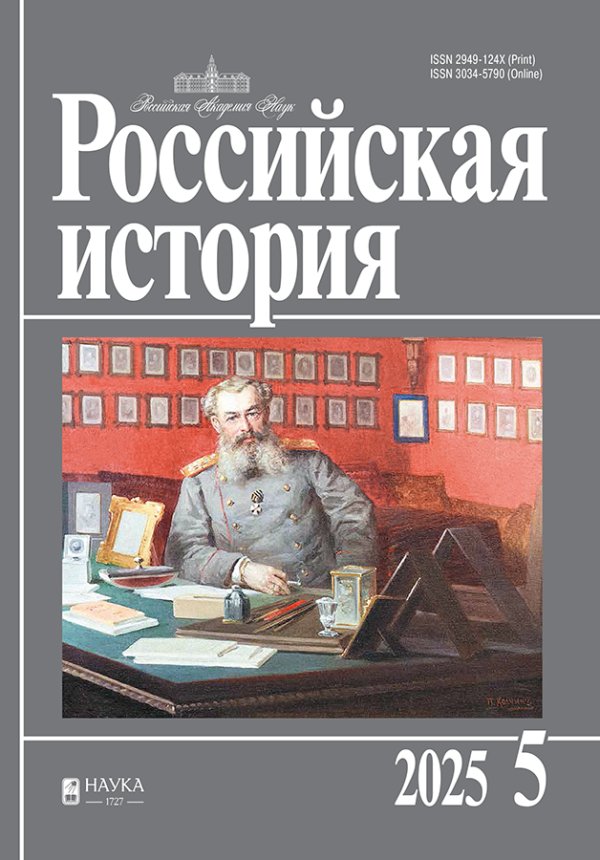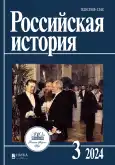Камеры и участки мировых судей в дореволюционной Сибири
- Авторы: Крестьянников Е.А.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 115-125
- Раздел: Институты и общности
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/264339
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030101
- EDN: https://elibrary.ru/GCXTEW
- ID: 264339
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Из учреждений юстиции поздней Российской империи простотой процедур и территориальной близостью к поданным отличался мировой суд. Статья посвящена его введению, организации и деятельности в сибирской ситуации, заставлявшей обращать особенное внимание на пространственные факторы правосудия, изыскивать способы оптимальных локализации офисов мировых судей и разграничения их участков. В условиях края осуществление этого вызывало чрезвычайные трудности, поскольку требовало одновременно учитывать многочисленные обстоятельства географического, социального и экономического характера, обособлявшие Сибирь от остальных регионов страны.
Ключевые слова
Полный текст
Намерение «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных», заявленное в указе Сенату 20 ноября 1864 г., сопровождавшем Судебные уставы 1, требовало территориального приближения правосудия к населению. Решение этой задачи связывалось в том числе и с выборным мировым судом, символизировавшим гармонию юстиции и общества и отличавшимся простым, ускоренным и понятным для поданных судопроизводством, а также доступностью камер, где происходило рассмотрение дел, для местных жителей.
Между тем по мере реализации реформы становилось очевидным, что её положения не универсальны и едва ли одинаково подойдут для всех регионов империи 2. Осенью 1894 г. под председательством товарища министра юстиции П. М. Бутовского была образована комиссия, обсуждавшая возможность применения уставов Александра II к Сибири 3, где приходилось учитывать суровую природу, неразвитость путей сообщения и огромные безлюдные просторы 4.
Проект комиссии лёг в основу закона 13 мая 1896 г. о введении Судебных уставов в сибирских губерниях и областях. 2 июля 1897 г. новая система правосудия начала функционировать. На мировых судей края не распространялись принципы выборности, несменяемости и независимости. При этом на них возлагались одновременно судебные, следовательские и нотариальные функции, благодаря чему предполагалось уменьшить размеры подведомственных территорий. Кроме того, им предписывалось разбирать дела в ближайших к местам их возникновения населённых пунктах, если они располагались далее 50 вёрст от камер 5. Всё это означало повышенную интенсивность служебных командировок, и потому во избежание волокиты и напрасной потери времени, материальных ресурсов и человеческих сил на преодоление значительных расстояний крайне важно было оптимально определить пределы мировых участков и местонахождение в них судей.
На рубеже XIX–ХХ вв. особое внимание государства к размещению судебных учреждений в Сибири приводило к существенному обновлению центров региональной власти 6. Разделение восточной провинции на мировые участки (их закон 13 мая предусмотрел 157 7) признавалось чуть ли не главнейшим при практической подготовке преобразования сибирской юстиции 8. Недаром уже в конце ноября 1894 г. Бутовский поручил сибирским губернаторам за предстоявшие зимние месяцы разработать план «наиболее удобного разграничения участков» для будущих мировых судей 9.
От чиновников решение этой задачи требовало немалого воображения. Достоверные сведения о потребностях края в новых органах юстиции отсутствовали, а прогнозировать их поведение в непростой обстановке было трудно. В огромных пустынных районах Сибири, таких как Туруханский край Енисейской губ., Верхоянский и Колымский округа Якутской обл., Анадырский, Петропавловский (Камчатский), Гижигинский и Охотский округа Приморской обл. 10, а также Командорские острова, полномочия мирового суда по закону 13 мая передавались полиции. На всех этих территориях ввести мировые учреждения удалось лишь после издания закона 3 июня 1911 г.11
Однако, сократив размеры участков и наделив судей обязанностями следователей (по примеру Закавказья и Архангельской губ.), в Министерстве юстиции не учли принципиальную несовместимость этих должностей. Между тем, как отмечал, в частности, сибирский правовед-практик В. Н. Анучин, «мировой судья для пользы дела должен сидеть на месте, а для пользы другого – должен быть подвижен» 12. Если в Европейской России при сравнительно меньших расстояниях мировые судьи не покидали камер, что облегчало обращение к ним, то в Сибири происходило встречное движение, при котором местные жители добирались до судебных чиновников, а те ездили к сибирякам. В итоге бездорожье, большие просторы и другие обстоятельства сводили к нулю пользу от уменьшения протяжённости участков, и мировой суд со следовательскими функциями с первых шагов своей деятельности демонстрировал неприспособленность к условиям края 13.
К тому же появившихся в крае мировых судей оказалось слишком мало 14. В комиссии Бутовского штаты сибирских судебных учреждений называли «крайне умеренными» 15, а министр юстиции Н. В. Муравьёв, защищая 6 апреля 1896 г. в Государственном совете проект сибирского преобразования, признал их «минимальными» 16.
Отчасти серьёзные погрешности при пространственном распределении участков объяснялись сомнительной статистикой делопроизводства в дореформенных судах. Вследствие этого возникла ситуация, когда в среднем участке Томской губ. проживали 60 246 человек, а в Приморской обл. – 13 498 (другие сибирские территории находились в этом диапазоне) 17.
Руководство судебного ведомства не очень хорошо понимало реалии Сибири. Тобольский губернский прокурор С. Г. Коваленский (с 27 октября 1894 г. являвшийся членом комиссии Бутовского 18) в своём проекте полагал, что дальность расстояний, чрезвычайная подвижность населения, «крайняя шаткость и неопределённость судебной статистики» вынуждают предоставить местным властям «возможно больший простор в размещении низших судебных органов по округам и распределении между ними работы», определяя в Петербурге лишь общее число чиновников юстиции в конкретной губернии или области 19. Томский губернский прокурор А. В. Витте в представленном губернатору А. А. Ломачевскому проекте также предлагал возложить ответственность за разделение территорий на участки на некие губернские советы 20. Согласно закону 13 мая, в котором были учтены подобные рекомендации, составление предположений о мировых участках поручалось особым комитетам во главе с губернаторами.
На практике же судебные инстанции иногда по собственной инициативе в нарушение предписаний производили переделы мировых участков и переносили камеры. Так, один из окружных судов Восточной Сибири 21 через несколько месяцев после введения в крае Судебных уставов самочинно внёс изменения в участковое распределение, а другой – разрешил мировому судье разместить свою камеру вне границ участка. Председатель Иркутской судебной палаты Г. В. Кастриото-Скандербек-Дрекалович незамедлительно сообщил об этом Муравьёву, но министр, понимая, что данные решения вызваны здравыми соображениями, ограничился пожеланием, чтобы впредь в аналогичных случаях запрашивали его дозволение 22.
Сибирское начальство весьма ответственно и неравнодушно относилось к разграничению мировых участков. Уже 28 января 1895 г. в Енисейской губ. губернатор, прокурор и председатели губернского правления и суда, посовещавшись, постановили, «чтобы расстояние между местом нахождения камер и наиболее отдалёнными пунктами не было слишком значительно, и если возможно, то чтобы камера была центральна по отношению к границам участка, а физико-географический характер местности не препятствовал проездам мирового судьи во всякое время года в любой пункт участка». Эта в общем-то тривиальная мысль дополнялась толковым советом учитывать наличие там других учреждений, «ибо при таковом распределении судебная и административная власти будут сосредоточены в одном пункте, что будет способствовать, кроме того, более быстрому взаимному сношению мировых судей и полицейских чинов» 23. 7 сентября 1896 г. члены комитета Забайкальской обл., рассуждая об «обширности пространств между отдельными поселениями», «количестве народонаселения» и «дел, возникавших в районе каждого участка», пытались предугадать влияние сезонности и состояния транспорта 24.
Витте в своём проекте предлагал подбирать подходящие для судей участки исходя из их «способностей и характера, состояния здоровья и семейного положения» 25. В Иркутской судебной палате выделяли участки, отличавшиеся по дороговизне жизни, «тяжёлые по разъездам», «бойкие», с большим числом ссыльных и т. д. Подбирая для них кандидатов, обращали внимание на специализацию (к примеру, если преобладали гражданские дела, то лучше подходил цивилист) и возраст, поскольку где-то хотелось видеть молодого человека, а где-то, напротив, уместней казался зрелый юрист 26. Однако всё это не могло компенсировать нехватку судей. Так, по расчётам Витте, для Томской губ. требовалось не 32 мировых участка, созданных в соответствии с законом 13 мая, а минимум 50 27.
Согласно применявшимся в империи нормативам, считалось, что при одновременном исполнении судейских и следовательских обязанностей один судья способен ежегодно рассматривать не более 500–600 дел мировой юрисдикции и вести 70–80 следственных производств 28. Но, к примеру, в Тобольской губ. разграничение участков произошло так, что в одном из них ежегодно прогнозировалось до 1 400 разбирательств мировой подсудности, а в другом – до 170 следственных дел. Ялуторовский исправник докладывал тобольскому губернатору Л. М. Князеву, что исходя из количества поступавших ранее во вверенном ему округе дел, на данной территории необходимо образовать пять участков вместо предусмотренных трёх 29. По оценке председателя Томского окружного суда Ф. Ф. Деппа, объёмы делопроизводства мировых судей губернии превышали нормативы в два-три раза 30.
Приамурский генерал-губернатор С. М. Духовской, горячо приветствовавший судебное реформирование и называвший его во всеподданейшем отчёте «величайшим делом для края» 31, не скрывал недовольства разделением на мировые участки, проведённым местным областным комитетом. 12 февраля 1897 г. Духовской жаловался Муравьёву на то, что в быстрорастущий Хабаровск планируется назначить лишь одного мирового судью, который заведомо не справится с предстоящей нагрузкой. Во избежание волокиты генерал-губернатор просил министра открыть в городе дополнительную камеру 32.
В середине 1897 г. в Сибири начал действовать весьма далёкий от совершенства мировой суд. Многие участки вышли невероятно обширными, что вело к дальним и обременительным командировкам, отнимавшим немало времени и сил 33. Так, в Забайкальской обл. из 18 участков только первый не требовал от судьи выездов за 50-вёрстный радиус для разбора тяжб 34. А в Томской губ. и вовсе обнаружились волости около станицы Верх-Алейской Змеиногорского округа и местности Каинского округа, не отнесённые ни к одному участку 35.
Порою судьям, чтобы добраться до отдалённых мест своего сектора (таких как Оек, Игнашина и Уруша в Восточной Сибири), приходилось пересекать чужие участки 36. Игуменья Мирония, настоятельница крупного Иоанно-Введенского монастыря, расположенного в семи верстах от Тобольска, жаловалась Князеву на то, что окрестное население вынуждено обращаться не к судье близкого губернского города, а в камеру, находившуюся за 90 вёрст в противоположной стороне 37. До приисков в системе реки Абакан природа и климат позволяли добираться исключительно в январе, но выкроить время на дальнюю поездку именно в этом месяце обычно не удавалось из-за обилия других занятий здешнего мирового судьи. Поэтому фактически расследования «по хищнической добыче золота» не проводились годами 38.
В Баргузинской тайге Забайкалья мировой судья также несколько лет не мог добраться до приисков, на что золотопромышленники жаловались министру юстиции И. Г. Щегловитову 39. Пути сообщения в этой таёжной и гористой зоне, именовавшиеся в путеводителях трактами, не позволяли в нужном ритме перемещаться по участкам. «Тракты – не дороги в прямом смысле этого слова, – писал местный мировой судья М. Ф. Чапас, – а узенькие тропы, составляющие следы от конских копыт; езда по ним возможна только верховая и притом шагом, самое большое – ступью или переступью» 40.
В других местах положение бывало и не столь удручающим. На первых порах вполне сносным оно оставалось в Приамурском генерал-губернаторстве. Генерал-губернатор Н. Л. Гондатти в 1912 г. писал Щегловитову, что около десяти лет судебная реформа конца XIX в. «благодаря отвечавшему требованиям жизни численному составу судебного персонала обеспечивала правильное и безостановочное отправление правосудия» 41. Однако ситуация стремительно менялась, и к 1910 г. загруженность судей в Приморской обл. выросла катастрофически. Но ещё хуже обстояло дело в Томской губ. 42
Конечно, время от времени штаты увеличивали (наиболее значительно – 3 января 1900 г., 29 декабря 1905 г. и 28 мая 1911 г.) 43. Уже в 1899 г. в Государственном совете признали ошибочность первоначальных расчётов: «При введении в 1896 г. судебной реформы в Сибири Министерство юстиции, принуждённое руководствоваться лишь гадательными соображениями о количестве дел, кои поступят на рассмотрение преобразованных судебных установлений, лишено было возможности точно согласовать штаты сих установлений с размерами предстоящего им труда. Поэтому уже на первых порах после введения в действие штатов 1896 г. обнаружилось полное несоответствие численности личного состава окружных судов и мировых установлений Сибири с количеством поступающих в эти установления судебных производств» 44.
Но даже проведённое в 1905 и 1911 гг. расширение штатов оказалось запоздалым и недостаточным, не соответствовавшим бурному росту населения. В частности, в Томской губ. мировая юстиция по-прежнему испытывала существенные трудности. Число мировых судей возросло здесь в 2,3 раза, но жителей в 1897–1911 гг. стало почти вдвое больше 45. Поэтому едва ли чиновники испытали существенное облегчение.
Введение Судебных уставов, несомненно, содействовало преображению края. Министерство юстиции заботилось о назначении в Сибирь чиновников высокой квалификации. 25 июня 1896 г. Муравьёв разослал председателям и прокурорам судебных палат циркуляр, поручив им отыскать среди юристов-практиков желавших перейти на службу за Урал 46, и охотников нашлось немало. Из 330 человек, занявших должности в сибирских судах, почти 92% имели высшее, в подавляющем большинстве – юридическое, образование 47, причём 53% прибыли из Европейской России.
Однако положение мировых судей во многом зависело от того, где именно – в городе или селе – располагалась их камера 48. В городе, как правило, было проще найти подходящие жильё и служебные помещения, обустроить быт, получить доступ к благам цивилизации и общественной жизни. Крупнейшие городские центры региона по комфортности проживания и внешнему облику приближались к промышленным городам Центральной России. В них формировались деловые и рабочие кварталы, эксплуатировались электростанции, в Томске и Барнауле даже планировался запуск трамвая. В то же время многие небольшие городки сохраняли архаичные черты 49. Весьма показательно, что в комментариях к проекту разграничения мировых участков Иркутской судебной палатой напротив захолустного Верхоленска неизвестный судебный служащий приписал: «Хотя город, но хуже деревни» 50.
Мировые судьи активно участвовали в городской жизни, порою выступая застрельщиками её улучшения. Так, Е. Г. Шольп в 1898 г. инициировал создание Красноярского общества трезвости 51, а в 1903 г. сделал доклад о земских учреждениях в Сибири на заседании Томского юридического общества 52. В 1909 г. мировые судьи, особенно Е. М. Баранцевич 53, обеспечивали первые шаги общества патроната в Томской губ., где эта благотворительная ассоциация помогала освобождаемым из мест заключения, а также нуждавшимся семействам заключённых и ссыльных 54. В Кузнецке городское общественное собрание в 1905 г. возглавлял мировой судья В. И. Злобинцев 55.
Наоборот, назначение в глухие уголки Сибири сулило настоящую беду. В Томской губ. дурной славой пользовался четвёртый мировой участок Барнаульского уезда с камерой в селе Карасук. Затерянный в малопригодной для жизни Кулундинской степи населённый пункт отпугивал чиновников. Однажды карасукский крестьянский начальник вознамерился перейти в судебное ведомство и направил в Томский окружной суд два ходатайства. В первом говорилось о желании служить исключительно в определённых местностях губернии, а во втором выражалось согласие на перевод куда угодно из ненавистного села. Одновременно мировой судья К. Е. Стеблин-Каменский искал новое место службы в той же губернии, но с обязательным условием, чтобы это не был Карасук 56.
В 1907 г. участок принял недавно окончивший Томский университет С. В. Дианин. Не имея семьи, молодой человек оказался в одиночестве, вызванном «совершенной изолированностью от остального культурного мира» и полным отсутствием интеллигенции и общественной жизни. К этому добавлялись сильные ветры летом и вьюги зимой, постоянный недостаток дров, на поиск которых уходило много времени. По словам чиновника, это село являлось «местом добровольной ссылки для молодых и принудительной для старых юристов». Прося о переводе, он утверждал: «Здесь медленное и постепенное умирание, всякий человек чувствует себя в Карасуке временным гостем и живёт надеждой получить более лучшее для него место. Прожить в Карасуке два года уже вполне достаточно, чтобы всеми фибрами своей души рваться отсюда, куда-нибудь уехать и больше не возвращаться» 57.
Отдельную категорию составляли северные участки. Из-за холода и безлюдности желавших служить там было мало, а назначенные нередко спешили оттуда убраться. В 1899–1900 гг. в течение нескольких месяцев мировые судьи Вилюйского и Олёкминского уездов Якутской обл. подали начальству просьбы о перемещении в более тёплые широты, ссылаясь на ухудшение собственного здоровья и болезни жён, вызванные «суровым климатом» 58.
Подобные случаи побудили Кастриото-Скандербек-Дрекаловича обратиться в Министерство юстиции за дозволением понижать требования к образовательному уровню кандидатов на вакансии мировых судей в особенно холодных участках 59. Щегловитов позже предпринял попытку заманить чиновников на север, обещая им быстрый карьерный рост. В декабре 1911 г. министр писал главе Иркутской судебной палаты Н. П. Еракову, что судьи после трёх лет труда здесь могли «рассчитывать на дальнейшее служебное движение», становясь первыми претендентами на повышение. Однако, по словам председателя Красноярского окружного суда Б. И. Кгаевского, ни один мировой судья Енисейской губ. не захотел работать в северной «совершенно некультурной и дикой местности». Кто-то сослался на состояние здоровья, не позволявшее «перенести суровые климатические условия», другие – на недостаточность материальных средств для труда в тяжелейшей обстановке 60.
Контраст между службой в городе и селе проступал уже в законе 13 мая, разрешавшем разделять в городских центрах судейскую и следовательскую деятельность. Понимая все неудобства и пороки института судьи-следователя, в Сибири охотно пользовались данным правом. К примеру, общее собрание отделений Томского окружного суда на следующий же день после введения в крае новой юстиции возложило на двух мировых судей Томска только судебные полномочия, а на двух других – следовательские 61. Точно так же поступил окружной суд в Красноярске 62. В дальнейшем эта практика получила широкое распространение. В 1905 г. в Тобольской губ. из 40 мировых судей пятеро исполняли только судейские обязанности, а трое вели лишь предварительное следствие 63. К 1 января 1909 г. в Томской губ. шестеро мировых судей фактически являлись следователями, ещё столько же ограничивались исключительно судебными функциями, но оставалось, в основном – в сельской местности, и 36 «смешанных», как их называли, судебно-следственных участков 64.
К их числу принадлежал, в частности, четвёртый участок судьи Ачинского уезда Енисейской губ. В. Макарова, составлявший в диаметре 200 вёрст, но требовавший при относительно скромном по сибирским меркам пространстве частых выездов из камеры в несколько крупных пунктов. В 1912 г. ему пришлось провести в разъездах 160 дней, проехав 4,5 тыс. вёрст 65. Мировой судья третьего участка Барнаульского уезда Г. В. Топор-Робчинский в 1908 г. выезжал в командировки в радиусе 150 вёрст, где проживали 100 тыс. человек; ежегодно к нему поступало около 1 500 дел мировой подсудности и 100 следственных производств. Неудивительно, что Омская судебная палата официально признала нормальную работу в подобных условиях невозможной 66.
В обширных участках чиновники преодолевали гигантские расстояния. Один из судей первого участка Минусинского уезда Енисейской губ. с 12 августа 1912 г. по 22 сентября 1913 г. совершил «разъездов по делам службы более 10 000 вёрст» 67. В Якутской обл. мировой судья первого участка проехал в 1908 г. 10 074 версты, а мировой судья второго участка в 1909 г. – 11 981 версту 68.
Оставляла желать лучшего и материальная база органов юстиции. Газета «Енисей» констатировала: «Судебная реформа в Сибири застала её врасплох. В ней, при её неустроенности и слабом строительном росте городов, почти не оказалось пригодных зданий для помещения новых окружных судов и мировых камер» 69.
В сёлах поиск квартир вызывал ещё бóльшие затруднения. За первые четыре с половиной месяца после проведения преобразования судья третьего участка Забайкальской обл. В. Ф. Манько вынужден был сменить четыре камеры. Цены на их наём в станице Кайдаловой, где ему предстояло служить, он называл «грабежом» 70. Порою найти место для осуществления судопроизводства не удавалось. В 1897 г. судья П. И. Хрущевский, прибыв в четвёртый участок Бийского округа Томской губ., не обнаружил там построек, «сколько-нибудь подходящих для камеры» 71. Один из якутских мировых судей, назначенный в огромный участок, сумел расположиться лишь в самом Якутске, так как за пределами города насчитывалось всего четыре дома, которые могли быть приспособлены хотя бы для выездных заседаний. Вокруг стояли тесные юрты, не имевшие глухих стен, что не позволяло допрашивать свидетелей раздельно, не выставляя кого-то из них наружу (зимой – на лютый мороз) 72.
Обстановка сельских камер отнюдь не способствовала престижу правосудия. Сибирский судья М. Войтенков рассказывал, что чиновники мировой юстиции с трудом размещались в «отвратительных избах» с ветхим имуществом. Бывало, в них отсутствовали стулья для судьи и скамьи для публики, а вместо скатерти на столы стелили «удивительно грязные лохмотья» 73.
Даже в крупных городах Сибири достойных квартир для представителей судебной власти не хватало. Мировой судья Хабаровска сетовал на свою камеру, занявшую полузаброшенное медицинское учреждение – «тесное, низкое, холодное и пропитанное больничным запахом» 74. В 1901 г. прокурор Иркутской судебной палаты Коваленский (бывший тобольский губернский прокурор) просил местное городское управление изменить сложившееся положение, «приняв на себя, по примеру других городов, заботы по устройству для судей удобных и достаточно поместительных камер» 75.
Согласно справочнику «Города России», в 1904 г. в Сибири дороже всего за наём квартир платили в Томске (в среднем сегменте – 800 руб. ежегодно) 76. На рубеже первого и второго десятилетий ХХ в. проживавшие там чиновники мировой юстиции неоднократно жаловались окружному суду на недостаточность отпускаемых им средств, из-за чего «камеры наши должны, также по необходимости, помещаться в квартирах дешёвых (по местным ценам) от 390 до 400 руб., без отопления и освещения, малопоместительных и вообще неблагоустроенных» 77.
В деревнях дефицит построек, соответствовавших требованиям судебного ведомства, затруднял или вовсе делал невозможным устройство камер поблизости от других служб и коммуникаций. В 1897 г. центры некоторых участков в Томской губ. оказались в селениях без почтовых станций 78. В Енисейской губ. на рубеже веков в сельской местности лишь три из 11 камер находились непосредственно на дорогах, по которым шла почта, а четыре отстояли от почтовых контор на 16, 75, 87 и 137 вёрст 79. Мировой судья восьмого участка Г. И. Малофеев проживал в станице Шелопугинской Забайкальской обл., а полицейский пристав, чьи полномочия распространялись почти на ту же самую территорию, – в 60 верстах от него, в станице Ундинской, что, разумеется, доставляло множество служебных неудобств 80.
Камеры мировых судей в Сибири часто переносились, границы, в которых они действовали, постоянно перекраивались: попытки найти их оптимальное расположение и очертание продолжались. В июне 1908 г. они обсуждались на съезде мировых судей в Барнаульском уезде 81. При этом мотивы изменений бывали самые разные. В 1900 г. особый комитет Тобольской губ. по прошению мирового судьи отделил от четвёртого участка юг Уватской волости, не имевший сухопутного сообщения с селом Демьянским на Иртыше, где находилась камера. Из-за этого судье для производства следственных действий приходилось плыть на лодке вверх по реке, что отнимало лишнее время и чрезвычайно замедляло процесс, тогда как из Тобольска добираться туда по течению было значительно проще 82. 12 ноября 1909 г. в той же губернии перевели второй мировой участок северного Берёзовского уезда на юг – в Курганский уезд, где судьи, назначенные по штату 1896 г., уже совершенно не справлялись с работой, ведь за это время, после проведения Транссиба, население там увеличилось на 100 тыс. человек, а сам Курган из захудалого городка превратился в крупный экономический центр с 40 тыс. жителей 83. Впрочем, иногда инициатива исходила не от служащих, а от крестьян. Так, в 1914 г. Больше-Тавдинский волостной сход Тарского уезда Тобольской губ. составил приговор, прося исправить участковое распределение, при котором камера их мирового судьи отстояла от волости на сотню вёрст дальше, чем центр соседнего участка. Особый губернский комитет удовлетворил эту просьбу 84. Но в целом, как показывала практика, все эти усилия приносили мало пользы, что не составляло секрета для местного начальства. И едва ли Гондатти (тогда ещё томский губернатор) удивился, когда 9 апреля 1910 г. председатель местного окружного суда гр. М. А. Подгоричани-Петрович доложил ему о «крайней неудовлетворительности существующего распределения следственно-мировых участков» 85.
Основная проблема заключалась в малочисленности судебных чиновников, особенно в западносибирских губерниях. В 1900 г. мировые судьи Томской губ. не успели разобрать примерно 14 тыс. тяжб, в 1901 г. – около 15 тыс., а в 1902 г. – уже более 17 тыс. Таким образом, на руках у каждого из них оставалось в среднем столько же нерешённых дел, сколько он мог рассмотреть за год. На рубеже XIX–ХХ вв. волокита отмечалась в Тобольской губ. – в Тобольске, Кургане, Таре и Тюмени, а также на юге Томской губ. Вместе с тем распределение труда отличалось неравномерностью: в одних местах нагрузка была сравнительно небольшой, тогда как в других, наоборот, чрезмерной.
В такой обстановке, когда задачи, поставленные перед служащими, становились во многих частях края безразмерными и невыполнимыми, требования к участкам, разработанные в конце XIX в., забывались и упрощались. Характерно, что в рекомендациях особого комитета Забайкальской обл., сформулированных 30 июля 1911 г., уже не упоминалось про ландшафт и состояние путей сообщения. Единственной целью разграничения участков теперь являлось избавление судопроизводства от избыточного обременения делами и приведение его в соответствие с установленными нормами 86, которые, кстати, искусственно завышались 87.
Приспособление мировой юстиции к условиям Сибири требовало повышенного внимания к особенностям окраины, применения специфических подходов и значительного финансирования. Однако, несмотря на все предпринимавшиеся меры, отведённых на это ресурсов оказалось недостаточно для того, чтобы наладить в регионе эффективное правосудие. Помимо природы и общей отсталости, больше всего этому препятствовали ограниченный штат чиновников, скудное материальное обеспечение их деятельности, слабое знание представителями власти местных обстоятельств и неизбежные при таком положении ошибки.
1 ПСЗ-II. Т. 39. Отд. 2. СПб., 1867. № 41473.
2 См., например: Baberowski J. Autokratie und Justiz: Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864–1914. Frankfurt a/M, 1996. S. 365.
3 Судебная реформа в Сибири // Журнал Министерства юстиции. 1896. № 6. С. 145.
4 В 1914 г. в крае проживало 5,61% россиян, тогда как его площадь составляла 57,41% имперской территории (Saunders D. Regional Diversity in the Later Russian Empire // Transactions of the Royal Historical Society. 2000. Vol. 10. P. 145).
5 ПСЗ-III. Т. 16. Отд. 2. СПб., 1899. № 12932. В судебном отношении к сибирским относились Тобольская, Томская, Енисейская, Иркутская губернии и Забайкальская, Якутская, Амурская, Приморская области.
6 Подробнее см.: Ремнёв А. В. Региональные параметры имперской «географии власти» (Сибирь и Дальний Восток) // Ab Imperio. 2000. № 3–4. С. 343–358; Ремнёв А. В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала XX вв. Омск, 2004; Remnev A. V. Siberia and the Russian Far East in the Imperial Geography of Power // Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930 / Eds. J. Burbank, M. von Hagen, A. Remnev. Bloomington, 2007. P. 425–454; Сибирь в составе Российской империи. М., 2007. С. 23.
7 ПСЗ-III. Т. 16. Отд. 2. СПб., 1899. № 12932.
8 Характерно, что в составленной членами комиссии Бутовского «Объяснительной записке к проекту штатов судебных установлений в Сибири» отмечалось: «При распределении сибирских губерний и областей на участки нельзя включать в один и тот же участок местности, отделяемые одна от другой большими реками, горами, тайгою и другими естественными преградами, так как, в противном случае, даже при малом количестве возникающих дел и не особенно значительной обширности участков участковые судьи были бы поставлены в невозможность исполнять надлежащим образом возлагаемые на них обязанности» (Государственный архив в г. Тобольске (далее – ГАТ), ф. 152, оп. 37, д. 875, л. 158–158 об.). Включённый в комиссию иркутский губернский прокурор Н. И. Харизоменов указывал на то, что «при учреждении участковых судей в Сибири вообще, ввиду громадных расстояний и неудобства путей сообщения, должно быть принято во внимание, при образовании их участков, не столько количество подлежащих их ведению дел, но главное – пространство их участков и удобство сообщений, наблюдая, чтобы участки, по возможности, были невелики, разъезды удобны и местопребывание судьи находилось бы в центре участка» (РГИА, ф. 1405, оп. 542, д. 243, л. 119 об.–120).
9 РГИА, ф. 1405, оп. 542, д. 247, л. 2–5 об.
10 Сибирские округа в 1898 г. были переименованы в уезды (Шиловский Д. М., Шиловский М. В. Административно-территориальное устройство и управленческий аппарат Азиатской России (конец XVI – начало XXI в.). Новосибирск, 2018. С. 63).
11 ПСЗ-III. Т. 31. СПб., 1914. № 35432.
12 Анучин В. Н. Пасынки Фемиды // Сибирские вопросы. 1909. № 46–47. С. 35–36.
13 Подробнее см.: Krest’iannikov E. A. Realizatsiia idei sud’i-sledovatelia v mirovoi iustitsii dorevoliutsionnoi Sibiri // Cahiers du monde russe. Vol. 58. 2017. № 4. P. 555–588.
14 То же самое наблюдалось и при создании в 1898 г. в Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерниях института крестьянских начальников, штат которых из-за финансовых соображений оказался значительно меньше, нежели требовалось (Дамешек Л. М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX – начало ХХ в.). Иркутск, 1986. С. 71–72, 76; Крестьянников Е. А. Финансовые аспекты судебной реформы в Сибири (конец XIX – начало ХХ в.) // Российская история. 2018. № 2. С. 22–34).
15 ГАТ, ф. 152, оп. 37, д. 875, л. 160.
16 Муравьёв Н. В. Из прошлой деятельности. Т. 2. СПб., 1900. С. 403.
17 Подсчитано по: Азиатская Россия. Т. 1. СПб., 1914. С. 88–90; ПСЗ-III. Т. 16. Отд. 2. № 12932.
18 Государственный архив Иркутской области (далее – ГА ИО), ф. 245, оп. 5, д. 180, л. 19 об.
19 ГАТ, ф. 376, оп. 1, д. 566, л. 15 об.
20 Государственный архив Томской области (далее – ГА ТО), ф. 3, оп. 6, д. 5, л. 25–25 об.
21 Согласно закону 13 мая окружной суд, открывавшийся в каждой губернии или области Сибири, заменял там съезды мировых судей и непосредственно заведовал местной юстицией.
22 ГА ИО, ф. 243, оп. 1, д. 14, л. 18–19.
23 Государственный архив Красноярского края (далее – ГА КК), ф. 613, оп. 1, д. 232, л. 46–47 об.
24 ГА ИО, ф. 246, оп. 6, д. 3, л. 14, 19.
25 ГА ТО, ф. 3, оп. 6, д. 5, л. 25.
26 ГА ИО, ф. 246, оп. 6, д. 3, л. 4–13.
27 ГА ТО, ф. 3, оп. 6, д. 5, л. 25.
28 ГАТ, ф. 152, оп. 37, д. 875, л. 180.
29 Там же, д. 861, л. 173 об., 207, 369.
30 РГИА, ф. 1405, оп. 542, д. 254, л. 79 об.–81.
31 Всеподданнейший отчёт приамурского генерал-губернатора генерал-лейтенанта Духовского. 1896–1897 гг. СПб., 1898. С. 71.
32 ГА ИО, ф. 246, оп. 6, д. 3, л. 21 об.
33 В судебном ведомстве считалось, что преодоление каждых 150–200 вёрст по Сибири на лошадях или пароходах отнимало сутки (Государственный исторический архив Омской области (далее – ГИА ОО), ф. 25, оп. 1, д. 80, л. 89 об.). См. также: Крестьянников Е. А. Правосудие через расстояния: негативная практика деятельности мировых судей в дореволюционной Сибири // Quaestio Rossica. Т. 7. 2019. № 1. С. 98–114.
34 ГА ИО, ф. 245, оп. 1, д. 27, л. 96–98.
35 ГА ТО, ф. 3, оп. 6, д. 5, л. 114, 118, 127, 129–129 об.
36 ГА ИО, ф. 243, оп. 1, д. 14, л. 7–8; ф. 245, оп. 1, д. 924, л. 67.
37 ГАТ, ф. 152, оп. 37, д. 869, л. 95–96 об.
38 ГИА ОО, ф. 25, оп. 1, д. 242, л. 12–13 об.
39 ГА ИО, ф. 243, оп. 1, д. 325, л. 87.
40 РГИА, ф. 1405, оп. 542, д. 255, л. 9 об.
41 Там же, д. 280, л. 81–81 об.
42 Количество уголовных и гражданских дел, в среднем возникавших в каждом мировом участке Приморской обл. и Томской губ., в 1898–1900 гг. составляло соответственно 441 и 865, а в 1907–1909 гг. – 1 051 и 1 226 производств (Сборник статистических сведений Министерства юстиции. Вып. 17. Приложение. СПб., 1902. С. 16; Сборник статистических сведений Министерства юстиции. Вып. 26. Приложение. СПб., 1912. С. 16).
43 ПСЗ-III. Т. 20. Отд. 2. СПб., 1902. № 17973; Т. 25. СПб., 1908. № 27162; Т. 31. СПб., 1914. № 35330.
44 Отчёт по делопроизводству Государственного совета за сессию 1899–1900 гг. Т. 2. СПб., 1900. С. 411.
45 Азиатская Россия. Т. 1. С. 86.
46 Центральный государственный архив г. Москвы, ф. 131, оп. 24, д. 371, л. 1.
47 Замещение должностей в новых судебных учреждениях Сибири // Журнал Министерства юстиции. 1897. № 4. С. 115–118.
48 В 1898 г. в сибирских городах служил 71 мировой судья, а в сельской местности – 86 (Сборник статистических сведений Министерства юстиции. Вып. 14. СПб., 1899. С. VIII–XVII)
49 Скубневский В.А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в. Население. Экономика. Застройка и благоустройство. Барнаул, 2014. С. 186–187, 193.
50 ГА ИО, ф. 246, оп. 6, д. 3, л. 10 об.–11.
51 ГА КК, ф. 595, оп. 8, д. 2938, л. 1.
52 К вопросу о введении земства в Сибири // Енисей. 1903. 4 апреля.
53 Сибирская жизнь. 1909. 1 августа; 20 октября; Баранцевич Е. М. Учреждение школ при обществах патронат в России. Томск, 1912; Баранцевич Е. М. Необходимость и возможность повсеместного учреждения обществ патронат в России. Томск, 1912; Баранцевич Е. М. Страничка благотворительной деятельности (из жизни томского патроната). Томск, 1913; Баранцевич Е. М. Патронат в жизни России. Томск, 1914; Баранцевич Е. М. Значение обществ патронат во время войны и народных бедствий. Томск, 1915.
54 ГА ТО, ф. 3, оп. 26, д. 2425, л. 1.
55 Там же, оп. 15, д. 22, л. 23.
56 Там же, ф. 10, оп. 1, д. 80, л. 36, 37; д. 183, л. 24 об.
57 Там же, д. 183, л. 13–14 об.
58 ГА ИО, ф. 246, оп. 6, д. 15, л. 90–92, 100.
59 Там же, л. 130 об.
60 Там же, ф. 243, оп. 1, д. 325, л. 2–2 об.; ГА КК, ф. 42, оп. 1, д. 238, л. 3–3 об., 29–29 об.
61 От председателя Томского окружного суда // Томские губернские ведомости. 1897. 10 июля.
62 ГА КК, ф. 42, оп. 1, д. 23, л. 3 об.–4.
63 ГАТ, ф. 158, оп. 2, д. 155, л. 101–102.
64 ГА ТО, ф. 10, оп. 1, д. 162, л. 11–16.
65 ГА КК, ф. 42, оп. 1, д. 229, л. 6.
66 ГА ТО, ф. 10, оп. 1, д. 147, л. 5 об.–6, 12–12 об.
67 ГА КК, ф. 595, оп. 35, д. 743е, л. 52.
68 РГИА, ф. 1405, оп. 531, д. 894, л. 93.
69 Красноярск, 11 июля // Енисей. 1897. 11 июля.
70 РГИА, ф. 1405, оп. 542, д. 255, л. 41–42.
71 ГА ТО, ф. 3, оп. 70, д. 185, л. 2–2 об.
72 ГА ИО, ф. 245, оп. 1, д. 10, л. 28–29.
73 Войтенков М. Мировой судья в Сибири и Забайкалье // Право. 1911. 30 января.
74 ГА ИО, ф. 245, оп. 1, д. 24, л. 52.
75 Там же, ф. 25, оп. 6, д. 1270, л. 1.
76 Города России в 1904 г. СПб., 1906. С. 418.
77 ГА ТО, ф. 10, оп. 1, д. 139, л. 22–23.
78 Там же, ф. 3, оп. 70, д. 185, л. 1.
79 ГА КК, ф. 42, оп. 1, д. 22, л. 64 об.–65.
80 РГИА, ф. 1405, оп. 542, д. 255, л. 48–48 об.
81 ГА ТО, ф. 10, оп. 1, д. 133, л. 4.
82 ГАТ, ф. 152, оп. 37, д. 869, л. 97–98 об., 105–106.
83 Там же, д. 903, л. 133–136 об.
84 Там же, д. 904, л. 117–117 об., 122–123.
85 ГА ТО, ф. 3, оп. 14, д. 109, л. 20.
86 ГА ИО, ф. 245, оп. 1, д. 924, л. 45–45 об.
87 По мнению председателя Омской судебной палаты, высказанному в 1911 г., каждый судья будто бы мог ежегодно рассматривать 1 500 дел мировой подсудности (ГИА ОО, ф. 25, оп. 1, д. 233, л. 3 об.), а незадолго до этого члены Томского окружного суда исходили из числа 1 800 (ГА ТО, ф. 3, оп. 14, д. 109, л. 38 об.).
Об авторах
Евгений Адольфович Крестьянников
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Baberowski J. Autokratie und Justiz: Zum Verhältnis von Rechtsstaat-lichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864–1914. Frankfurt a/M, 1996.
- Krest’iannikov E.A. Realizatsiia idei sud’i-sledovatelia v mirovoi iustitsii dorevoliutsionnoi Sibiri // Cahiers du monde russe. Vol. 58. 2017. № 4. P. 555–588.
- Remnev A.V. Siberia and the Russian Far East in the Imperial Geography of Power // Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930 / Eds. J. Burbank, M. von Hagen, A. Remnev. Bloomington, 2007. P. 425–454.
- Saunders D. Regional Diversity in the Later Russian Empire // Transac-tions of the Royal Historical Society. 2000. Vol. 10. P. 143–163.
- Баранцевич Е.М. Значение обществ патронат во время войны и народных бедствий. Томск, 1915.
- Баранцевич Е.М. Необходимость и возможность повсеместного учреждения обществ патронат в России. Томск, 1912.
- Баранцевич Е.М. Патронат в жизни России. Томск, 1914.
- Баранцевич Е.М. Страничка благотворительной деятельности (из жизни томского патроната). Томск, 1913.
- Баранцевич Е.М. Учреждение школ при обществах патронат в Рос-сии. Томск, 1912.
- Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX – начало ХХ в.). Иркутск, 1986.
- Крестьянников Е.А. Правосудие через расстояния: негативная прак-тика деятельности мировых судей в дореволюционной Сибири // Quaestio Rossica. Т. 7. 2019. № 1. С. 98–114.
- Крестьянников Е.А. Финансовые аспекты судебной реформы в Си-бири (конец XIX – начало ХХ в.) // Российская история. 2018. № 2. С. 22–34.
- Ремнёв А.В. Региональные параметры имперской «географии власти» (Сибирь и Дальний Восток) // Ab Imperio. 2000. № 3–4. С. 343–358.
- Ремнёв А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала XX вв. Омск, 2004.
- Сибирь в составе Российской империи. М., 2007.
- Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Города Западной Сибири во вто-рой половине XIX – начале XX в. Население. Экономика. Застройка и бла-гоустройство. Барнаул, 2014.
- Шиловский Д.М., Шиловский М.В. Административно-территориальное устройство и управленческий аппарат Азиатской России (конец XVI – начало XXI в.). Новосибирск, 2018.
Дополнительные файлы