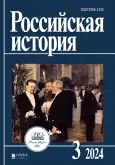Moscow State Conference in the crosshairs of confrontation
- Authors: Shelokhaev V.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 196-201
- Section: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/264348
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030198
- EDN: https://elibrary.ru/GBXMUS
- ID: 264348
Cite item
Full Text
Abstract
The author focuses on the initiative minority, which, in fact, was mobilized during the days of the Moscow State Conference. The article notes the great contribution of A.B. Nikolaev in the study of this significant and often ignored political forum in historiography. Thanks to this monograph, it is possible to trace the motivation of key political forces, as well as their leaders. They all had to adapt to the conditions of revolutionary Russia in one way or another. However, in most cases these attempts were unsuccessful, as was clearly demonstrated in August 1917.
Full Text
Основой монографии А. Б. Николаева послужила его кандидатская диссертация «Борьба сил революции и контрреволюции в связи с созывом Государственного совещания (апрель–август 1917 г.)», защищённая в апреле 1990 г. (с. 27–28). А если учесть, что первые статьи автора по истории Государственного совещания появились ещё в 1987 г., то вполне очевидно, что эта тема не «оставляла» Николаева фактически 35 лет. По сути, между начальной и конечной датой превращения рукописи диссертации в монографию пролегли две историографические эпохи – советская и постсоветская, с принципиально разными теоретико-методологическими подходами к оценке всего комплекса событий после Февральской революции. За этот период Николаев проделал значительную работу по осмыслению самой революции и последующего весьма сложного и неоднозначного исторического процесса. С каждым новым исследованием автор продолжал расширять источниковую базу, обогащать собственный теоретический и методологический инструментарий.
Характерно, что в рецензируемой монографии Николаев также не изменил своей исследовательской манере. Взяв за основу историю Государственного совещания (возникновение и эволюция самой идеи, характеристика состава и четырёхдневной деятельности), он предпринял в целом продуктивную попытку показать место и роль данной структуры в динамичном революционном процессе апреля–августа 1917 г.
Значительный хронологический промежуток между кандидатской диссертацией и монографией являет собой также непростой период трансформационных перемен в исследовательских подходах и оценках автора. В этом убеждает его стремление не только к значительному расширению источниковой базы, но и способность творчески переосмыслить некоторые из своих прежних оценочных суждений, что вполне нормально для подлинной науки (в самом широком смысле этого слова). Безусловно, позитивным моментом является и то, что Николаев посвятил монографию своему ныне покойному научному руководителю, доктору исторических наук О. Н. Знаменскому.
По мнению автора, идея созыва Государственного совещания логически «увязана» с апрельским и июльским кризисами 1917 г. Речь идёт о проектах консерватора В. В. Шульгина, октябриста И. В. Годнева, Комитета московских общественных организаций, лидеров ведущих политических партий либеральной и социалистической ориентации. Причём эта «увязка» детально прослеживается именно с апрельским кризисом и в гораздо меньшей степени с июльским, что, на мой взгляд, не совсем корректно. Дело в том, что эти кризисы по своим основаниям и воздействию на общественное сознание существенно отличались друг от друга. Динамика революционного процесса между апрелем и июлем 1917 г. претерпела качественные изменения, что и обусловило подвижки в каждом из слагаемых данного процесса.
Большое внимание в монографии уделено характеристике ролевых функций основных акторов, заинтересованных в созыве Государственного совещания. Временное правительство, члены Государственной думы I–IV созывов, общественные круги (прежде всего Москвы), ведущие политические партии преследовали собственные цели. Использование автором весьма широкого круга источников (в первую очередь периодической печати) позволяет значительно расширить исследовательские представления о замыслах и надеждах на созыв Государственного совещания со стороны правительственных, общественных, партийных и военных кругов. Вместе с тем, на мой взгляд, Николаеву следовало теснее увязать проблему созыва Государственного совещания с динамикой революционного процесса и с изменениями, имевшими место в идеологических, программных и особенно тактических представлениях вышеназванных акторов.
Рецензируемая монография – по сути, первая в историографии масштабная попытка воссоздания максимально полной картины состава Государственного совещания, в значительной степени отражающей реальную расстановку общественно-политических и партийных сил на данном этапе постфевральского революционного процесса. Именно им в скором времени предстояло «помериться силами» друг с другом, что, в свою очередь, привело к коренному перелому в исторических судьбах России. Предпринятые автором подсчёты общего количества участников Государственного совещания (2 600–2 800 человек) и уточнения их принадлежности к тем или иным структурам, заслуживают высокой оценки.
Особо стоит отметить третью главу, в которой впервые в историографии столь подробно и обстоятельно анализируются ход и итоги четырёх дней работы Государственного совещания. Его деятельность Николаев смог показать во внешнем и внутреннем контурах. В первом случае (на основе тщательной проработки периодики) автор изложил совокупность событий, имевших место вне Государственного совещания. Во втором (на основе стенографического отчёта и материалов прессы) – он показал, что происходило на пленарных заседаниях, в процессе работы различных групп и партийных фракций. Подчеркну, что всё это сделано автором на высоком профессиональном уровне и будет весьма позитивно воспринято не только специалистами, но и широким кругом читателей. По сути, речь идёт о воспроизведении впечатляющей картины, образно говоря, тщательно организованного «театрализованного представления» с участием представителей общероссийских и национальных, правительственных и общественных, партийных и беспартийных групп, выражавших разновекторные интересы различных социальных страт и политических партий.
По подсчётам Николаева, в рамках регламента на Государственном совещании выступили 87 ораторов. Подробно проанализированы речи членов Временного правительства, представителей военных и общественных кругов, лидеров ведущих политических партий. Обстоятельно исследована реакция прессы на выступления участников совещания. Автор специально обратил внимание на явную политизацию практически всех выступлений, что, в свою очередь, отражало настроения российского общества в условиях всё более обостряющегося политического кризиса.
Исследовательского внимания заслуживают общие выводы и наблюдения автора, получившие своё отражение в специальном параграфе «Итоги Государственного совещания» и в заключении к монографии. В принципе, с ними вполне можно согласиться. Если в обобщённом виде сформулировать итоги Государственного совещания, то они, ещё раз подтвердив верность первоначальным политическим лозунгам Февральской революции («консолидация живых сил страны», курс на «правительственную коалицию»), оказались, как отмечает автор, «противоречивыми для всех политических сил, принимавших в нём участие» (с. 380, 384–385). От себя добавлю, что участники Государственного совещания в условиях обострения политического кризиса в стране продолжали мыслить и действовать традиционно, продемонстрировав тем самым свою неспособность адекватно воспринимать динамично меняющуюся историческую реальность.
Вместе с тем ряд оценочных утверждений, содержащихся в монографии (например, «мартовская политическая система», Государственное совещание – «суррогат совещательного парламента») свидетельствуют о наличии ещё не преодолённых автором историографических стереотипов. В условиях «Большого взрыва», спровоцированного Первой мировой войной и Февральской революцией, говорить не только о сложившейся, но даже о формирующейся новой политической системе просто не приходится, ибо для этого требовался весьма длительный процесс. Николаев считает Государственное совещание «суррогатом парламентаризма», однако в российской действительности того времени никакого парламентаризма не существовало. Не соответствует исторической реальности и понятие «партийная система».
Суть проблемы своими корнями уходит в пореформенный период, так и не приведший к формированию ни гражданского общества, ни правового государства. Он представлял собой сублимацию «рывков» и «откатов», накладывавших друг на друга различные тенденции экономического, социального, идеологического и политического развития России. По образному выражению М. Я. Гефтера, Россия представляла собой «Мир миров», в котором были причудливо и неразрывно переплетены традиции и новации. Речь идёт о старых и новых экономических укладах, социальных стратах, мировосприятии, мировоззрении и мироощущении, старых общественных группировках и новых политических партиях, старых религиозных традициях и новейших формах национализма и сепаратизма.
Первая мировая война и Февральская революция предельно обострили и накалили ситуацию в этом «Мире миров», где продолжала оставаться Россия в начале ХХ в. Парадоксальность ситуации состояла в том, что, с одной стороны, она стремительно менялась, а с другой – с той же стремительностью вновь и вновь возрождала прежние традиции, которые по логике вещей уже должны были уйти в невозвратное далёкое прошлое. Эту способность к одновременному воспроизводству нового и старого нужно учитывать как при использовании понятийного аппарата, так и при постановке исследовательских проблем.
Например, понятия «контрреволюция», используемые в историографии для дофевральского и постфевральского периода, представляются различными по своему смысловому содержанию. Исследователи должны осознавать, что речь идёт о разных типах контрреволюций, порождённых разными историческими периодами, социальными и политическими акторами. Следует также учитывать динамичный процесс трансформаций в области разновекторных идеологий, программах, стратегии и тактике общероссийских и национальных политических партий. Динамичные сдвиги имели место в новых и старых структурах: Временный комитет Государственный думы, смена составов Временного правительства, изменение соотношения политических сил и партий в общественных организациях, в том числе в органах местного самоуправления и Советах, демократизация структур армии и флота. Ещё более динамично развивались события в социальной сфере. Менялись структуры общероссийских и национальных политических партий, которые (практически все без исключения) пересматривали и корректировали свои программы и тактики, пытаясь угнаться за массовым сознанием и массовым движением.
Первая мировая война и Февральская революция, образно говоря, открыли «ящик Пандоры», выплеснув на поверхность как разрушительные, так и созидательные силы, соотношение которых продолжало неоднократно меняться на протяжении длительного исторического отрезка, охватывающего не только период от Февраля до Октября 1917 г., но и годы Гражданской войны и ещё более отдалённый период истории России. Всё вышесказанное требует, на мой взгляд, дальнейшего творческого осмысления периода 1914–1922 гг. как единого исторического процесса. Одним из ключевых теоретико-методологических моментов этого осмысления должно стать глубокое и всестороннее изучение роли и значения инициативного меньшинства, которое, будучи социально и идеологически неоднородным и разновекторным, попыталось предложить российскому обществу различные модели его переустройства. Одним из родовых свойств этого меньшинства являлся монологизм и, следовательно, органическая неспособность к диалогу, что стало одной из базовых причин назревания и обострения конфронтации в российском многополярном социуме. Эту органическую неспособность зримо продемонстрировали новые институты и структуры в лице Временного правительства, Советов, общественных организаций, общероссийских и национальных политических партий. Возглавляемые представителями инициативного меньшинства, эти институты и структуры оказались не в состоянии подняться до уровня осознания общенациональных интересов. Увязнув в бесконечных дебатах о преимуществах собственных идеологий и программ, стратегий и тактик, они подпитывали (хотели они того или нет) массовую стихию.
Деятельность различных составов Временного правительства, Государственного и Демократического совещания, Директории убедительно показали неспособность инициативного меньшинства найти мирный и конструктивный выход из обостряющейся политической ситуации. Это породило идею диктатуры либо справа, либо слева, что неизбежно втягивало страну в братоубийственную Гражданскую войну. В этой логике развития революционного процесса деятельность Государственного, а затем и Демократического совещания представлялась бесперспективной. Более того, эти совещания стали дополнительным фактором разрастания массовой стихии в стране. С одной стороны, массы приняли активное участие в подавлении генеральской диктатуры, с другой – они же способствовали передвижке партийных сил в Советах, широко раскрыв тем самым двери для установления диктатуры большевистской. Примерно в этой логике развивались и европейские революции, особенно Французская 1789 г., завершившаяся установлением личной власти Наполеона Бонапарта.
Попытки установить диктатуру справа, разделяемые общественными кругами и в определённой степени правым крылом и центром кадетской партии во главе с П. Н. Милюковым, обусловливались, прежде всего, стремлением обуздать стихию массового движения, провоцируемую левоэкстремистскими элементами социалистических партий. Это был иной тип, отличный, например, от диктатуры, на введение которой в разные исторические периоды настаивали М. Т. Лорис-Меликов и Д. Ф. Трепов. Делая ставку на генерала Л. Г. Корнилова и его сподвижников в лице Союза офицеров армии и флота, сторонники установления диктатуры справа рассчитывали на то, что им удастся сохранить за собой политический контроль над военными и упрочить завоевания Февральской революции, поставить заслон дальнейшему развитию экстремизма и анархизма в стране. Да и сам Корнилов, как известно, не стремился к реставрации дореволюционных порядков и тем более самодержавия. Поэтому, обвиняя генерала и его сподвижников в контрреволюции, следовало бы различать типы контрреволюции, цели и задачи, которые они преследовали. Такие же подходы должны быть и для различных общественных слоёв, с одной стороны, сторонников реставрации монархии, прежних институтов и общественных отношений, а с другой – тех, кто, в общем и целом, вполне позитивно воспринимал завоевания Февральской революции и выражал готовность к сотрудничеству с Временным правительством. Они настаивали лишь на том, чтобы новая власть проводила твёрдую и внятную политику, направленную на доведение войны до победного конца и укрепление международного положения новой России.
Левое крыло либеральных партий и весь социалистический спектр являлись последовательными сторонниками упрочения и дальнейшего развития демократических завоеваний революции. Более того, меньшевики и эсеры вплоть до осени 1917 г. осуществляли полный контроль над Советами и делегировали своих представителей в коалиционные составы Временного правительства. Выступая категорически против установления диктатуры и справа, и слева, лидеры социалистических партий, в том числе и в Государственном и Демократическом совещаниях, настаивали на созыве Учредительного собрания. Вместе с тем ход революционного процесса в России в постфевральский период убедительно показал неустойчивость и социальную хрупкость социалистических партий, вынужденных в силу собственных мировоззренческих убеждений, идеологических и программных установок занять позицию некой «третьей силы». Лидеры меньшевиков и эсеров стремились, с одной стороны, поставить заслон любым реставрационным попыткам справа, а с другой – попыткам большевиков совершить исторически неоправданный «скачок в социализм». Чередующиеся политические кризисы (апрельский, июньский, июльский, сентябрьский) настолько «разогрели» общественную «температуру» в стране, что привели к полной утрате меньшевиками и эсерами контроля над политической ситуацией, чем и воспользовались их политические конкуренты в лице большевиков, левых меньшевиков-интернационалистов, левых эсеров – интернационалистов и анархистов. Если при этом учесть нараставшее давление со стороны многочисленных национальных партий, настаивавших либо на отделении, либо на национальной и культурной автономии, то политическая ситуация в России к осени 1917 г. стала критической, требующей оперативного решения. Именно ею и воспользовались большевики, сумевшие мобилизовать свои ряды для свершения Октябрьского переворота.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что без учёта всей совокупности объективных и субъективных факторов, традиций и новаций пореформенного периода довольно трудно дать реалистическую оценку любого из эпизодов постфевральского революционного процесса, любого института и структуры этого сложнейшего периода. Мне кажется, что А. Б. Николаеву в значительной степени удалось избежать многих подводных камней и дать сравнительно объективную оценку роли и исторического значения Государственного совещания 1917 г. Вместе с тем его монография свидетельствует о ещё многих нереализованных возможностях, которые предстоит преодолеть следующему поколению историков.
About the authors
Valentin V. Shelokhaev
Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник; руководитель Центра
Russian Federation, MoscowReferences
- Николаев А.Б. Государственное совещание 1917 года: созыв, состав, деятельность. СПб.: Астерион, 2022.
Supplementary files

Note
* Николаев А. Б. Государственное совещание 1917 года: созыв, состав, деятельность. СПб.: Астерион, 2022. 480 с.