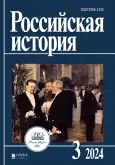Big politics at the Bolshoi Theatre
- Authors: Puchenkov A.S.1
-
Affiliations:
- Saint Petersburg State University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 206-212
- Section: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/264350
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030216
- EDN: https://elibrary.ru/GBRHGK
- ID: 264350
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the book of the famous St. Petersburg historian A. B. Nikolaev, the subject of whose research was the work of the State Conference in Moscow, held in August 1917, on the eve of the speech of General L. G. Kornilov. For the first time in historiography, the work of this political forum is covered in such detail and thoroughly. The author comes to the conclusion that the State Conference was conceived by A.F. Kerensky and the Provisional Government as an attempt to develop a national consensus during its work. The results of the State Conference were contradictory, demonstrating the instability of the position of both A.F. Kerensky himself and the Provisional Government as a whole.
Keywords
Full Text
Петербургский историк Андрей Борисович Николаев уже многие годы работает над проблематикой изучения революционной России в 1917 г. Результатом его увлечённой работы стал известный двухтомник, посвящённый событиям Февральской революции 1 и получивший положительные рецензии нескольких специалистов 2. «Думская революция» – крупнейшее обобщающее исследование, во многом опорная работа для нынешнего и последующих поколений историков. Этот двухтомник завершил серию книг Николаева о деятельности Думы в дни, предшествующие падению императорской власти 3. Каждая из них становилась событием в историографии, вызывая одобрительные отклики как в России, так и за рубежом 4. Отличительной чертой «Думской революции» является поистине непревзойдённое по тщательности описание Февральской революции – по дням, часам, а в отдельных случаях и минутам. Историк выстроил композицию своей книги именно в хронологическом порядке. Подобный исследовательский приём был использован им и в рецензируемой монографии.
Новая книга Николаева рассказывает о работе Государственного совещания в Москве в августе 1917 г. Вплоть до настоящего момента Государственное совещание не становилось предметом отдельного исследования, несмотря на то что стенографический отчёт этого крупнейшего во всех отношениях политического форума был опубликован ещё в 1930 г.5, а его изучение началось в 1920-х гг.6 Так получилось, что Государственное совещание историками воспринималось как событие не столь значимое, вероятно, по той причине, что спустя всего десять дней после завершения его работы случилось выступление генерала Л. Г. Корнилова, значение которого для итогов 1917 г. действительно невозможно переоценить.
В мемуаристике и публицистике также сложилась своя традиция освещения Государственного совещания. Участник и один из инициаторов этого исторического события В. В. Шульгин, запомнившийся в те дни своим резонансным выступлением по украинскому вопросу, отмечал, что совещание проходило «в апогее керенской распущенности» и «больше напоминало оперу, чем последнюю попытку сговора людей, которым иначе предстояло вступить в смертельную схватку» 7. При этом, прибавлял Шульгин, «опера быстро кончилась, и началась трагедия. В этой трагедии действующими лицами были те, у которых за актёрством таилось “настоящее”. Те, которые могли не только “выступать”, но и поступать. Те, кто могли не только говорить речи, но и принимать решения. К их числу, конечно, не принадлежал Керенский» 8. В. И. Ленин же ограничился тем, что назвал Государственное совещание «Московским контрреволюционным империалистским совещанием» 9.
Основы научного анализа работы Государственного совещания в Москве заложены П. Н. Милюковым в замечательной книге «История второй русской революции», над которой он начал работать ещё в конце 1917 г. Принявший участие в совещании, Павел Николаевич вспоминал, что положение Временного правительства к середине августа 1917 г. было неустойчивым, популярность Керенского снижалась, а политика кабинета скомпрометирована. «Посреди этих страхов и конфликтных настроений стояло испуганное правительство и его глава А. Ф. Керенский, истинный устроитель Московского совещания, приехавший, как шутили журналисты, “короноваться” в Москве. В этой неслучайной шутке над случайным обитателем Зимнего Дворца, поселившимся там больше из предосторожности, чем из честолюбия, была меткая характеристика сложившегося положения. Правительство хотело быть сильным; его глава хотел таким казаться… По внешности правительство, однако, продолжало проявлять желание стать на государственную точку зрения. Для этого оно и приехало искать себе опоры и сочувствия в Государственном совещании в Москве. На это намерение ответили аплодисменты правой стороны и центра зала при появлении Керенского, при полном молчании левой, которая зато одна хлопала при появлении Чернова. Но уже вступительная речь Керенского показала, что первоначальная политическая задача совещания сведётся фактически на нет и что результат его для правительства будет отрицательный. Многие провинциалы видели в этой зале А. Ф. Керенского впервые и ушли отчасти разочарованные, отчасти возмущённые. Перед ними стоял молодой человек с измученным, бледным лицом, в заученной позе актёра. Выражением глаз, которое он фиксировал на воображаемом противнике, напряжённой игрой рук, интонациями голоса, который то и дело, целыми периодами повышался до крика и падал до трагического шепота, размеренностью фраз и рассчитанными паузами, этот человек как будто хотел кого-то устрашить и на всех произвести впечатление силы и власти в старом стиле. В действительности он возбуждал только жалость», – вспоминал Милюков 10.
Такая оценка Керенского как главного несостоявшегося триумфатора Государственного совещания близка и автору этих строк. На мой взгляд, оно ни к какой консолидации политических сил не привело, став персональным политическим триумфом, пускай и мимолётным, абсолютно другого человека – генерала Корнилова, громадный авторитет которого среди сторонников «твёрдой руки» и носителей государственнических взглядов не мог не испугать Керенского.
Для советской историографии было характерно представление о Государственном совещании как о собрании «контрреволюционного сброда», созванного Временным правительством для создания видимости «всенародного» одобрения его политики 11. В свою очередь, современный российский историк И. А. Тропов предположил, что Государственное совещание, инициированное Временным правительством для укрепления и расширения его социальной поддержки, «если и решило стоявшие перед ним задачи, то весьма условно». По его итогам можно было говорить о символической победе кабинета Керенского, который сумел «формально получить поддержку большинства его участников», хотя характер этой поддержки свидетельствовал о шатком положении коалиции 12.
В интересной статье Б. И. Колоницкого и К. В. Годунова содержится утверждение, что Государственное совещание было созвано «для преодоления опасного раскола и нейтрализации радикальных элементов слева и справа». Однако добиться достижения поставленной задачи Временное правительство и Керенский не смогли: «совещание выявило крайнюю поляризацию общества, более того, оно стало фактором дальнейшего нарастания конфронтации» 13. Эта оценка в какой-то степени повторяет суждение убеждённого сторонника Корнилова генерала А. И. Деникина, по словам которого совещание «не внесло никаких перемен в государственную и военную политику». Напротив, оно «даже внешним образом резко подчеркнуло непримиримую рознь между революционной демократией и либеральной буржуазией, между командованием и армейским представительством» 14.
Рецензируемая монография могла быть опубликована ещё несколько десятилетий назад. По признанию автора, в её основу положена кандидатская диссертация, защищённая под руководством выдающегося советского историка О. Н. Знаменского в далёком 1990 г.15 Думается, что Николаев скромничает: базовый текст, подготовленный в конце 1989 г., был им глубоко переосмыслен и переработан с учётом достижений историографии последних десятилетий. Перед нами – целостная история Государственного совещания. Впервые показана история возникновения идеи, излагаются и анализируются различные проекты созыва, детально рассмотрена политическая борьба вокруг совещания, ход его работы. Книга дополнена подробнейшим рассказом о том, чем являлось Московское совещание для его главных видимых бенефициаров – Керенского и Корнилова.
Работа основана на богатом корпусе источников. В их числе неопубликованные архивные материалы, сборники документов, мемуары. Подлинным украшением книги, основой её документальной базы стали материалы 350 подшивок центральных и региональных газет, выходивших в России в 1917 г. Газета, являющаяся своеобразной фотографией момента, содержит огромный пласт актуальной информации, не отражающейся ни в каком другом источнике; как правило, этот материал претендует на объективность – в противном случае газета не найдёт своего читателя. Использование газеты как уникального исторического источника в таком объёме – характерный исследовательский приём Николаева, уже прошедший апробацию при подготовке «Думской революции», и, на мой взгляд, полностью себя оправдавший. Зачастую только на страницах газет можно найти сведения о том или ином событии, увидеть отклик на него авторитетного свидетеля, не оставившего воспоминаний, но рассказавшего о нём в интервью газете. Нередко лишь с помощью газет можно восстановить какие-то факты, увидеть эмоциональную картину, сопровождавшую то или иное явление, услышать живой голос эпохи. Активное использование газетных материалов, несомненно, украсило эту книгу, придало дополнительную достоверность наблюдениям автора.
Важным вкладом в историографию проблемы стал список лиц, принявших участие в работе Государственного совещания. Указаны организации, которые они представляли. В работе основательно исследована предыстория Государственного совещания, проект создания которого – как совещательного органа при Временном правительстве – ещё в апреле 1917 г. предложил Шульгин (с. 33). Эта инициатива не получила поддержки, поскольку не имела влиятельных сторонников ни в обществе, ни во власти. Впоследствии, с созданием коалиционного правительства, идея суррогата парламента, составленного из общественных деятелей разной политической направленности, казалось, была отставлена за ненадобностью.
Созыв совещания, как убедительно показал Николаев, инициировало Временное правительство, посчитавшее необходимым успокоить народ. В конце июля 1917 г. правительство «решило воспользоваться идеей Московского совещания, чтобы перед лицом разных общественных и политических деятелей подробно обрисовать внутреннее состояние страны и объяснить необходимость отсрочки Учредительного собрания» (с. 117). Так созрела идея правительства созвать в Москве совещание, ставшее, по выражению исследователя, «продуктом политических кризисов». Ключевую роль в его работе должны были сыграть различного рода организации, ходатайства которых перед представителями Временного правительства и московскими городскими властями довели число участников совещания с изначально планируемых 700 до 2 тыс. человек (с. 117–119).
Автор правомерно определяет в качестве цели Государственного совещания получение одобрения правительственной программы и укрепление личной власти Керенского. По мнению Николаева, конфликт между Керенским и Корниловым возник сразу после утверждения последнего на должность Верховного главнокомандующего в середине июля 1917 г. Ставший в глазах миллионов олицетворением Февраля и харизматичным «вождём демократии» 16, Керенский усмотрел в чрезвычайно резкой, ультимативной манере Корнилова подрыв авторитета не только кабинета, но и его лично, и посчитал необходимым «поставить Корнилова на место и подчинить его своему влиянию» (с. 121).
Исследователь подробно рассматривает столкновения между Керенским и Корниловым накануне Государственного совещания, упоминая, в частности, упорные слухи об отставке Верховного и об активизации его сторонников. На встрече с Керенским в Петрограде 10 августа 1917 г. Лавр Георгиевич посчитал необходимым припугнуть премьера, сказав ему, что не верит слухам о своей отставке, а если они и оправданы, то не советует приводить это намерение в исполнение (с. 131–132, 141).
Керенский пришёл к выводу, что идти на обострение конфликта перед совещанием в Москве не следует. Корнилов был ему необходим на совещании именно в качестве Верховного главнокомандующего, «с таким выступлением, которое Керенского бы устраивало. То есть показало бы “живым силам”, собравшимся на Государственное совещание, что политика Временного правительства и лично его, Керенского, единственно правильная, что сплочение сил должно происходить только вокруг коалиционного Временного правительства и главы его, олицетворяющего эту коалицию» (с. 146).
Подготовка к созыву Государственного совещания, как показывает автор, проходила непросто. Срыв его работы был возможен вплоть до самого последнего момента – как по вине Корнилова, требовавшего от Временного правительства покорного исполнения его известных требований, так и от кадетов и сил, стоявших правее. Ключевую роль в том, что совещание всё-таки приступило к работе, сыграл Керенский, рядом искусных манёвров сумевший создать впечатление своей готовности пойти на уступки едва ли не всем заинтересованным политическим группам. Состав совещания был сформирован таким образом, чтобы обеспечить в нём преобладание буржуазных групп. Борьба вокруг будущего совещания приводила к дополнительной поляризации политических сил, являясь неумолимой приметой тяжелейшего положения, в котором находилась российская государственность (с. 210–211).
Чрезвычайно подробно в книге освещены все дни работы Государственного совещания. Членам Временного правительства отвели помещения в Кремлёвском дворце, а Большой театр, вокруг которого собралась огромная толпа народа, охранялся тройным кордоном солдат и юнкеров. Любопытен ещё один приводимый автором штрих, примета революционного времени: сцена и вся зала Большого театра были декорированы красной материей (с. 231, 233). В первый день совещания Керенский произнёс претенциозную речь, содержавшую предупреждения и угрозы в адрес прямо им не называемых противников курса Временного правительства. 13 августа запомнилось небывало торжественной встречей Корнилова на Александровском вокзале в Москве. Его приветствовали как будущего всероссийского диктатора и спасителя Отечества (с. 305–308) 17.
Прибытие Корнилова из Ставки на Государственное совещание лишь усугубило его противоречия с Керенским, хотя участие главковерха и оговаривалось заранее. Как отмечает автор, Корнилов отказался выполнить условие Временного правительства и посвятить своё выступление лишь состоянию армии и стратегическому положению. По мнению Николаева, небывало резкий тон Корнилова по отношению к Керенскому свидетельствует о том, что вечером 13 августа главковерх сводил с премьером свои личные счёты. В свою очередь, Александр Фёдорович опасался со стороны Корнилова антиправительственного выступления, в ожидании которого правительство привело войска в полную боевую готовность (с. 309–311).
Выступление Корнилова 14 августа 1917 г. – несомненно, кульминационный момент Государственного совещания. Лавр Георгиевич был посредственным оратором, однако за ним стояла военная сила и репутация решительного человека, что обусловило впечатление от его речи как «громадное и крайне подавляющее» 18. При этом Керенский, сумевший справиться в момент произнесения речи Корнилова с волнением зала, вроде бы остался доволен выступлением генерала (с. 316).
Работа совещания завершилась памятной речью Керенского в ночь с 15 на 16 августа. Автор отмечает, что Александр Фёдорович находился на пределе человеческих сил. Вероятно, именно поэтому выступление премьера запомнилось современникам как сумбурное и бессодержательное, свидетельствующее о его бессилии и своего рода политической импотенции (с. 365–366).
Пожалуй, можно согласиться с тезисом Николаева, что итоги Государственного совещания были крайне противоречивы для всех политических сил, а в «лучшем положении оказались те из них, кто сумел мобилизовать своих сторонников для отстаивания своих интересов уже после Государственного совещания» (с. 380). Временное правительство тоже не могло быть в полной мере довольно итогами совещания, поскольку, хотя ему и удалось сохранить коалицию, но говорить о её укреплении не приходилось. Напротив, совещание «объективно способствовало укреплению революционных настроений в стране» (с. 385).
Книга А. Б. Николаева стала заметной вехой в историографии 1917 года. Это поистине непревзойдённое в фактографическом отношении описание событий, связанных с работой Государственного совещания. Вместе с тем вызывает недоумение то, что автор не сформулировал ответ на важнейший вопрос, казалось бы, логически вытекающий из драматургии изложенных событий: почему спустя всего десять дней после завершения работы Государственного совещания в Москве генерал Корнилов выступил против Временного правительства? Может быть, ход заседаний и, главное, итоги Государственного совещания, показавшего очевидную слабость Временного правительства, как раз подстегнули это выступление? Или (не)удачный исход работы крупнейшего политического форума в Москве и попытка установления военной диктатуры не были связаны друг с другом? К каким выводам относительно перспектив своего ближайшего политического будущего пришёл Керенский, увидев все зримые признаки триумфа Корнилова в дни августовского совещания? Не возникло ли у него пресловутого «головокружения от успехов»?
По мнению автора книги, «добиваться установления диктаторской власти, устранив со своего пути Керенского» Корнилова подтолкнула помпезная встреча в Москве. «В этом направлении им были предприняты определённые шаги» (с. 371). Но какие именно? Наконец, существовали ли между Керенским и Корниловым неформальные политические договорённости, обусловившие памятное выдвижение войск на Петроград по приказу Верховного в середине второй декады августа 1917 г.? И если эти договорённости существовали, то кто – Керенский или Корнилов – нарушил их в те судьбоносные для России дни? Правомерно ли в этой связи напрашивающееся и чрезвычайно популярное в публицистике сравнение выступления Корнилова с акцией ГКЧП, а Керенского – с М. С. Горбачёвым? Несомненно, что А. Б. Николаев ответит на все эти вопросы в своих следующих работах.
1 Николаев А. Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года. В 2 т. СПб., 2017.
2 Егоров А. Н. Рец. на: Николаев А. Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года. В 2 т. СПб., 2017 // Historia Provinciae – журнал региональной истории. Т. 2. 2018. № 2. С. 140–147; Руднева С. Е. Роль IV Государственной думы в Февральской революции в России в 1917 году // Вестник развития науки и образования. 2018. № 10. С. 18–22; Соловьёв К. А. Рец. на: Николаев А.Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года. В 2 т. СПб., 2017 // Российская история. 2018. № 6. С. 195–197; Пученков А. С., Смирнов Н. Н. Думская революция? // Российская история. 2018. № 6. С. 197–199.
3 Николаев А. Б. Государственная Дума в Февральской революции: очерки истории. Рязань, 2002; Николаев А. Б. Революция и власть: IV Государственная дума 27 февраля – 3 марта 1917 г. СПб., 2005.
4 Малышева С. Рец. на: Николаев А. Б. Государственная Дума в Февральской революции: очерки истории. Рязань, 2002 // Ab imperio. 2004. № 4. С. 730–735; Кондаков Ю. Е. Военные аспекты Февральской революции: по страницам монографии А. Б. Николаева «Революция и власть» // Клио. 2008. № 1(40). С. 156–159; Романов К. С. Рецензия на монографию А. Б. Николаева о IV Государственной думе // Новый часовой. 2010. № 19–20. С. 352–357; Hasegawa T. Review of A. B. Nikolaev, Revoliutsiia i vlast’: How Has Nikolaev Changed the Interpretation of the February Revolution? // Journal of Modern Russian History and Historiography. 2013. Vol. 6. P. 1–16; Давыдов А. Ю. Два взгляда на революционное прошлое России: А. Б. Николаев и Ц. Хасегава о смысле февральско-мартовского перелома 1917 г. // Исторические науки и археология. 2016. № 4(52). С. 193–200.
5 Государственное совещание / Под ред. М. Н. Покровского. М.; Л., 1930.
6 Игнатов Е. Государственное совещание в Москве в 1917 году // Пролетарская революция. 1927. № 8–9(67–68). С. 73–129.
7 Шульгин В. В. Три столицы. М., 1991. С. 214.
8 Там же. С. 214.
9 Ленин В. И. Слухи о заговоре // ПСС. Т. 34. М., 1969. С. 74.
10 Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 302.
11 Капустин М. И. Заговор генералов (Из истории корниловщины и её разгрома). М., 1968. С. 169–170.
12 Тропов И. А. Временное правительство: между реформами и революцией (1917 г.). М., 2021. С. 91.
13 Колоницкий Б.И., Годунов К. В. «Корниловщина» как «Гражданская война»: использование понятия в условиях политического кризиса // Вестник Пермского университета. История. 2021. № 3(54). С. 79.
14 Деникин А. И. Очерки русской смуты: в 3 т. Т. 1. Крушение власти и армии (февраль – сентябрь 1917). М., 2003. С. 541.
15 Николаев А. Б. Борьба сил революции и контрреволюции в связи с созывом Государственного совещания (апрель–август 1917 г.). Дис. … канд. ист. наук. Л., 1990.
16 Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март–июнь 1917 года). М., 2017. С. 489. См. рецензию на эту книгу: Ляндрес С. М., Николаев А. Б. О культе Александра Керенского и историографической традиции // Вестник СПбГУ. Сер. История. Т. 65. 2020. Вып. 2. С. 668–678.
17 Подробнее см.: Пученков А. С. Первый год Добровольческой армии: от возникновения «Алексеевской организации» до образования Вооружённых Сил на Юге России (ноябрь 1917 – декабрь 1918 года). СПб., 2021. С. 168–169.
18 Милюков П. Н. Указ. соч. С. 311.
About the authors
Aleksandr Sergeevich Puchenkov
Saint Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
Institute of History
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Николаев А.Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года. В 2 т. СПб., 2017.
- Егоров А.Н. Рецензия на книгу: Николаев А.Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года: в 2 т. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2017 // Historia Provinciae – журнал региональной истории. 2018. Т. 2. № 2. С. 140–147.
- Руднева С.Е. Роль IV Государственной думы в Февральской рево-люции в России в 1917 году // Вестник развития науки и образова-ния. 2018. № 10. С. 18–22.
- Соловьев К.А. Рец. на кн.: Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года. В. 2 т. Т. I. 592 с.; Т. 2. 447 с. СПб.: РГПУ им. А.И. Гер-цена, 2017 // Российская история. 2018. № 6. С. 195–197.
- Пученков А.С., Смирнов Н.Н. Думская революция? // Российская ис-тория. 2018. № 6. С. 197–199.
- Николаев А.Б. Государственная Дума в Февральской революции: очерки истории. Рязань, 2002.
- Николаев А.Б. Революция и власть: IV Государственная дума 27 февраля – 3 марта 1917 г. СПб., 2005.
- Малышева С. Рец. на кн.: Николаев А.Б. Государственная Дума в Февральской революции: очерки истории. Рязань, 2002 // Ab imperio. 2004. № 4. С. 730–735.
- Кондаков Ю.Е. Военные аспекты Февральской революции: по стра-ницам монографии А.Б. Николаева «Революция и власть» // Клио. 2008. №1(40). С. 156–159.
- Романов К.С. Рецензия на монографию А.Б. Николаева о IV Госу-дарственной думе // Новый часовой. 2010. № 19–20. С. 352–357.
- Hasegawa T. Review of A.B. Nikolaev, Revoliutsiia i vlast’: How Has Nikolaev Changed the Interpretation of the February Revolution? // Journal of Modern Russian History and Historiography. 2013. Vol. 6. P. 1–16.
- Давыдов А.Ю. Два взгляда на революционное прошлое России: А.Б. Николаев и Ц. Хасегава о смысле февральско-мартовского пе-релома 1917 г. // Исторические науки и археология. 2016. № 4(52). С. 193–200.
- Государственное совещание / Предисл. Я.А. Яковлева. М.; Л., 1930.
- Игнатов Е. Государственное совещание в Москве в 1917 году // Про-летарская революция. 1927. № 8–9 (67–68). С. 73–129.
- Шульгин В.В. Три столицы. М., 1991.
- Ленин В.И. Слухи о заговоре // Полн. собр. соч. Т. 34.
- Милюков П.Н. История второй русской революции. М., 2001.
- Капустин М.И. Заговор генералов (Из истории корниловщины и её разгрома). М., 1968.
- Тропов И.А. Временное правительство: между реформами и рево-люцией (1917 г.). М., 2021.
- Колоницкий Б.И., Годунов К.В. «Корниловщина» как «Гражданская война»: использование понятия в условиях политического кризиса // Вестник Пермского университета. История. 2021. № 3(54).
- Деникин А.И. Очерки русской смуты: в 3 т. Т. 1. Крушение власти и армии (февраль – сентябрь 1917) / Пред. А.С. Кручинина. М., 2003.
- Николаев А.Б. Борьба сил революции и контрреволюции в связи с созывом Государственного совещания (апрель–август 1917 г.). Дис. … канд. ист. наук. Л., 1990.
- Керенский А.Ф. «Товарищ Керенский»: антимонархическая револю-ция и формирование культа «вождя народа» (март–июнь 1917 года). М., 2017.
- Ляндрес С.М., Николаев А.Б. О культе Александра Керенского и ис-ториографической традиции // Вестник СПбГУ. История. 2020. Т. 65. Вып. 2. С. 668–678.
- Пученков А.С. Первый год Добровольческой армии: от возникнове-ния «Алексеевской организации» до образования Вооружённых Сил на Юге России (ноябрь 1917 – декабрь 1918 года). СПб., 2021.
Supplementary files

Note
* Николаев А. Б. Государственное совещание 1917 года: созыв, состав, деятельность. СПб.: Астерион, 2022. 480 с.