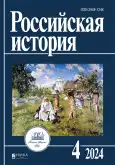Conducting the census of 1701–1703 in monasteries: from revision to management
- Authors: Shamina I.N.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian History of Russian Academy of Sciences
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 32-49
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268623
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040033
- EDN: https://elibrary.ru/FGCIOO
- ID: 268623
Cite item
Full Text
Abstract
The article considers the question of how specifically the work on the state census of church property was organized in 1701-1703. The importance of this study is explained by the fact that the scribes sent by the Monastery Order (primarily the clerks) often remained in charge of the described monasteries after the census was completed. The author shows how the scribes obtained an exhaustive picture of the state of the entire monastic property, as well as accumulated data on the financial and economic documentation maintained in the monasteries, its accuracy and reliability, the people responsible for this or that property, estimated current income from various tangible assets, i.e. got acquainted with the entire system of organization of the monastic economy. This allowed them to manage church property at the next stage of the reform and effectively control the movement of financial flows
Full Text
Церковная реформа Петра I на протяжении многих лет привлекает внимание учёных1. Особенно много обобщающих исследований появилось в начале 2020-х гг.2 Большой интерес вызывает её начальный этап, позволяющий понять замыслы царя-реформатора3. Ключевым событием этого этапа стала перепись 1701–1703 гг., организованная возрождённым в январе 1701 г. Монастырским приказом4. В ходе переписных мероприятий фиксировались владения Церкви – архиерейские дома, монастыри, приходские храмы, а также их вотчины и зависимое население5. Направленные Монастырским приказом в уезды переписчики составляли подробные описи имущества, куда вносили данные об архиерейских и монастырских строениях, церковном убранстве, ризницах, библиотеках, документации, составе насельников и проч6. Их работа была направлена на выявление подлежащих изъятию или дальнейшей эксплуатации в интересах государства материальных ценностей и ресурсов.
В ходе переписи выстраивались отношения между приезжими стольниками и местными духовными властями, на многие годы определившие порядок административного взаимодействия государственных и епархиальных структур. Ведь некоторые из стольников-переписчиков после проведения переписи остались управлять описанными ими (или их коллегами) владениями. Не понимая, как изначально складывались эти отношения, невозможно проанализировать механизмы перехода от описания церковных имуществ к последующему полноценному управлению ими.
Между тем о конкретном порядке проведения переписи известно мало. И. А. Булыгин отметил, что переписчики, приехав в монастыри, использовали имевшиеся там писцовые и переписные книги, а также описи, и сравнивали их данные с наличным имуществом. Кроме того, «им подавались сказки монастырских властей… и сельской выборной администрации… о наличии хлеба, скота, о повинностях и др.»7. Н. В. Соколова, обратившись к материалам переписи нижегородских вотчин Троице-Сергиева монастыря, рассмотрела данный сюжет глубже, отметив, что «основой сведений о текущем состоянии монастырских вотчин, о числе дворов, их населении, крестьянских податях и оброчных статьях являлись сказки монастырских приказчиков, мирских старост и выборных»8. Однако речь в работе Соколовой идёт о вотчинах, а не о самом Троицком монастыре. М. С. Черкасова пришла к выводу, что перепись 1701–1703 гг. осуществлялась стольниками «с привлечением архиерейских слуг и выборных крестьянских представителей на местах, по их “скаскам”»9.
В настоящей статье рассматривается, как конкретно организовывались работы по проведению переписи 1701–1703 гг. непосредственно в монастырях. Задача исследования – проанализировать порядок действий стольников. Я попытаюсь ответить на вопрос, какие из полученных в ходе переписи сведений могли понадобиться им на следующем этапе реформы, когда представители Монастырского приказа приехали в уезды уже не переписчиками, а управленцами.
Важным источником для этой темы являются так называемые грамоты с прочётом, полученные стольниками-переписчиками в Монастырском приказе наряду с другими документами10. В них содержится информация о том, как составителю переписных книг следовало организовать работу на месте. На настоящий момент мне удалось обнаружить три таких грамоты, их содержание полностью идентично. Это грамота от 11 апреля 1701 г., адресованная дворянину А. Б. Палицыну, описывавшему монастырские и церковные владения в Боровском, Козельском, Мещовском, Медынском, Брянском, Рыльском, Путивльском, Болховском, Карачевском, Белёвском, Перемышльском и Лихвинском уездах11, от 12 апреля 1701 г. – стольнику В. И. Кошелеву, описывавшему Вологодский уезд12, и от 29 июня 1701 г. – стольнику С. И. Толстому, отправившемуся в Симбирск, Алатырь, Пензу, Кадом, Керенск, Саранск, на Курмыш и в Темников13. Скорее всего, такие документы получили все переписчики.
Информация о проведении переписи содержится и в некоторых переписных книгах архиерейских домов и монастырей. Основная часть сохранившихся до наших дней материалов находится в фонде 237 (Монастырский приказ) РГАДА. Переписные книги 1701–1703 гг. – это новый тип документации, объединяющий традиционные монастырские описи имущества, переписные книги вотчин и другие документы14. Главное внимание в источнике уделено описанию убранства храмов, ризниц, библиотек, хозяйственных служб и проч., однако в нём содержатся и косвенные сведения о порядке переписи. Среди переписных книг следует выделить описи монастырей Галичского уезда, составленные стольником И. Л. Нелидовым, в частности – одного из крупнейших в регионе Успенского Паисиева монастыря в Галиче15. Здесь Нелидов по неизвестной причине уделил особое внимание описанию процесса своей работы. Эта особенность источника позволяет использовать его в качестве основного.
В то же время упоминания о ходе переписи не были совсем уж редкими. Краткое описание процесса привёл А. Б. Палицын в переписной книге Гремячева монастыря в Лихвине (современный г. Чекалин в Тульской обл.): «Которые книги в монастырех взяты, и по тем книгам осматривано и переписывано. А по осмотру и по переписке что сверх тех книг явилось и чего не явилось, и о том взяты скаски с очиткою за руками. И те скаски писаны в сих же книгах»16. Такие материалы используются как дополнительные для сопоставления при рассмотрении тех или иных сюжетов.
Первые переписчики отправились из Москвы в уезды уже в апреле 1701 г.17 Информации о том, где конкретно они останавливались, приехав на место, мало. Некоторые сведения об этом содержатся в указе Петра I от 29 января 1701 г. тобольским воеводам М.Я. и П. М. Черкасским об отправке для переписи Тобольского архиерейского дома дворянина А. И. Городецкого: «И вы бы, ближние наши боярин и воеводы князь Михайло Яковлевич да стольник князь Петр Михайлович, и дьяки, велели ему, Андрею, где ему жить отвесть в Тоболску двор, где по вашему, ближних наших боярина и воевод, разсмотрению будет пристойно»18. Н. П. Успенский привёл данные о том, что приехавший для переписи в Кирилло-Белозерский монастырь стольник Л. Н. Кологривов поселился «на съезжем дворе монастырских дел в приказной избе». В неё из монастырской казны выделили «рукомойник, лахань, кунган медные»19. По наблюдениям М. С. Черкасовой, съезжий двор монастырских дел в 1701 г. функционировал и в Устюге, когда туда прибыли стольник А. М. Вешняков и подьячий Г. Лушнев20. Вероятнее всего, именно в тех местах, где останавливались переписчики, в дальнейшем располагались канцелярии посланных Монастырским приказом для управления стольников.
Для составления переписных книг монастырские власти должны были предоставить стольникам подьячих и служек, а также «чернила, и бумагу, и свечи салные из монастырской казны», лошадей, чтобы проехать «от монастыря до монастыря и от села до села»21. В частности, стольник И. М. Кологривов, описывавший монастыри в Суздальском уезде, взял себе в помощь четырёх слуг суздальского Покровского девичьего монастыря22. В тесной связи с переписчиками работали монастырские подьячие и присланные из архиерейских домов служащие. Вместе со стольником В. И. Кошелевым участвовали в переписных мероприятиях в Вологодском уезде приказной служащий Вологодского архиерейского дома В. Борисов и дьяки П. Ташлыков и И. Шестаков23. Об их участии в работе свидетельствуют, например, записи в хозяйственных документах Вологодского архиерейского дома: «Майя в 17 день столник Василей Кошелев поехал для переписи на Лежской волок. Дано, которые с ним были домовые люди, масла дватцать два фунта»; «Столник Василей Кошелев поехал по монастырем для переписи. Дано домовым людям, которые с ним поехали, мяса полоть весом дватцать восмь фунтов»24.
Известны, однако, и случаи, когда стольники везли подьячих с собой из Москвы, поскольку далеко не во всех монастырях удавалось найти грамотного человека для фиксации результатов переписи. Иногда привлекали служащих других расположенных неподалёку обителей. В переписных книгах Воскресенского монастыря в Соли Галицкой и Спасского монастыря на р. Воче фигурирует подьячий галичского Паисиева монастыря Филка Посников25, а в переписной книге Успенской Жуковой пустыни того же уезда – казённый подьячий Предтеченского Иаково-Железноборовского монастыря Григорий Дмитриев Попов26.
Стольнику и сопровождавшим его лицам полагался «подённый корм»: «Перепищику давать в монастырех из монастырской казны, а в вотчинах велели давать прикащиком и старостам поденной корм – денег по десяти алтын на день. Да на одну лошадь конского корму. А монастырским подьячим, которые будут у переписки с ним, перепищиком, в ыных монастырех давали кормовых денег всем вопче на день десять денег»27. Суммы «подённого корма», получаемого стольниками, как следует из содержания грамот, во всех регионах страны были одинаковыми. Это подтверждает, в частности, и сметный список с приходо-расходных книг вологодского Дионисиева Глушицкого монастыря 1701–1707 гг., где зафиксирована сумма, потраченная монастырскими властями на обеспечение стольника Кошелева и его помощников: «Перепищику столнику Василью Ивановичю Кошелеву от переписки монастыря кормовых денег дано на шестеры сутки шездесят алтын. Подьячим иво десять алтын. Бумаги на восмь алтын на 2 денги. Свеч салных на гривну»28. Такую же сумму – 10 алтын в день – по распоряжению архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила (Кичигина) следовало платить и стольнику Василию Меньшому Богданову сыну Плохову, в сентябре 1702 г. сменившему Кошелева29. И. П. Назарьев за шесть дней работы по описанию Воскресенского собора в Вятке получил у его священника «поденного корму на день по десяти алтын»30. Таким образом, уже на этапе переписи определялись нормы содержания будущих управленцев.
Ответить на вопрос о том, сколько времени требовалось переписчику для составления описи одного монастыря, можно лишь приблизительно – переписные книги не дают об этом точных сведений. Исключение, пожалуй, составляет переписная книга Троицкого Калязина монастыря в Кашинском уезде, где вместе с суммой выданных денег приведены точные сроки работы здесь стольника Я. П. Никифорова: «Да стольнику Якову Протасьевичу Никифорову поденного корму июля з 27 числа по 28 число сентября нынешняго 1701-го году по десяти алтын на день. Итого осмьнадцать рублев тритцать алтын. Да подьячему з 27 числа июля по 26 де сентября по десяти денег на день, итого три рубли десять денег»31. Как видим, на составление описи имущества крупного Калязина монастыря переписчику и подьячему потребовалось 62 дня. Причём его многочисленные вотчины в Жабынском, Нерехотском, Мерецком, Кочемском, Чудском и Пудицком станах Кашинского уезда с августа 1701 г. по апрель 1702 г. описывали сразу два переписчика – Я. П. Никифоров и М. Ф. Деревнин32.
Для работы по составлению переписных книг стольникам, судя по всему, выделяли отдельное помещение. Например, в Кирилло-Белозерском монастыре это была «описная келья»33. В отдельных монастырях и архиерейских домах после начала работы переписчиков усиливалась охрана. В череповецком Воскресенском монастыре на время проведения переписи Л. Н. Кологривовым поставили у ворот сторожей: «Подьячие Кирилл Коменский да Иван Гагарин тот Воскресенский монастырь переписывают и сторожей к воротам приставили»34. Возможно, это делалось для того, чтобы монахи не могли вынести и укрыть от переписчика какие-то ценности.
От представителей монастырской администрации стольник прежде всего требовал «переписные книги церковной утвари и всякой монастырской казны, такж окладные, и приходные, и росходные монастырские книги з 203-го году»35, т. е. изымалась основная монастырская документация за последние шесть-семь лет. Информация о полученных от настоятеля и казначея документах непременно помещалась во вновь составляемые книги. В одних монастырях весь набор требуемой документации имелся в полном объёме. В других – не хватало отдельных материалов, как, например, в Благовещенском Ширинском монастыре Кашинского уезда: «Того монастыря взяв у игумена Иякова да у казначея иеромонаха Иосифа з братьею окладные нынешняго 1701-го году да переписные 205, 206, 208 и нынешняго же 1701-го году да приходные и росходные книги 203, 204, 205, 207, 208 и нынешняго 1701-го году и 206-го году приходные за руками. А росходных книг 206-го не взято. А 1700-го году приходные и росходные книги бывшего игумена Иосифа взяты не за рукою и черны»36. В некоторых монастырях, как правило небольших, документов не смогли предоставить вовсе. Одним из них оказался женский Брусенский монастырь в Коломне, где на требование стольника И. В. Кикина игуменья заявила: «А окладных, и переписных, и приходных, и росходных церковных и монастырских казенных, и никаких книг нет»37.
Какие именно «прежние» переписные книги интересовали переписчиков в первую очередь, в источниках не указано. Предположу, что те, которые составлялись при вступлении в должность действующего на момент переписи 1701–1703 гг. настоятеля, поскольку именно он являлся главным материально ответственным лицом. Во всяком случае, именно на это обратил внимание архимандрит Данилова монастыря в Переславле-Залесском Варфоломей: «В том Данилове монастыре прежних описных книг не положили, а у переписки того Данилова монастыря архимандрит Варфоломей сказал, что де тот Данилов монастырь на ево архимандричье имя не описыван»38.
При отсутствии переписных книг действующего настоятеля, судя по всему, следовало использовать те, что составлены при его предшественнике. Об этом может свидетельствовать «скаска» архимандрита Мещовского Георгиевского монастыря Афанасия: «З 203-го году монастырю, и церквам Божиим, и ризнице описных книг нет. А он, архимандрит Афонасей, в том монастыре во архимандритах с прошлого с 207-го году. И по указу Преосвященного Тихана, митрополита Сарского и Подонского, и по грамоте ис Козенного приказу за приписью дьяка Ивана Зиновьева тот Георгиевской монастырь на него, архимандрита Афанасия, описывал Юхнова монастыря строитель иеродиакон Трифилий и те описныя книги послав к Москве, на Крутицы, в Козенной приказ. А преж сего был в том монастыре архимандрит Серафим, и тот архимандрит в том монастыре умре. А были у него описные книги или нет, того он, архимандрит Афанасей, не ведает»39.
В ряде переписных книг о приведённых ранее описаниях имеются дополнительные сведения, в частности, о времени их составления. Из переписной книги Благовещенского Ширинского монастыря известно, что предыдущая монастырская опись состоялась недавно, «как де описывали монастырь в нынешнем 1701-м году на нынешнего игумена Иякова»40. Содержание источника позволяет уточнить время составления этой описи. Известно, что ещё как минимум 20 января 1701 г. настоятелем в Ширинском монастыре был Иосиф, в тот день выдавший вкладную грамоту келейнику Якушке Григорьеву41. Следовательно, опись составлялась уже после этой даты. В переписной книге галичского Паисиева монастыря не только указана дата, но и названо имя составителя предшествующего описания 1695/96 г. – священника галичского Спасского собора Иоанна42. Известно также, что по причине болезни он не смог завершить начатое дело.
Часто в предыдущих описях имелись неточности и даже существенные ошибки, что вызывало вопросы у переписчиков 1701–1703 гг. Возможную причину появления ошибок в описи Троицкого Калязина монастыря 1695/96 г. монастырские власти объяснили тем, что составляли её одновременно несколько человек: «И тогда де писали книги с старых переписных книг новые описные книги, и писали де подьячие руки в пятеры и в шестеры, и написали де всякую церковную утварь… вдвое»43.
Первый этап работы переписчика в монастырях сводился к сопоставлению данных предыдущей описи с тем, что имелось на текущий момент. Об этом есть указания в преамбулах к переписным книгам: «Стольник Яков Протасьев сын Никифоров, приехав в Кашинской уезд в Нерехоцкой стан Николая Чюдотворца в Клабуков монастырь, и того монастыря взяв у игумена з братиею вотчинам окладные, а церковной утвари и монастырской всякой казне и заводом переписные 206 и 1700-го годов, а приходные и росходные книги з 203-го году и по тем книгам в том монастыре… сколько чего… налицо явилось пересмотрел и переписал все»44. Стольник Никифоров многократно обращался к предыдущей описи и в ходе работы в Благовещенском Ширинском монастыре: «Да в той же казенке (казённой палате. – И.Ш.) сундук порозжей обит железом. А в прежних описных книгах нынешняго 1701-го году во второй тетрати в последней строке на обороте листа написано: “сундук обит железом”. А что в нем, ли он порозжей, того имянно не написано»45.
Перепись имущества в монастырях начиналась обычно с соборной церкви. В галичском Паисиеве монастыре стольник Нелидов приступил к работе с описания Успенского собора и колокольни при нём, затем последовательно переписал убранство тёплой Троицкой церкви и надвратной Трёхсвятительской. Под нижним сходом последней располагалась ризница («ризничья полатка»), где обязательному учёту подлежали книги и священнические облачения. Далее стольник переместился в монастырскую казённую палату («казну»), где хранились посуда, различный сельскохозяйственный инвентарь, конская сбруя и проч.; затем – в подкеларскую службу, поварню, хлебенную службу, настоятельские и монашеские кельи, другие хозяйственные помещения. После этого он вернулся к описанию монастырской казённой палаты, где зафиксировал имевшиеся в обители документы. В этом состояло отличие от обычной практики. Как правило, переписчики описывали грамоты сразу, вместе с описанием прочего имущества «казны», однако Нелидов предпочёл сделать это отдельно.
В ходе описания казённой палаты особое внимание уделялось хранившимся в ней деньгам и драгоценностям: их следовало не только пересчитать, но и «запечатать» для последующего изъятия. Упоминания об опечатывании денег есть практически во всех переписных книгах, однако нигде не сказано, как именно происходил этот процесс. В данной связи весьма интересна царская грамота архимандриту Успенского Тихвинского монастыря Боголепу 1702 г. Как следует из источника, сундук с обнаруженными в Успенском монастыре деньгами в присутствии монахов опечатал сам проводивший здесь перепись стольник М. И. Вадбольский. Все деньги, найденные им, в присутствии архимандрита и монахов он «досматривал» и «тот сундук з денгами запечатал же и велел беречь до нашего, великого государя, указу и ни на какие росходы держать не велел». В феврале 1702 г. в монастырь за деньгами приехал подьячий Монастырского приказа. По его приезде следовало проверить (осмотреть) печать стольника на сундуке и приложить на него «монастырскую казенную печать», после чего выслать деньги в Москву в сопровождении казначея, подьячего Монастырского приказа и «провожатых» на монастырских подводах46.
Опись монастырского имущества завершалась характеристикой оград, конюшенных и скотных дворов, других хозяйственных построек, а также садов и огородов. Представляется, что переписчики осматривали указанные объекты лично, поскольку в переписных книгах есть данные не только о внешнем виде строений, но и присутствует оценка их физического состояния: «около пустыни городьба замет в столбы, ветха», «около монастыря ограда каменная… три башни… ограда и башни крыты тесом, кровля новая», «каменная ограда не покрыта, а деревянная ограда и башни крыты тесом и во многих местах обвалилась»47.
Большое внимание в ходе переписи уделялось монашествующим и другим монастырским насельникам – слугам, служебникам, вкладчикам, бобылям. Я уже обращала внимание на то, что перепись монастырских насельников в переписных книгах отличалась разной степенью полноты: от развёрнутой информации о каждом из монахов, включающей сведения о его мирской жизни и времени пострига в переписных книгах монастырей Вологодской и Коломенской епархий стольников В. И. Кошелева и И. В. Кикина, до простого перечисления имён в большинстве других описей48. Очевидно, порядок работы над списками насельников зависел от цели, поставленной перед переписчиком. Кикин явно опрашивал монахов лично (по крайней мере, в большинстве случаев). Об этом свидетельствуют записи: «Козначей монах Иосиф, сказался в мире де ево звали Иваном», «иеромонах Афонасей, сказался в мире ево звали Архиппом», «в ыгуменской келье Евстрат Меркулов сын Мокшин… сказал себе от роду шестьдесят семь лет»49. В то же время в переписной книге Коломенского архиерейского дома некоторые служители переписаны без слова «сказал». Это, скорее всего, означает, что лично переписчику они не представлялись. В основном это были люди, бóльшую часть времени жившие за пределами архиерейского дома – «домовых сел дворники», повар приписной Саввиной (Березиной) пустыни, строитель приписной Соколовой пустыни50. Можно предположить, что стольнику дали полный список архиерейских служащих, на основании чего он и сделал записи в переписной книге. Возможно, подобные списки использовались и в других монастырях, где в переписные книги включены только имена насельников.
В Вологодском архиерейском доме об отсутствующих насельниках переписчику сообщили казначей и другие служащие: «У переписки сказали казначей и приказные люди: стряпчей де у них в Софейском дому Иван Кондратьев сын Сечихин ходил за делы на Москве, а что ему годового денежного и хлебного жалованья, и где ево родина, и ис какова чину, и о том допросить неково для того, что живет он на Москве»51.
Полнота описания жителей монастыря и его владений была разной: в переписной книге галичского Паисиева монастыря монахи расписаны лишь по именам, тогда как о монастырских слугах, служебниках и других работниках приведена более подробная информация. Отмечено их происхождение, указаны состав семей, размер денежного жалованья и количество предоставленной в пользование земли: «Слуга Антон Федоров сын Коренев. Денежнаго ему жалованья денег по два рубли по шеснатцати алтын по четыре денги на год. Да земли у него из монастырских дач того ж селца Успенского полоса в поле, в дву потому ж. А на ту ево землю выходит ржи пятнатцать четвериков в поле, в дву потому ж. Да сенных покосов на вкладной пожне Наумовке, что под завалом, сена пять копен. Пожалован в слуги ис конюхов, а родился в том же сельце Успенском»52.
По завершении работы над списками монастырских насельников стольники-переписчики озвучивали текст, составленный на основе царских указов, регулировавших изменения в монастырском быте53. Последний раздел присутствует далеко не во всех переписных книгах, его содержание также имеет вариации. Но не приходится сомневаться, что все переписчики передали монахам распоряжения правительства. Вероятно, некоторые из них просто не посчитали нужным вносить эту информацию в переписные книги, либо ограничились пометками, типа: «Игумену Иякову з братьею указ великого государя по наказу и статьи, каковы в наказе написаны, чтены з запискою. И к той записке он, игумен з братьею, руки приложили, что он тот великого государя указ и статьи, каковы в наказе написаны, слышали»54. Возможно, живущих в монастыре людей специально собирали для этого вместе. Отдание распоряжений о распорядке монастырской жизни сложно рассматривать иначе, как управление обителями.
Разумеется, сведения предыдущих описаний часто не соответствовали тому, что стольник обнаруживал в монастырях в реальности. Чтобы установить изменения в составе монастырского имущества и выявить размер денежного оборота в обители, привлекались приходо-расходные книги. Последние вместе с материалами переписи, как следует из наказа переписчику, следовало отправить в Москву: «А переписав вышеписанное все окладное, и переписные, и приходные, и росходные книги… прислать к великому государю к Москве со архиерейскими и монастырскими слушками, с нарочными посыльщики, безо всякого мотчанья»55. Помимо приходо-расходных монастырских книг правительство требовало изъять документы, касавшиеся вотчинного хозяйства.
Многие из выявленных мною переписных книг монастырей и архиерейских домов содержат и хозяйственную документацию, очевидно, изъятую в ходе переписи. Большая подборка «казённых» книг за 1690-е – начало 1700-х гг., переданных в Монастырский приказ, дошла до нас вместе с переписной книгой Успенского монастыря Флорищевой пустыни Гороховецкого уезда, составленной стольником П. А. Волынским56. Комплекс сохранившихся хозяйственных документов Флорищевой пустыни включает в себя не менее 30 приходных и расходных книг 1695–1702 гг., касающихся различных монастырских служб. В их числе книги «церковным, молебенным, и свечным, и синодичным денгам»; «монастырским казенным деньгам, что куды дано и что где куплено на братию и трудников какие одежды и в даче работным людем»; книги приходные «что принято по жалованным… грамотам… на оброчные денги в Луху на посаде с мелницы да на рыбные ловли по Суре и по Пьяне рекам с ысточки, да на две варницы соляной топки на Балахне, да на реку ж Пьяну на Можаровскую мельницу».
Отсылал приходо-расходную документацию в Монастырский приказ и архиепископ Вологодский и Белозерский Гавриил (Кичигин), о чём в сентябре 1702 г. он составил челобитную Петру I и грамоту стряпчему Вологодского архиерейского дома Ивану Сечихину57. В Монастырский приказ попала приходо-расходная книга вологодского Павлова Обнорского монастыря 1694 г.58 и многие другие подобные документы. К переписной книге дмитровского Борисоглебского монастыря оказалась подшита приходо-расходная книга 1703–1704 гг., составленная уже после проведения здесь ревизии59. Приходо-расходная книга 1697/98 г. сопровождает опись Троицкого Селижарова монастыря в Ржевском уезде60. Судя по всему, изъятие в Монастырский приказ монастырских хозяйственных книг было массовым.
Изымались и другие учётные материалы. Например, в Ростовском митрополичьем доме помимо приходо-расходных, ужинно-умолотных, книг житенных старцев и мирских старост по многочисленным митрополичьим вотчинам 61 изъяли документы, касающиеся работы организованного архиерейским домом кумпанства. Среди дошедших до наших дней – приходные книги «к галерному строению», книги учёта расходов на строительство судов, жалованье иностранным специалистам, обеспечение работы кумпанства Ростовского митрополита в Воронеже за 1697–1700 гг. и проч. 62После изъятия важнейших хозяйственных документов монастыри теряли возможность вести экономическую деятельность без взаимодействия с Монастырским приказом.
Как уже было упомянуто выше, иногда монастырские власти не могли предоставить переписчикам никаких документов. Остановлюсь подробнее на причинах недостатка документации. Их выявлено две, и первая из них – пожары. В Троицком Дорогощанском монастыре Мещовского уезда казначей Варсонофий на запрос переписчика сообщил, что «в нынешнем 1702-м году марта против первого числа в нощи козенная келья згорела, и описныя, и приходныя, и росходныя книги з 203-го году в той кельи згорели же»63. Подобная ситуация сложилась и в вологодском Спасо-Нуромском монастыре, где переписные книги и многие другие монастырские документы уничтожил пожар 1699/1700 г.64
Чаще же всего документы до переписи просто не вели. В небольшой Крестогорской пустыни Устюжского уезда никаких приходо-расходных книг стольнику А. М. Вешнякову монахи представить не смогли, поскольку «та их пустыня… построена на диких лесах от жилья верст по сту и по двести, и писать за таким далним растоянием в той их пустыне приходу и росходу некому». Информацию о доходах и расходах пустыни, помещённую стольником на страницах переписной книги, келарь Игнатий представил в «скаске»65. Составление таких сказок фактически становилось отправной точкой для последующего ведения финансовой документации.
«Скаски» настоятелей монастырей и представителей монастырской администрации при составлении материалов переписи 1701–1703 гг. имели большое значение, поэтому на них стоит остановиться подробнее. Об этом виде документации есть информация или упоминания в большинстве переписных книг. О том, что «скаски» являются одним из основных источников сведений, говорится, в частности, в преамбуле описи Николаевского Венёва монастыря в Тульском уезде: «И того монастыря у архимандрита Никодима да у казначея иеромонаха Варсонофия взяв скаску за руками, и в том монастыре Божия церкви, и в них святыя иконы, и у них привесы, и всякую церковную утварь, и монастырскую казну, и жалованные грамоты, и крепости, и всякую посуду, и братию, и монастырское строение, и всякие заводы, и в житницах хлеб, и на конюшенном и скотских дворех лошади и иной скот, и в вотчинах слуг, и служебников, и крестьян, и бобылей – все пересмотря налице переписал»66.
Очевидно, существовали какие-то распоряжения, призывавшие при составлении переписных книг использовать «скаски» представителей монастырской администрации. Во всяком случае, стольник И. Л. Нелидов, описывавший Галичский уезд, неоднократно это подчёркивал: «1701-го году маия в де[нь] по указу великаго государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, в Паисеине монастыре пред стольником и перепищиком перед Иваном Леонтиевичем Нелидовым Паисеина монастыря ризничей иеромонах Макарий сказал»67.
Из приведённой записи следует, что стольник по очереди вызывал к себе старцев, если обнаруживал несоответствие в составе имущества с предыдущими переписными книгами в подведомственных им помещениях. В своих «скасках», поданных, судя по всему, в письменном виде, а возможно, также и озвученных, старцы объясняли стольникам, откуда взялись те или иные предметы или куда пропали зафиксированные ранее, но в настоящий момент отсутствующие в монастыре: «что явилось вновь, а чего не явилось налицо у переписки». При этом представители монастырской администрации клялись, что говорят правду, поскольку за подачу ложных сказок полагался штраф: «Кроме того, что ныне у переписки явилось, ничего в утайке нет. А буде что он сказал ложно или что утаил… указал бы великий государь взять на нем пеню»; «А будет мы, что скаски сказали ложно, и за ту б ложною нашу скаску указал бы великий государь взять на нас пеню. А пени – что великий государь укажет»68.
В переписной книге галичского Паисиева монастыря сказки помещены непосредственно в её текст, после разделов с описаниями соответствующих служб. Это подтверждает предположение, что они составлялись в письменном виде. Записывали их монастырские служители. В Паисиеве монастыре это был «казенной службы дьячок Филка Посников». Рассмотрим, кто подавал стольнику «скаски» в Паисиевом монастыре и каково было их содержание.
Об имуществе монастырских церквей – соборной Успенской, Троицкой и надвратной во имя Трёх святителей Петра, Алексия и Ионы, – а также о монастырской ризнице составил «скаски» ризничий иеромонах Макарий. «Скаски» ризничего, пожалуй, наиболее информативны. В них перечислены предметы церковного убранства: иконы, украшения к ним, богослужебные книги и проч. О каждом вновь обнаруженном предмете приводится информация о его происхождении. Часто вещи поступали в церковь вкладами, имена вкладчиков также указаны: «И тот убрус и ожерелейце, и на убрусе три камени дал вкладу Паисиина монастыря белой поп Мина Иванов», «ладаницу медную полуженую дал вкладу Паисеина монастыря Овиновской слоботки бобыль Дмитрюшка Иванов», «и то сукно дал вкладу галичанин посацкой человек Акинфей Васильев»69. Вещи приобретались и самим монастырём. Как следует из «скаски», два аналоя и четыре подсвечника были куплены «на зборные денги збору с прихоцких людей Паисеина монастыря и с вотчинниковых и помещиковых крестьян»70.
Если стольник той или иной вещи не обнаруживал, ризничий указывал, куда она делась: «А в церкве Успения ж Богородицы на левой стране посторонь царских дверей у штилистоваго Богородична образа в привесе были четыре прониски сребреные вызолочены. И те прониски издержаны в новопостроеное Евангелие, что писано в сей скаске выше сего. А в олтаре на престоле с печатнаго Евангелиа старой бархат продан, а на те денги куплено ладану»71. Интересное объяснение пропаже пелен нашли в Благовещенском Ширинском монастыре: «А по скаске того монастыря игумена Иякова да казначея Иосифа, тех пелен в монастыре не бывало, а в тех де прежних книгах те пелены написаны в лишке. И то де знатно описано не знаючи»72.
Значение сказок ризничего Паисиева монастыря сложно переоценить. В них содержится уникальная для материалов переписи 1701–1703 гг. информация, прежде всего о составе вкладчиков, давших имущество в монастырь после предыдущего описания. Очень многие вещи, как выясняется из сказок, прежние переписчики просто «написать пропамятовали». Наконец, интересны сюжеты, связанные с утилизацией тех или иных предметов, позволяющие добавить некоторые штрихи к истории монастырской повседневности. Ветхие, непригодные к использованию ризы в монастырях не выбрасывали: их клали в гроб с умершими священниками или перешивали. Старое церковное облачение передавали в более бедные монастыри и церкви или в пострадавшие от пожаров храмы: «И та епатрахель за ветхостию отдана на погорелое место к прихоцкой церкви в Галицкой уезд к Егорью Верхнему»73.
Содержательны «скаски» монастырского казначея Феодосия, которых в переписной книге приведено шесть: «что в монастырской казне сверх прежних описных книг в лишке явилось»; «что явилось вновь у переписки сверх прежних описных книг в поварне»; «на погребе пива в дву боченках дватцать ведр»; «что в лишке явилось меж старыми погребами сушило о два жилья»; «что сверх прежних описных книг у переписки явилось вновь» и «что в монастырской казне сверх прежних описных книг у переписки явилось в монастырских крепостях». Как видно, они касались хозяйственных служб, а также монастырских документов.
Остановимся на последней «скаске» подробнее. Она содержит перечень из 19 наименований, преимущественно это «зделошные» и кортомные записи и памяти. Их, по словам казначея, «в прежние описные не написал галицкой спасской протопоп за болезнию, для того, что в то число волею Божиею заскорбел»74. Список дополняют пять документов, что «прибыли после описных книг при архимандрите Филарете». При этом 17 грамот стольник Нелидов недосчитался, на что казначей ему ответил: «Те грамоты присланы были об отставных стрельцах, которые были в том Паисеине монастыре на корму, и те отставные стрельцы, не хотя у нас в монастыре жить, и пошли к Москве, и те грамоты отданы им, отставным стрельцом»75. Данная сказка позволяет проследить движение монастырских документов и оценить полноту описаний монастырских архивов разными переписчиками. «Скаска» настоятеля Паисиева монастыря архимандрита Филарета касалась финансовой деятельности обители. В ней перечислены суммы, которые остались должны монастырю крестьяне и другие заёмщики. Пономарь старец Феодосий сообщил об одном из шести колоколов, не обнаруженном стольником на колокольне: тот был «по указу великаго государя отвезен к Москве на Пушечной двор»76. Подкеларник старец Сергий разъяснил, что «в лишке явилось» в подкеларской службе, сушиленный старец рассказал о содержимом «двух сушил», а житенной – сколько высеяно хлеба.
С каждой из представленных сказок стольник Нелидов не только ознакомился, поместив их содержимое в переписную книгу, но и пересказал её от своего лица, почти полностью копируя содержание, исключив лишь преамбулу и сведения о составившем её дьячке. Таким образом, в тексте переписной книги Паисиева монастыря сохранились не только сами сказки представителей монастырской администрации, но и их пересказ от лица составителя документа.
По другим монастырям известны случаи, когда на все монастырские службы подавалась только одна «скаска». Такую «скаску», например, подали игуменья и казначея московского Ивановского монастыря. Речь в ней шла об иконах и церковной утвари, а также о деньгах, документах, денежной и хлебной руге, монастырской пашне, количестве крестьянских дворов в вотчине77. Представляет интерес сказка, поданная игуменом вологодского Иннокентиева Комельского монастыря Акиллой и другими монахами. В ней говорится о доходах, получаемых монастырём от сдачи в аренду угодий, торговых лавок и проч., а также о крупных долгах монастырских крестьян, в том числе иностранным купцам: «А на монастырских их вотчинных крестьянех долг есть: в прошлых де годех они, старосты и крестьяне, в скудные годы заимовали на платеж стрелецкого хлеба у иноземца Ивана Гутмана сто пятьдесят рублев, а давали ему с вершку по сту по пятидесят четвертей овса на год. Они же на него многие работы работали, и тому долгу на расплату заняли они дому архиерейского у приказного Василья Борисова сто пятьдесят рублев, а писана та кабала в трехстах рублев, а с вершку ничего не платят. И у того иноземца тое кабалу теми денгами тое кабалу б выкупили»78.
По причине того, что в переписной книге Паисиева монастыря помещён лишь краткий перечень монашествующих, очевидно, необходимости в получении «скаски», касающейся состава братии, не возникло. В тех же монастырях, чьи переписные книги содержат не только списки монахов, но и сведения о них, такие сказки подавались. Например, казначей тульского Иоанно-Предтеченского монастыря пояснил, сколько монахи получали ежегодного жалованья, сославшись на приходо-расходные монастырские книги. Он также объяснил отсутствие в монастыре на момент переписи одного из пострижеников: «Да по ево же козначеевой скаске того же де Предтечева монастыря иеромонах Аврамий послан из монастыря для нужды в Старицкой уезд в Заринскую пустыню»79. Интересно, что подобную «скаску» об отсутствии монаха подали и в вологодском Спасо-Нуромском монастыре стольнику В. И. Кошелеву, однако составлял её не казначей, а игумен: «Да по скаске игумена Патрикея того ж монастыря монах Григорей… ныне де отпущен он из Нуромского монастыря на время молиться в Кириллов монастырь Белозерской»80. В кашинском Николаевском Клобукове монастыре «скаску», объясняющую причину пребывания внутри монастырских стен светского лица – посадского человека из Кашина, – также подал настоятель, игумен Пафнутий81. В Николаевском Венёве монастыре Тульского уезда «скаску» о монахах, находящихся «в отлучке», представили архимандрит и казначей82. Очевидно, подобная информация могла находиться в компетенции как настоятеля монастыря, так и казначея.
Данные о доходах обители и её денежном обороте, вероятно, относились к числу вопросов, интересовавших переписчиков в наибольшей степени, поскольку упоминания о подобных «скасках» встречаются в переписных книгах особенно часто. Настоятельница и казначея казанского Успенского девичья монастыря сообщили о мельнице и сенных покосах, с которых они получали доход, добавив, что в первую очередь «питаютца они, игумения и монахини, великого государя жалованьем»83. Игуменья и казначея кашинского Сретенского девичья монастыря в своей «скаске» рассказали об отсутствии у монастыря долгов84. Интересно, что именно с настоятеля и казначея переписчик требовал «скаску» об инвентаре для изготовления вина. Игумен кашинского Николаевского Клобукова монастыря, казначей и, как ни странно, белый диакон на подобный вопрос сообщили, что «кубы с трубами да котел ведра в четыре, да рукомойник в нынешнем 1701-м году отданы на Москве в добавку х колоколам»85.
«Скаски» переписчикам могли подавать и другие лица, в частности священники, как, например, при переписи кашинского Сретенского девичья монастыря, когда речь зашла об их дворах в подмонастырной слободке86. Привлекались для этого и монастырские слуги87. В переписной книге козельской Макарьевской пустыни на р. Жиздре зафиксирована сказка соборных сторожей, «что нанимают де оне из оброку Оптина монастыря у строителя Герасима з братьею в городе Козельску пустыя места»88. Конкретные лица, составившие ту или иную сказку, могли и не называться. Например, в Спасо-Каменном монастыре, что на острове в озере Кубенском, на вопрос об отсутствии ворот ответили «жители монастыря»: «Быть де воротам невозможно, по вся годы весною ломает лдом, для того и не строят»89.
Хотя далеко не во всех переписных книгах содержится какая-либо информация о проведении переписных мероприятий в конкретном монастыре, можно предполагать, что эта работа велась по примерно одинаковой схеме.
Переписчики не всегда успевали завершить работу. Монастырский приказ мог заменить одного стольника другим. Так, в сентябре 1702 г. на смену В. И. Кошелеву в Вологодский уезд для переписи направили В. Б. Плохова90. Вместо стольника В. Д. Воробина переписывать владения Церкви в Костромском уезде в 1702 г. поехал стряпчий С. Н. Мельницкий91. Одной из причин отстранения переписчиков от работы было получение ими взяток. Известны по меньшей мере три таких случая. Оказался нечист на руку, например, стольник С. И. Толстой. В декабре 1702 г. он находился в розыске: «И велено про него розыскать в Казане стольнику и воеводе Никите Алферьевичю Кудрявцову против отписки казанского архиерея в обидах и налогах приписнаго ево Кашпирского Вознесенского монастыря». Отстранили от дел «по изветным челобитными и писмам во взятках» переписчика вятских монастырей И. П. Назарьева. Спустя три месяца после назначения уличили во взятке и стольника Плохова92, не успевшего завершить перепись вологодских монастырей и церквей.
Таким образом, работа стольников по переписи монастырского имущества в 1701–1703 гг. включала несколько этапов. Прежде всего они сопоставляли данные предыдущих описаний с тем, что обнаруживали на текущий момент. Эти данные, как правило, не совпадали, поскольку переписи разделяло несколько лет. Чтобы установить изменения в составе монастырского имущества, привлекалась различная хозяйственная документация, в первую очередь приходо-расходные книги. Дополнительную информацию стольники получали в ходе опроса представителей монастырской администрации – настоятелей, казначеев, ризничих, конюшенных и других старцев, подававших специальные сказки. Фиксировались хранящиеся в обителях юридически значимые документы, опечатывались наличные деньги.
Стольники получали исчерпывающую картину состояния всего монастырского имущества, а также перечни монастырских насельников и работающих на них людей. Они аккумулировали данные о ведущейся в обители финансово-экономической документации, её точности и достоверности, людях, отвечающих за то или иное имущество. Оценивались текущие доходы от различных материальных активов, сведения о долгах. Фактически стольники знакомились со всей системой организации работы монастырского хозяйства. Они также получали информацию о вкладчиках – покровителях того или иного монастыря, среди которых могли быть знатные и влиятельные люди. Все эти данные позволяли им или их преемникам на следующем этапе реформы перейти к управлению церковным имуществом и эффективно контролировать движение финансовых потоков.
Стольники приезжали на места как представители исполнительной власти. Помимо изъятия монастырских документов, выяснения местонахождения отдельных грамот и опечатывания денег, стольники-переписчики уделяли внимание текущей хозяйственной и финансовой жизни монастырей. Они пытались воплотить в жизнь и положения указов об изменениях монастырского быта – о невыходе монахов из монастыря, о запрете писать что-либо в кельях, жить в монастырях бельцам и т. д.
В соответствии с царским указом стольник Я. П. Никифоров выслал вон из кашинского Николаевского Клобукова монастыря белого дьячка, а в Благовещенском Ширинском устроил допрос, пытаясь выявить законность пребывания здесь светских лиц. В результате в последнем оставили лишь одного келейника, предоставившего вкладную запись93. Переписчик М. Ф. Деревнин выслал из Дмитровского монастыря в Кашине семерых человек, однако в Троице-Рябовом монастыре Кашинского уезда, напротив, распорядился оставить «для церковного пения и чтения» двух дьячков, «для того, что в том монастыре монахов, умеющих грамоте, никого нет»94. Стольник И. В. Кикин при описании тульского Иоанно-Предтеченского монастыря выяснил возраст у каждого из келейников. В итоге в монастыре он оставил только престарелых келейников игумена и казначея. Из коломенского Спасо-Преображенского монастыря Кикин выслал белого пономаря и других бельцов, «и те белцы, кроме келейника, высланы все вон в прежние места, где кто жил. И кроме вышеписанных монахов и келейника жителей никого не оставлено»95.
Стольник В. И. Кошелев, работая в вологодском Спасо-Прилуцком монастыре, в соответствии с царским указом также требовал высылки оттуда «всех келейников и посторонних лиц, опричь престарелых»96. Властям же Спасо-Нуромского монастыря, судя по всему, пришлось объяснять ему причины нахождения здесь белого священника и диакона: «В том их монастыре иеромонаха и еродиакона нет. А служат белой поп Михаило Григорьев да дьякон Василей Ярофеев для того, что прихожаня к тому монастырю – их же монастырские крестьяня разных деревень вместо приходской церкви изстари… И они де, поп Михаило и дьякон Василей, в прихоцкие со всякими потребы ездят и на монастыре свадьбы венчают, и мертвых погребают, и всякие мирские потребы исправляют»97. По указу от 9 апреля 1702 г. Кошелев выдавал «ссыльным бабкам, и бабам, и девкам» в вологодском Успенском Горнем девичьем монастыре жалованье великого государя98, а также в соответствии с именным указом распорядился построить в Вологде на посаде «богадельню нищим вместо старой», получив на это из архиерейской казны 30 руб.99
Стольник Я. П. Никифоров, описывая имущество Благовещенского Ширинского монастыря, устроил своего рода расследование, выясняя местонахождение монастырских документов. Привлекли его внимание и приходные и расходные монастырские книги, оказавшиеся «не за рукою и черны». В итоге виновным признали бывшего игумена Иосифа, потратившего часть монастырских денег на личные нужды100. Приехавший в 1701 г. в Суздаль стольник И. М. Кологривов задолго до официального назначения на должность управляющего суздальскими монастырями (март 1702 г.) 101со ссылкой на именной царский указ запретил куда-либо тратить собранные церковные деньги без разрешения на это Монастырского приказа102. Примеры подобных «управленческих» действий переписчиков 1701–1703 гг. можно продолжать.
В недавней работе М. И. Давыдов и С. М. Шамин пришли к выводу, что хронологическая граница между описанием земель и началом непосредственного управления ими для стольника Кологривова, назначенного управителем одним из первых, пришлась на март–апрель 1702 г.103 Наиболее ранний из выявленных на сегодняшний день документов о назначении стольников в уезды датирован 18 мая 1702 г.104 В Росписи, составленной 24 июня 1702 г., «в которых городех по указу великого государя для управления монастырей и архиерейских и монастырских вотчин стольником быть велено», числятся шесть стольников-управленцев105, а по данным Монастырского приказа к декабрю 1702 г. таких представителей власти в регионах было уже 10 человек: «Василей Дмитреев сын Сабуров на Костроме, в Галиче, на Кинешме; Иван Васильев сын Кикин на Коломне и Коломенской епархии в городех; Василей Романов сын Воейков в Ростове и Ростовской епархии в городех; Иван Миронов сын Кологривов в Суздале и Суздальской епархии в городех; Иван Леонтьев сын Нелидов в Смоленску; Лукьян Никифоров сын Кологривов на Вологде и Вологоцкой епархии в городех; князь Иван княж Васильев сын Борятинской в Нижнем Новегороде и Нижегородской епархии в городех; князь Иван княж Степанов сын Засекин [в] Резанской епархии в городех; Петр Иванов сын Травин в Кашине, в Бежецком Верху, на Устюжне Железопольской; стряпчей Лука Богданов сын Каблуков на Москве ведает монастыри: Чудов, Новоспасской, Симанов; в Московском уезде Николаевской Угрешской»106.
Иногда в действиях приехавших из Монастырского приказа в уезды стольников-переписчиков пересекались и смешивались вопросы описания и управления, и переход от ревизии церковных имуществ к управлению ими происходил постепенно. В тех случаях, когда переписчиком и назначенным в качестве управителя было одно и тоже лицо (например, И. В. Кикин, И.М. и Л. Н. Кологривовы), выявить чёткую границу между этими видами деятельности невозможно. В других местах переписчиков-управленцев сменяли те, кому специально поручали «ведать монастыри и вотчины», управлять архиерейским домом и епархиальным хозяйством и т.п. 107Однако к их приезду отношения власти-подчинения уже были выстроены. Иной вопрос – насколько формировавшаяся на местах система была эффективной. Впрочем, на текущем этапе исследования выводы о работе выстраивавшихся в ходе петровских реформ структур церковного управления в 1701–1702 гг. были бы преждевременны – этот вопрос требует дальнейшего изучения.
1 Обзор историографии церковной реформы Петра I см., например: Седов П. В. «Всё-де ныне государево»: традиции и новации в церковной реформе Петра I // Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале нового времени (XVI–XVIII вв.). Сборник статей. СПб., 2013. С. 122–124.
2 Крылов О. А. Церковная реформа Петра I и теория секуляризации: от публицистики к историографии // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2021. № 3. С. 22–46; Агеева О. Г. Пётр I и реформа Русской Церкви // Российская история. 2022. № 2. С. 15–30.
3 Башнин Н. В., Устинова И. А., Шамина И. Н. Высшее духовенство в начале церковной реформы Петра I: правовой статус и имущественное положение. М.; СПб., 2022; Башнин Н. В., Черкасова М. С. Как начиналась церковная реформа Петра I? (по материалам севернорусских епархий 1690–1700-х гг.) // Canadian-American Slavic Studies. Vol. 55. 2021. № 1. P. 24–50; Устинова И. А. Начальный этап церковной реформы Петра I: преобразование патриарших приказов // Вестник церковной истории. 2022. № 3/4(67/68). С. 223–235.
4 О переписи владений Церкви в начале XVIII в. см.: Булыгин И. А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века. М., 1977; Шамина И. Н. Коломенская епархия на рубеже XVII–XVIII столетий: по материалам переписных книг 1701–1702 гг. М.; СПб., 2023.
5 Обзор изданных материалов переписи см.: Шамин С. М. Перепись церковных владений 1701–1703 гг. в дореволюционных и современных публикациях: к вопросу о закономерностях развития исторических исследований // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5. История. 2023. № 4. С. 7–36.
6 Подробнее см.: Соколова Н. В. Описание церковно-монастырских владений в процессе секуляризации начала XVIII в.: опыт реконструкции (на материалах Нижегородского уезда) // Северо-Запад в аграрной истории России. Межвузовский тематический сборник научных трудов. Калининград, 2008. С. 44–60; Черкасова М. С. Государственная ревизия вологодских монастырей в начале XVIII в. // Управление и экономика: опыт, теория, практика. Материалы научной конференции (Вологда, 10–11 апреля 2009 г.). Вологда, 2009; Переписные книги вологодских монастырей XVI–XVIII вв.: Исследование и тексты / Под ред. М. С. Черкасовой. Вологда, 2011.
7 Булыгин И. А. Указ. соч. С. 37.
8 Соколова Н. В. Нижегородские вотчины Троице-Сергиева монастыря по описаниям стольников П. Б. Вельяминова и П. А. Волынского: Козино, Копосово, Чёрное // История Балахны и Балахнинского уезда с древности до начала ХХ века: к 88-летию Балахнинского музейного историко-художественного комплекса. Материалы первой научно-практической конференции. Балахна, 2017. С. 68–69.
9 Черкасова М. С. Вологда и Устюг в эпоху Петра I (краеведческие очерки). Вологда, 2021. С. 81.
10 В приказе стольники получали также перечневые списки населения из переписных книг 1678 г., наказы, составленные на основании правительственных указов, и «памяти по наказу», где перечислялось, что именно следует переписать (Шамина И. Н. Практическая реализация первого этапа церковной реформы Петра I // Российская история. 2021. № 4. С. 60–73).
11 ОР РНБ, ф. 531, оп. 2, д. 5222.
12 Государственный архив Вологодской области (далее – ГА ВО), ф. 1260, оп. 1, д. 12076. Опубл.: Башнин Н. В., Устинова И. А., Шамина И. Н. Высшее духовенство… С. 572–573.
13 Киево-Николаевский Новодевичий монастырь в г. Алатыре. Сборник документов XVII – начала XVIII веков / Сост. А. А. Чибис. Чебоксары, 2004. С. 48–49.
14 Шамина И. Н. Коломенская епархия… С. 9–10.
15 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 23, л. 51–172.
16 Там же, д. 21, л. 168.
17 Подробнее о направленных на места стольниках см.: Шамина И. Н. Люди «московских чинов» на службе в Монастырском приказе (1701–1702 гг.) // Вестник церковной истории. 2024. № 1/2(73/74). С. 299–317.
18 Башнин Н. В., Устинова И. А., Шамина И. Н. Высшее духовенство… С. 498.
19 Успенский Н. П. О больших строителях Кирилло-Белозерского монастыря. М., 1896. С. 55.
20 Черкасова М. С. Вологда и Устюг в эпоху Петра I… С. 72.
21 ОР РНБ, ф. 531, оп. 2, д. 5222.
22 Давыдов М. И., Шамин С. М. Новые известия о суздальском этапе биографии стольника Ивана Мироновича Кологривова (1701–1703 гг.): к вопросу о характере деятельности региональных агентов Монастырского приказа // Вестник церковной истории. 2024. № 1/2(73/74). С. 323.
23 Черкасова М. С. Вологда и Устюг в эпоху Петра I… С. 80.
24 Хозяйственные книги Вологодского архиерейского дома Святой Софии XVII – начала XVIII в. / Сост. Н. В. Башнин. М.; СПб., 2018. С. 317, 319.
25 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 23, л. 491, 546, 555 и др. В переписной книге галичского Паисиева монастыря Филка Посников назван казённым дьячком (Там же, л. 95 об.).
26 Там же, л. 591.
27 ОР РНБ, ф. 531, оп. 2, д. 5222, сст. 1–2; ГА ВО, ф. 1260, оп. 1, д. 12076, л. 1–2.
28 Башнин Н. В. Дионисиево-Глушицкий монастырь и его архив в XV–XVII вв.: исследование и тексты. М.; СПб., 2016. С. 1074.
29 ГА ВО, ф. 1260, оп. 1, д. 12435.
30 Историко-статистическое описание Воскресенского собора в г. Вятке, составленное протоиереем Герасимом Никитниковым. Вятка, 1869. С. 57.
31 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 24, л. 131.
32 Там же, л. 189–566.
33 Успенский Н. П. Указ. соч. С. 55.
34 Пушкин Б. С. Описание принадлежащих Л. М. Савёлову документов: 1) столбцов Воскресенского Череповецкого монастыря Новг[ородской] губ[ернии] (№№ 1–131) со вводной к ним статьёй «Страница из истории Череповецк[ого] мон[астыря] в XVII в.»; 2) столбцов Коряжемского мон[астыря] Волог[одской] губ[ернии] (№№ 132–141) и 3) столбцов разного содержания (142–173). М., 1912. С. 16–17.
35 ОР РНБ, ф. 531, оп. 2, д. 5222, сст. 1.
36 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 57, л. 75–75 об.
37 Шамина И. Н. Переписные книги коломенских Спасо-Преображенского, Голутвина, Бобренёва и Брусенского монастырей 1701 г. // Вестник церковной истории. 2017. № 3/4(47/48). С. 224.
38 Добронравов В. Г. История Троицкого Данилова монастыря в г. Переславле-Залесском. Переславль-Залесский, 2008. С. 260.
39 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 21, л. 292.
40 Там же, д. 57, л. 87.
41 Там же, л. 95 об.–96.
42 Там же, д. 23, л. 69 об.
43 Там же, д. 24, л. 7 об.
44 Там же, д. 57, л. 114.
45 Там же, л. 86 об.
46 Седов П. В. Успенский Тихвинский монастырь и его архимандрит Боголеп накануне и в первые годы Северной войны. СПб., 2018. С. 129–131.
47 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 18, л. 138 об.–139; д. 17, л. 161 об.–162.
48 Шамина И. Н. Социальный портрет монашествующих Коломенской епархии в конце XVII – начале XVIII в. // Традиционные и новаторские пути изучения социальной истории России XII–XX веков. Сборник статей в честь Елены Николаевны Швейковской. М., 2021. С. 411.
49 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 58, л. 537, 547 об.
50 Башнин Н. В., Устинова И. А., Шамина И. Н. Высшее духовенство… С. 386–389.
51 Описи Вологодского архиерейского дома Св. Софии второй половины XVII – начала XVIII в. / Сост. Н. В. Башнин. М.; СПб., 2020. С. 272.
52 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 23, л. 115.
53 Шамина И. Н. Практическая реализация первого этапа церковной реформы…
54 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 57, л. 96 об.
55 Башнин Н. В., Устинова И. А., Шамина И. Н. Высшее духовенство… С. 566.
56 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 17, л. 444–717.
57 Башнин Н. В., Устинова И. А., Шамина И. Н. Высшее духовенство… С. 606–607.
58 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 8. Опубл.: Шамина И. Н. Приходо-расходная книга вологодского Павлова Обнорского монастыря 1694 г. // Вестник церковной истории. 2013. № 3/4(31/32). С. 85–138.
59 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 17, л. 244–248 об.
60 Там же, л. 333 об.–349.
61 Там же, оп. 1, ч. 3, д. 3013, 3469, 4414, 4933, 6345.
62 Там же, оп. 1, ч. 1, д. 20.
63 Там же, д. 21, л. 561.
64 Шамина И. Н. Переписная книга вологодского Спасо-Нуромского монастыря и его вотчины 1701–1702 гг. // Вестник церковной истории. 2020. № 1/2(57/58). С. 15.
65 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 44, л. 395–395 об.
66 Там же, оп. 1, ч. 2, д. 217, л. 2–3.
67 Там же, оп. 1, ч. 1, д. 23, л. 64.
68 Там же, д. 24, л. 131; д. 21, л. 475.
69 Там же, д. 23, л. 64 об.–65 об.
70 Там же, л. 65 об.–66.
71 Там же, л. 66.
72 Там же, д. 57, л. 80.
73 Там же, д. 23, л. 81 об.
74 Там же, л. 111.
75 Там же, л. 111 об.
76 Там же, л. 69–69 об.
77 Там же, д. 17, л. 34 об.–35.
78 Шамина И. Н. Преподобный Иннокентий Комельский и основанный им монастырь // Вестник церковной истории. 2009. № 1/2(13/14). С. 76.
79 Шамина И. Н. Коломенская епархия… С. 489.
80 Шамина И. Н. Переписная книга вологодского Спасо-Нуромского монастыря… С. 22.
81 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 57, л. 142 об.
82 Там же, оп. 1, ч. 2, д. 217, л. 24.
83 Там же, д. 382, л. 36.
84 Там же, оп. 1, ч. 1, д. 57, л. 190.
85 Там же, л. 143.
86 Там же, л. 190.
87 Там же, л. 294 об.
88 Там же, д. 18, л. 440 об.
89 Переписные книги вологодских монастырей… С. 155.
90 ГА ВО, ф. 1260, оп. 1, д. 12435.
91 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 2, д. 349, л. 31 об.
92 Там же, л. 23, 30 об., 31.
93 Там же, ч. 1, д. 57, л. 96, 142.
94 Там же, л. 14 об.–15, 295,
95 Шамина И. Н. Коломенская епархия… С. 298.
96 Черкасова М. С. Вологда и Устюг в эпоху Петра I… С. 82.
97 Шамина И. Н. Переписная книга вологодского Спасо-Нуромского монастыря… С. 23.
98 Хозяйственные книги Вологодского архиерейского дома… С. 251.
99 Там же. С. 262.
100 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 1, д. 57, л. 75 об.–76. См. подробнее: Шамина И. Н. О начальном периоде церковной реформы Петра I в Кашинском уезде: деятельность М. Ф. Деревнина, Я. П. Никифорова, П. И. Травина // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2024. № 5 (в печати).
101 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 2, д. 349, л. 22 об.
102 Давыдов М. И., Шамин С. М. Новые известия… С. 324–325.
103 Там же. С. 326.
104 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 3, д. 6291, л. 7.
105 Соколова Н. В. Казус стольника Василия Сабурова, или О скрепах Петровской эпохи // Порядок и смута. Государство, общество, человек на востоке и западе Европы в Средние века и раннее Новое время: К 85-летию Владислава Дмитриевича Назарова. М., 2023. С. 427.
106 РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 2, д. 349, л. 29 об.–30.
107 В значительной части уездов Российского государства это произошло в течение 1702 г. (Там же, л. 21–26).
About the authors
Irina N. Shamina
Institute of Russian History of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
старший научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Агеева О.Г. Пётр I и реформа Русской Церкви // Российская история. 2022. № 2. С. 15–30.
- Башнин Н.В. Дионисиево-Глушицкий монастырь и его архив в XV–XVII вв.: Исследование и тексты. М.; СПб., 2016.
- Башнин Н.В., Устинова И.А., Шамина И.Н. Высшее духовенство в начале церковной реформы Петра I: правовой статус и имущественное положение. М.; СПб., 2022.
- Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века. М., 1977.
- Давыдов М.И., Шамин С.М. Новые известия о суздальском этапе биографии стольника Ивана Мироновича Кологривова (1701–1703 гг.): к вопросу о характере деятельности региональных агентов Монастырского приказа // Вестник церковной истории. 2024. № 1/2(73/74). С. 318–395.
- Добронравов В.Г. История Троицкого Данилова монастыря в г. Переславле-Залесском. Переславль-Залесский, 2008.
- Киево-Николаевский Новодевичий монастырь в г. Алатыре. Сборник документов XVII – начала XVIII веков / Сост. А.А. Чибис. Чебоксары, 2004.
- Крылов О.А. Церковная реформа Петра I и теория секуляризации: от публицистики к историографии // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2021. № 3. С. 22–46.
- Никитников Г. Историко-статистическое описание Воскресенского собора в г. Вятке, составленное протоиереем Герасимом Никитниковым. Вятка, 1869.
- Описи Вологодского архиерейского дома Св. Софии второй половины XVII – начала XVIII в / Сост. Н.В. Башнин. М.; СПб., 2020.
- Пушкин Б.С. Описание принадлежащих Л.М. Савелову документов: 1) столбцов Воскресенского Череповецкого монастыря Новг[ородской] губ[ернии] (№№ 1–131) со вводной к ним статьей «Страница из истории Череповецк[ого] мон[астыря] в XVII в.»; 2) столбцов Коряжемского мон[астыря] Волог[одской] губ[ернии] (№№ 132–141) и 3) столбцов разного содержания (142–173). М., 1912.
- Седов П.В. «Всё-де ныне государево»: традиции и новации в церковной реформе Петра I // Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале нового времени (XVI–XVIII вв.). Сборник статей. СПб., 2013. С. 122–124/
- Седов П.В. Успенский Тихвинский монастырь и его архимандрит Боголеп накануне и в первые годы Северной войны. СПб., 2018.
- Соколова Н.В. Казус стольника Василия Сабурова, или О скрепах Петровской эпохи // Порядок и смута. Государство, общество, человек на востоке и западе Европы в Средние века и раннее Новое время: К 85-летию Владислава Дмитриевича Назарова. М., 2023. С. 416–428.
- Соколова Н.В. Нижегородские вотчины Троице-Сергиева монастыря по описаниям стольников П.Б. Вельяминова и П.А. Волынского: Козино, Копосово, Черное // История Балахны и Балахнинского уезда с древности до начала ХХ века: к 88-летию Балахнинского музейного историко-художественного комплекса. Материалы первой научно-практической конференции. Балахна, 2017. С. 68–69.
- Соколова Н.В. Описание церковно-монастырских владений в процессе секуляризации начала XVIII в.: Опыт реконструкции (на материалах Нижегородского уезда) // Северо-Запад в аграрной истории России: Межвузовский тематический сборник научных трудов. Калининград, 2008. С. 44–60.
- Успенский Н.П. О больших строителях Кирилло-Белозерского монастыря. М., 1896.
- Хозяйственные книги Вологодского архиерейского дома Святой Софии XVII – начала XVIII в. / Сост. Н.В. Башнин. М.; СПб., 2018.
- Черкасова М.С. Вологда и Устюг в эпоху Петра I (краеведческие очерки). Вологда, 2021.
- Черкасова М.С. Государственная ревизия вологодских монастырей в начале XVIII в. // Управление и экономика: опыт, теория, практика. Материалы научной конференции (Вологда, 10–11 апреля 2009 г.). Вологда, 2009; Переписные книги вологодских монастырей XVI–XVIII вв.: Исследование и тексты / Под ред. М.С. Черкасовой. Вологда, 2011.
- Шамин С.М. Перепись церковных владений 1701–1703 гг. в дореволюционных и современных публикациях: к вопросу о закономерностях развития исторических исследований // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5. История. 2023. № 4. С. 7–36.
- Шамина И. Н. О начальном периоде церковной реформы Петра I в Кашинском уезде: деятельность М.Ф. Деревнина, Я.П. Никифорова, П.И. Травина (в печати).
- Шамина И.Н. Коломенская епархия на рубеже XVII–XVIII столетий: по материалам переписных книг 1701–1702 гг. М.; СПб., 2023.
- Шамина И.Н. Переписная книга вологодского Спасо-Нуромского монастыря и его вотчины 1701–1702 гг. // Вестник церковной истории. 2020. № 1/2(57/58). С. 5–37.
- Шамина И.Н. Переписные книги коломенских Спасо-Преображенского, Голутвина, Бобренёва и Брусенского монастырей 1701 г. // Вестник церковной истории. 2017. № 3/4(47/48). С. 96–226.
- Шамина И.Н. Практическая реализация первого этапа церковной реформы Петра I // Российская история. 2021. № 4. С. 60–73.
- Шамина И.Н. Преподобный Иннокентий Комельский и основанный им монастырь // Вестник церковной истории. 2009. № 1/2(13/14). С. 26–99.
- Шамина И.Н. Приходо-расходная книга вологодского Павлова Обнорского монастыря 1694 г. // Вестник церковной истории. 2013. № 3/4(31/32). С. 85–138.
- Шамина И.Н. Социальный портрет монашествующих Коломенской епархии в конце XVII – начале XVIII в. // Традиционные и новаторские пути изучения социальной истории России XII–XX веков. Сборник статей в честь Елены Николаевны Швейковской. М., 2021. С. 404–428.
Supplementary files