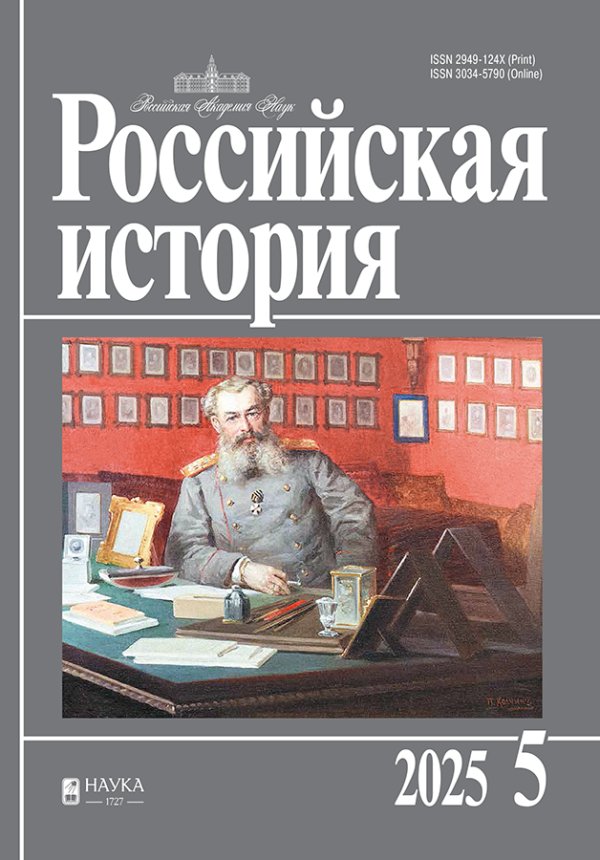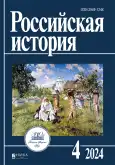Политика территориальной реорганизации церковных приходов в Олонецком крае во второй половине XVIII – начале XIX в.
- Авторы: Суслова Е.Д.1
-
Учреждения:
- Петрозаводский государственный университет, Гуманитарный инновационный парк
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 50-69
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268624
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040047
- EDN: https://elibrary.ru/FGAVBQ
- ID: 268624
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлены результаты исследования причин и особенностей проведения в Олонецком уезде политики территориальной реорганизации приходов, цели и основные принципы которой были сформулированы на законодательном уровне в XVIII в. Стремление поддержать духовенство крошечных «монастырских» приходов, возникших после реформы секуляризации 1764 г., подтолкнуло епархиальное начальство к упразднению малых и реорганизации крупных приходов. Предпринятые в конце 1760-х — 1810-е гг. меры не имели систематического характера, однако привели к неоднозначным последствиям. С одной стороны, архиереи приступили к решению давно назревших проблем, связанных с размежеванием границ обширных приходов. С другой стороны, улучшить благосостояние духовенства и содержание храмов на должном уровне не удалось. Ликвидация малодворных приходов при отсутствии должного внимания к духовной жизни населения края обернулась возрождением народного православия и укреплением позиций староверия.
Ключевые слова
Полный текст
Политика территориальной реорганизации церковных приходов, проводившаяся в Российской империи епархиальными властями в XVIII–XIX вв., до сих пор не являлась предметом специального рассмотрения. Тем не менее, оценивая состояние церковно-приходской системы в том или ином регионе, исследователи затрагивали вопрос о причинах и последствиях изменения размеров приходов и «перекройки» их границ.
Одним из первых факт укрупнения приходов в последней четверти XVIII в. констатировал П. В. Знаменский. Учёный связал это с жёстким контролем архиереев за количеством воздвигаемых храмов и мерами по приведению в соответствие сокращённых в 1778 г. штатов духовенства вновь установленным размерам приходов1. По мнению исследователя, в результате целенаправленно проводимой политики государству и Церкви удалось улучшить материальное положение низшего духовенства и поддержать благолепие в храмах. Опираясь на документы по Белгородской епархии, Знаменский подметил, что изменение размеров целых групп приходов – укрупнение одних и уменьшение других – нередко становилось следствием приведения в соответствие границ епархий и наместничеств и превращалось в настоящую проблему, требовавшую прямого вмешательства архиереев2.
Пересматривая устоявшуюся в историографии точку зрения, согласно которой традиционный приход распался к тому времени, когда Церковь остро в нём нуждалась, стремясь адаптироваться к нуждам современного общества, Г. Фриз сосредоточил внимание на выяснении причин и путей трансформации прихода в центральных епархиях Российской империи в XVIII в. Значимое место в складывании его исторической судьбы историк отвёл предпринятой Церковью политике реорганизации приходских территорий3. Фриз подчеркнул, что власти ставили благие цели – добиться улучшения материального благосостояния мирского духовенства и поддержать благолепие в храмах, поэтому поощряли епархиальных архиереев использовать предоставленное им право изменять размеры приходов4. Предпринятые архиереями меры, по его мнению, являлись совершенно новыми для XVIII в., но проводились «бюрократически», т. е. произвольно, порой в принудительном порядке5. Их реализация имела разрушительные последствия: исчезло былое тождество прихода и поземельной общины, стали менее отчётливы и вскоре утратились его административные, экономические и культурные функции, усилилась власть архиереев на местах6. Улучшив положение клира, заключил Фриз, священноначалие вскоре столкнулось с другой проблемой, которая с конца XVIII столетия стала едва ли не первостепенной, – необходимостью систематического обучения паствы основам веры, что оказывалось трудно осуществимо вследствие огромных размеров приходов7.
Историк отнюдь не склонен в качестве первопричины распада традиционного прихода рассматривать политику его территориальной реорганизации. С его точки зрения, это разрушение стало результатом целого комплекса взаимосвязанных явлений, и, прежде всего, «внутренней дезинтеграции», развивавшейся на фоне усиления административного контроля над крестьянством вследствие губернской реформы 1775 г., ускорения миграционных процессов, углубления имущественной и социальной дифференциации внутри прежде цельной общины8. Фриз заключил, что приход к концу XVIII в. не исчез: он продолжил существование в качестве религиозной общины, однако утратил свои «внерелигиозные» функции9.
Всесторонне изучив размеры, социальный состав и устройство приходских общин Тобольской епархии в XVIII в., Н. Д. Зольникова коснулась вопроса о специфике реализации политики территориальной реорганизации сибирских приходов. Сопоставив общее количество поселений и душ мужского пола в приходах и волостях по спискам за 1780-е гг., исследовательница заключила, что «крестьянская и приходская общины в XVIII в. в пределах Тобольской епархии крайне редко совпадали по территории, очень значительно не совпадали и их центры»10. Тем не менее это не мешало органам городского и сельского самоуправления принимать активное участие в решении приходских дел, «особенно если затрагивались хозяйственные вопросы, находившиеся в компетенции светских общин»11.
Установив факт увеличения количества церквей в регионе «в несколько раз», Зольникова связала наметившийся рост средних размеров прихода на протяжении столетия с естественным приростом населения, миграционными процессами и интенсивной колонизацией региона12. С её точки зрения, меры по переводу «селений из прихода в приход… при постоянных миграциях населения» отнюдь «не были редкостью», хотя «по всей епархии» развернулись в 1770–1790-х гг.13 По мнению исследовательницы, заботы епископов «об “уравнении” приходов» имели целью не только улучшить содержание мирского духовенства и поддержать благолепие в храмах, но также обеспечить пастве наиболее быстрый и удобный путь к нему, привести в соответствие границы прихода и волости14. Проанализировав все выявленные ею случаи «уравнивания» приходов, Зольникова подметила, что переделу подвергались главным образом их периферийные районы. В политике территориальной реорганизации сибирских приходов она не усмотрела каких-либо кардинальных мер, приведших к их катастрофической трансформации. Приход продолжал представлять собой «самостоятельный организм с традиционной структурой и функциями»15. Трансформация сибирских приходских общин была обусловлена «нараставшей» после проведения волостной реформы 1780-х гг. «бюрократизацией сельских общин», когда расширилась «сфера контроля Церкви за приходской жизнью» и у мирян отняли «функции самоуправления, принадлежавшие им по традиции в государстве сословно-представительной монархии»16.
Обращаясь к истории православия в Иркутской епархии в конце XVII – XVIII в., А. П. Санников рассмотрел, как складывалась система церковных приходов, оценил их размеры и социальную структуру. Он установил, что большинство приходов Прибайкалья к концу XVIII столетия насчитывали до 100–150 дворов (от 10 до 30 поселений, 61%)17. Формирование приходской системы шло одновременно с внутренней колонизацией территории русскими переселенцами. Границы городских приходов, согласно наблюдениям историка, нередко «далеко» выходили «за рамки» городских поселений, тогда как сельские, объединяя сравнительно небольшое число жителей, охватили значительные пространства с разбросанными на них группами поселений18. Санников убеждён в том, что архиереи использовали право «изменять границы приходов… и ликвидировать малые», прежде всего, с целью приведения в соответствие их границ и границ мельчайших административно-территориальных образований19. Сельские приходские общины, количество дворов в которых не соответствовало штатам, пытались отстоять своё право на существование. Они нередко приписывали к своим территориям «различные зимовья, заимки и временные поселения» с целью формального приведения размера прихода в соответствие с законодательной нормой, в то время как архиереи поддерживали мирян в их стремлении иметь церковь и редко проверяли подлинность фиксируемых в прошениях сведений о количестве дворов20. Во многом благодаря совместным усилиям священноначалия, светских властей и мирян возведение храмов и складывание новых приходов в XVIII в. в Прибайкалье не прекращалось21.
Комплексно исследовав устойчивые традиционные микроструктуры на Русском Севере в XVIII в. – волость, приход и крестьянскую общину, – А. В. Камкин полагал, что именно они «в течение длительного исторического периода заселения и освоения региона оформились в самобытные – чисто триединые – сообщества… имевшие многовековые традиции самоорганизации и саморегулирования»22. Проанализировав количественные характеристики приходов региона в конце XVIII в., автор заключил, что при сохранении многовариантности «в пространственной организации северных крестьянских сообществ», на Русском Севере «явно преобладали приходские сообщества с количеством деревень от 4 до 30 (80%) и численностью населения от 300 до 1 500 прихожан обоего пола и всех возрастов (73%)»23. По мнению историка, «ни один из северорусских архиереев даже не приступал к ломке устоявшихся приходских пределов», несмотря на то что повсеместно и неоднократно церковные власти пытались «стандартизировать приходы»24. Камкин был убеждён, что меры по реорганизации предпринимались только в единичных случаях, главным образом в связи с «подгонкой епархиальных границ под административные»25. Отказ властей «перекраивать» границы приходов на Русском Севере он объяснял тем, что государство, получившее «к концу петровского царствования имперский статус», всемерно учитывало исторические, географические, этносоциальные, этнокультурные и политические особенности региона26. Единство волости, прихода и крестьянской общины, с точки зрения Камкина, сохранялось вплоть до конца XVIII столетия и распалось вследствие реформ государственной волости 1797 и 1837–1843 гг.27 Трансформации подверглась только волость, в то время как приход «продолжал идти по пути дальнейшего развития религиозной жизни», несмотря на существенные ограничения его автономии28.
М. В. Пулькин рассмотрел, когда и каким образом произошёл распад прежде сплочённой приходской общины в Олонецкой епархии во второй половине XVIII – начале XX в. Сосредоточив внимание на анализе отношений внутри общины, а также между прихожанами и представителями разных уровней власти, исследователь заключил, что государство и Церковь существенно ограничили участие общины в решении важнейших приходских дел, в то время как она сама в условиях участившихся конфликтов с пастырями, распространения старообрядчества, развивавшейся имущественной и социальной дифференциации в деревне, сложностей с организацией проповеди на карельском языке отстранилась от непосредственного участия в духовной и повседневной жизни29. Характеризуя церковно-приходскую систему края в конце XVIII столетия, Пулькин ограничился подсчётом средних размеров сельских приходов на территории, вошедшей в 1801 г. в состав Олонецкой губ.30
Ю. Н. Кожевникова и Н. И. Тормосова выявили любопытные факты, свидетельствующие об укрупнении групп приходов и волостей Олонецкого края во второй половине XVIII в. В частности, реконструируя историю обращённых в мирские приходы после секуляризации 1764 г. карельских обителей, Кожевникова установила, что в 1770–1800 гг. одни монастырские приходы архиереи присоединили к соседним деревенским, другие – укрупнили за счёт расположенных поблизости кустов поселений, ранее входивших в состав мирских приходов31. Тормосова проследила этапы и последствия административно-территориальных преобразований для «традиционных волостей» Каргополья, под которыми подразумевала системы поселений, естественно сформировавшиеся в XV–XVI вв. в пределах определённых округов32. Создание в 1785 г. Пудожского уезда в составе вновь образованного Олонецкого наместничества из волостей Каргопольского и Вытегорского уездов впервые обернулось нарушением территориальной целостности традиционной волостной структуры Каргополья: шесть пограничных волостей, располагавшихся от Кенозера до устья р. Моши, оказались искусственно разделены33. Следующий этап трансформации Тормосова связала с первой реформой государственной волости 1797 г.: совпадавшая с сельской общиной и церковным приходом, традиционная волость была упразднена как «административная единица» и ей на смену пришла «вотчина», «в основном» соответствовавшая существовавшей ранее волости и включавшая не более 3 тыс. человек34.
Таким образом, вопрос о территориальной реорганизации церковных приходов в епархиях Русской Церкви освещается исследователями в контексте осмысления более обширной проблемы – трансформации традиционного прихода, который вплоть до конца XVII в. повсеместно совпадал с волостью и поземельной общиной. Учёные убеждены, что в XVIII столетии наметился распад традиционного прихода, проявившийся в утрате его былого тождества с волостью и общиной, а также во внутреннем расколе общины, «бюрократизации» его повседневной жизни вследствие отстранения мирян от участия в решении приходских дел. Тем не менее в разных частях государства трансформация прихода происходила не одновременно и с разной степенью интенсивности.
Политика территориальной реорганизации приходов реализовывалась духовными властями с учётом конкретных условий и задач, что привело к разным последствиям. В центральной полосе настойчиво проводимые меры по укрупнению приходов содействовали улучшению благосостояния духовенства и поддержанию благолепия в храмах, привели к укреплению власти архиерея на местах и разрушению былого тождества прихода и податной общины. В Сибири архиереи использовали своё право изменять границы приходов с целью практической – по возможности привести в соответствие их границы соответствующим административным округам. На Русском Севере территориальная реорганизация приходов, за исключением монастырских и расположенных на границе смежных уездов, не проводилась, что обеспечило сохранение разных по размерам исторически сложившихся религиозных общин.
В настоящей статье излагаются результаты комплексного изучения политики территориальной реорганизации приходов в Карелии в XVIII в. В центре внимания – территория Олонецкого уезда. Задача исследования – выяснить обстоятельства и причины, побудившие епархиальное начальство реализовать предоставленное ему право изменения размеров прихода вплоть до упразднения, определить сущность проведённых мер, время их развёртывания и последствия реализации.
Олонецкий уезд был создан ещё в 1649 г. и объединил 17 Заонежских и семь Лопских погостов (восьмой погост – Ребольский – присоединён к Лопским в начале XVIII столетия)35. Как особая административно-территориальная единица уезд просуществовал в составе Ингерманландской (с 1703 г.), Санкт-Петербургской (с 1710 г.) и Новгородской (с 1727 г.) губерний, затем был преобразован в Олонецкую провинцию (1773), ставшую частью Олонецкого наместничества (1784), и, наконец, Олонецкой губ. (1801)36. С 1764 по 1787 г. приходы Олонецкого края являлись частью обширного Олонецкого и Каргопольского викариатства Новгородской митрополии, включившего «5 городов с 400 церквами» (за исключением двух северных приходов – Ребольского и Вокнаволоцкого, состоявших в ведении епископа Архангельского)37. С образованием Олонецкого наместничества викариатство было упразднено и приходы переданы под юрисдикцию епископа Архангельского и Олонецкого38. С ликвидацией наместничества в 1796 г., вплоть до образования в 1828 г. самостоятельной Олонецкой и Петрозаводской епархии управление церковно-приходской жизнью края оказалось рассредоточено. Приходы Петрозаводского, Олонецкого, Лодейнопольского, Вытегорского, Каргопольского, Повенецкого и Пудожского уездов были включены в 1798 г. в состав Старорусского викариатства Новгородской и Олонецкой епархии, тогда как приходы Кемского уезда остались в Архангельской и Холмогорской епархии39.
Города, за исключением Олонца (заложен в 1649 г.), были учреждены в крае только во второй половине XVIII столетия (Вытегра – 1773 г., Петрозаводск – 1777, Повенец – 1782, Пудож и Лодейное Поле – 1785 г.), поэтому городские приходы в исследовании не рассматриваются40.
Характеризуя церковно-приходскую систему в том или ином регионе России, учёные, как правило, ограничиваются подсчётом средних размеров приходов, привлекая сведения исповедных ведомостей за 1760–1790 гг. Выявленные цифры сравниваются с данными экстрактов из духовных ведомостей, самые ранние из которых восходят к концу 1730-х – началу 1740-х гг. В них, в отличие от исповедных ведомостей, зафиксированы несколько другие сведения. В частности, информация о количестве храмов и прихожан обоего пола сгруппирована не по приходам, а в обобщённой форме – по городам и уездам. Учитывая это обстоятельство, исследователи прослеживают изменения в количестве церквей и размерах приходов, исходя из тезиса о том, что одной церкви строго соответствовал один приход, а также практики фиксации в исповедных ведомостях только одной церкви41. В реальности же в приходе могло стоять несколько храмов и, соответственно, священнослужители подавали порой сразу несколько исповедных ведомостей42.
Сложность сопоставления данных первой и второй половины XVIII в. состоит также в том, что границы епархий в ходе административно-территориальных преобразований второй половины столетия изменились. Это затрудняет возможность корректного сравнения сведений указанных источников. Так, не оговаривая факт и особенности перераспределения в 1764 г. территорий четырёх епархий – Коломенской, Рязанской, Ростовской и Суздальской, – Г. Фриз подсчитал среднее количество дворов в приходах, находившихся в их составе, на 1740 и 1783 гг. Подсчёты показали, что хотя общая численность населения между ревизиями 1744 и 1784 гг. в рассматриваемом регионе возросла всего на 26%, среднее количество дворов увеличилось на 52–85%, мирян в них – на 21–38%43. Подчёркивая возможную неточность выявленных данных вследствие губернской реформы 1785 г. и всё же доверяя им, Фриз заключил, что за минувшие годы произошло укрупнение приходов, ставшее результатом их слияния, а также осуществления жёсткого контроля за возведением в новых и в старинных поселениях церквей. В подтверждение автор привёл выявленные в архивных документах случаи реорганизации приходов. Архиереи, по мнению исследователя, упраздняли малые по размерам и, следовательно, экономически нежизнеспособные, присоединяя их территории к соседним, либо перераспределяли дворы между малыми и большими приходами44.
Устранение возникающих неточностей в подсчётах применительно к Карелии преодолимо при условии выявления массива данных в границах сопоставимой в широкой хронологической перспективе территории – Олонецкого уезда. Наиболее ранний срез информации о размерах приходов установлен с опорой на переписные книги 1707 г. писцов А. В. Апрелева, А. Ф. Головина и М. Л. Мордвинова. Фиксируя перечни жилых и запустевших дворов по поселениям в рамках погостов – основных административно-территориальных единиц, на которые был разделён уезд, – писцы указали стоявшие на погостах и в расположенных на их периферии волостках храмы и церковный причт.
Второй хронологический срез предоставляют данные «Ведомостей о священно-церковнослужителях и их взрослых сыновьях», составленных земскими капитан-исправниками в мае–апреле 1788 г. секретно, в преддверии военного разбора духовенства. Сведения по отдельным приходам, отсутствующие в источнике, восполнены на основе Экономических примечаний к планам Генерального межевания Олонецкой губ. (в период проведения работ в 1789–1791 гг. – Олонецкого наместничества)45. Цифры сведены в таблицу по шести локальным зонам, отличавшимся схожестью природных условий, общностью исторических судеб и этнокультурного развития (табл. 1)46.
Таблица 1
Погостские и выставочные47 приходы в Олонецком уезде (середина 1700-х – конец 1780-х гг.)
1707 г. | 1788–1791 гг. | |||
погостские | выставочные | погостские | выставочные | |
Прионежье | 7 | 47 | 7 | 48 |
Заонежье | 4 | 16 | 4 | 16**** |
Выгозерье | 1 | – | 1 | – |
Приладожье | 2 | 14 | 2* | 17 |
Пудожье | 4 | 13 | 4** | 13 |
Лопские погосты | 8 | 5 | 8*** | 3 |
Итого | 26 | 95 | 26 | 97 |
Составлено по: Национальный архив Республики Карелия, ф. 2, оп. 61, д. 216; РГАДА, ф. 1355, оп. 1, д. 906, 910, 911, 914, 915, 917, 918; Суслова Е. Д. Церковно-приходская система в Карелии конца XV – начала XVIII века: [Научное электронное издание]. Петрозаводск, 2013. С. 225–235 (Приложение 2).
* Олонецкий Рождественский погост не учтён, так как вошёл в черту г. Олонца.
** Пудожский погост получил в 1785 г. статус уездного города.
*** Паданский погост преобразован в 1773 г. в пригород Паданск.
**** Повенецкий рядок получил в 1782 г. статус уездного города и переименован в Повенец.
Количество деревенских приходов в Олонецком уезде за более чем восемь десятилетий почти не изменилось: в середине 1700-х гг. их насчитывалось 121, в конце 1780-х гг. – 123. Из вновь появившихся один сложился в курортном поселении Марциальные Воды при церкви Апостола Петра (1721), два других – в Пряже при церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Олонецком погосте (1762) и в Вокнаволоке при церкви Илии Пророка в Ребольском погосте (1768)48. Ещё три прихода были возобновлены: в Туксе и в Юргилицах (Приладожье, Олонецкий погост) – к началу 1720-х гг., в Кумбосозере (Пудожский край, Пудожский погост) – к середине 1750-х гг. Для сравнения, на сопоставимой территории между составлением переписных книг 1646 и 1678 гг., т. е. всего за 32 года, сложилось сразу 15 новых приходов; в течение следующих 29 лет, к 1707 г. – ещё 1049. Как видим, церковно-приходская система Олонецкого уезда на протяжении XVIII столетия отличалась удивительной стабильностью.
По мнению М. В. Пулькина, приходская система Заонежья, т. е. расположенных на северо-западном побережье Онежского озера Кижского, Типиницкого, Толвуйского и Шунгского погостов, «оставалась неизменной», потому что власти стремились сохранить существовавшее соответствие светского административно-территориального деления церковному50. Проанализировав 28 дел о возведении церквей в Олонецком викариатстве в 1764–1787 гг., исследователь заключил, что несмотря на установленную систему требований, предъявляемых общинам, желавшим возвести храм, «епископ предпочитал обречь клир на нищету и зависимость от “мужиков”, но не оставить крестьян без богослужения»51. Позиция епископа в этом вопросе совпадала с мнением Святейшего Синода, так как «участие в богослужении… рассматривалось не только как христианский долг, но и как обязанность верноподданного»52. Указывая на заинтересованность властей «в приобщении… всего населения к церковной жизни» и ошибочно констатируя, что к концу XVIII столетия в Олонецкой губ. «в 206 приходах… насчитывалось 412 церквей», исследователь заключил, что дальнейшее «развитие приходской системы сдерживалось» в основном «низкой плотностью населения»53.
Обращение к делопроизводственным документам из канцелярии Олонецкой духовной консистории, хранящимся в Национальном архиве Республики Карелия, убеждает в том, что во второй половине XVIII в. наметилась тенденция к постепенному сокращению церковно-приходской системы. Так, были упразднены пять деревенских приходов: Кумбосозерский (Пудожье, не ранее 1754 г. – не позднее 1770 г.), Масельгский (Лопские погосты, не ранее 1769 г. – не позднее 1775 г.), Гимольский (Лопские погосты, не позднее 1775 г.), Юштозерский (Лопские погосты, 1781 г.) и Сяргозерский (Прионежье, 1800 г.)54. Практика ликвидации приходов не была явлением новым для традиционных локальных сообществ Карелии. В XVI–XVII вв. миряне прибегали к ней в качестве вынужденной, временной меры. Не имея возможности содержать причт и церковь в условиях развивавшегося хозяйственного запустения, общины по собственной инициативе преобразовывали храмы в часовни, однако при малейшей возможности возобновляли служение в церквах55. В XVIII столетии государство и Церковь на законодательном уровне жёстко регламентировали размеры приходов, состав духовных штатов, процедуру получения разрешения на возведение храма и отняли у общины право упразднения приходов56.
Составить представление о тех проблемах, с которыми столкнулась церковная администрация в Олонецком уезде в середине 1760-х – середине 1770-х гг., позволяют анализ количества дворов и числа мирян в приходах, а также оценка размеров площади, которую последние охватывали. Исповедные ведомости по всем приходам за какой-либо один год не сохранились. Тем не менее комплексный анализ их данных с 1765 по 1777 г., т. е. до введения новых духовных штатов в 1778 г., позволяет охарактеризовать состав большей части приходов: 92 из 127 57 (73%), (табл. 2).
Таблица 2
Деревенские приходы Олонецкого края по исповедным ведомостям 1765, 1769, 1770, 1775, 1777 гг.
Менее 40 дворов | 41–100 дворов | 101–200 дворов | Более 200 дворов | Нет данных | |
Прионежье | 12 | 25 | 6 | 4 | 8 |
Заонежье | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 |
Выгозерье | – | – | 1 | – | – |
Приладожье | – | 2 | 2 | 1 | 14 |
Пудожье | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Лопские погосты | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Итого | 21 | 45 | 18 | 8 | 35 |
Составлено по: НА РК, ф. 25, оп. 3, д. 18/327; оп. 11, д. 1/6, л. 1–6; д. 1/10; д. 1/11, д. 1/13, л. 24–31; д. 1/14; д. 1/15; д. 1/16, л. 1–20; д. 1/17; д. 1/18, л. 1–10; д. 2/19; д. 2/20, л. 19–24; д. 2/22; д. 2/23; д. 2/24, л. 1–11; д. 2/25; д. 4/35, л. 1–120; д. 4/38, л. 5–34; д. 4/42, л. 1–29; д. 5/50, л. 31–35; оп. 15, д. 1/7, л. 11–26, 35–46; оп. 18, д. 3/60, д. 6–53; оп. 19, д. 1/2, л. 20–73, 82–87; д. 1/4.
Львиная доля приходов – 72% (66 из 92) – не соответствовала установленному в 1722 г. и подтверждённому в 1756 г. минимальному размеру в 100 дворов58. Около трети из них (21) являлись, с точки зрения законодателя, «малыми», так как включали «от 40 до 10 дворов и менее»59. Правительствующий Сенат по прошению Святейшего Синода в 1723 г. разрешил существование подобных приходов, однако обязал архиереев требовать от «обретающихся при тех церквах… в уездах вотчинников», чтобы «они тех церквей служителей содержали в надлежащем довольствии» и не допускали возведения новых храмов при таком малом числе прихожан60.
Только каждый пятый-шестой приход (18 из 92, 20%) включал от 100 до 200 дворов и, следовательно, мог иметь штат из священника и двух причетников. Приходы, насчитывавшие от 200 до 300, а также более 300 дворов, составляли около 9% (8 из 92). В их числе – приходы обширных старинных погостов-округов (Вытегорский, Андомский, Шуйский, Паданский, Оштинский, Шунгский), а также некоторые выставочные, сложившиеся в бывших волостках (Туксинский, Кондушский).
Г. Фриз справедливо заключил, что определение размера прихода исходя из условно взятого количества дворов в значительной мере являлось формальным и не учитывало хозяйственных реалий его жизни, так как не отражало ни реального количества мирян (в первую очередь мужчин), ни их социального статуса61. Опираясь на анализ сведений о 186 приходах Архангельской и Великоустюжской епархий (25% от общего числа), А. В. Камкин установил, что во второй половине XVIII в. здесь преобладали приходы «среднего» размера, численностью от 500 до 1 тыс. человек (69 из 186, 37%) и «малые», количество прихожан в которых не превышало 500 человек (60 из 186, 32%)62. «Крупные» приходы с населением от 1 до 2 тыс. человек и более, по мнению исследователя, «встречались» только «в районах относительно плотного заселения» (57 из 186, 31%)63.
В отличие от других регионов Русского Севера, в Олонецком уезде только каждый четвёртый приход имел «средний» размер, т. е. насчитывал от 500 до 1 тыс. человек: 23 из 92 (25%); ещё реже встречались «крупные», включавшие более 1 тыс. человек: 16 из 92 (17%) Преимущественно доминировали «малые», в которых состояло менее 500 мирян (менее 100 дворов): 58 из 92 (58%). Внутри этой группы довольно значимой была доля крошечных приходов из 150 и менее человек (8 из 58, 14%) (табл. 3).
Таблица 3
Деревенские приходы Олонецкого уезда по исповедным ведомостям 1765, 1769, 1770, 1775, 1777 гг.
Размер прихода | Менее 40 дворов | 41–100 дворов | 101–200 дворов | Более 200 дворов | Всего |
Менее 150 человек | 8 | – | – | – | 8 |
150–250 человек | 10 | 1 | – | – | 11 |
251–500 человек | 3 | 31 | – | – | 34 |
501–800 человек | – | 10 | 2 | – | 12 |
800–1 000 человек | – | 3 | 8 | – | 11 |
1 001–1 200 человек | – | – | 7 | – | 7 |
1 201–1 300 человек | – | – | 1 | 1 | 2 |
1 400–1 700 человек | – | – | – | 3 | 3 |
2 000–3 100 человек | – | – | – | 4 | 4 |
Итого | 21 | 45 | 18 | 8 | 92 |
Составлено по: см. табл. 2. Учтены сведения о мирянах обоего пола и всех возрастов, в том числе «записных» старообрядцах.
После секуляризации 1764 г. в состав церковно-приходской системы Олонецкого уезда были включены приходы упразднённых монастырей, и количество малых приходов увеличилось в разы. Так, согласно приводимым Ю. Н. Кожевниковой сведениям, статус мирских приходов после закрытия получили 22 обители (все – на территории Заонежских погостов)64. Лишь некоторые из них располагали небольшим количеством приходских дворов, в которых проживали ранее трудившиеся на монастырь крестьяне (табл. 4)65. Большинство же «монастырских» приходов, отстоя «далеко от мирских поселений», являлись «карликовыми», насчитывая значительно менее 40 дворов, либо вовсе «бесприходными».
Таблица 4
«Монастырские» приходы Олонецкого уезда (конец 1760-х – начало 1780-х гг.)
Приходы упразднённых обителей | Дворы | Прихожане |
Кедринской Пятницкой | 1 | 4 |
Андрусовской Николаевской | 3 | 16 |
Машезерской Ильинской | 15 | 81 |
Юрьегорской Троицкой | 25 | 276 |
Лобановской Петропавловской | 32 | 206 |
Соломенской Петропавловской | 89 | 574 |
Составлено по: НА РК, ф. 25, оп. 11, д. 1/18, л. 30, 32–34; оп. 15, д. 1/7, л. 9–10, 27–32; оп. 18, д. 3/60, л. 1; Кожевникова Ю. Н. Николаевская Андрусова пустынь. XVI–XX вв. Петрозаводск, 2017. С. 167.
Одна из существенных особенностей церковно-приходской системы региона состояла в том, что многие старинные, исторически сложившиеся приходы, как отметил позднее первый епископ Олонецкий и Петрозаводский Игнатий (Семёнов), были «весьма размётисты»66. В донесении в Святейший Синод он уточнял свою характеристику: «Здесь приходы… состоят из весьма многаго числа деревень, отстоящих от церкви часто в 15, 25, 40 верстах и более, а сообщения между деревнями трудны по множеству озёр, болот и каменистых гор, отчего прихожане крайне затрудняются ходить… в приходскую церковь»67.
Разбросанность поселений по территории прихода была наиболее очевидным фактом для северных Лопских погостов, где «древняя система расселения» обнаруживала «удивительное постоянство» в XVI–XVII вв. и, как подчеркнула И. А. Чернякова, ненамного разрослась в следующем столетии68. Изучая поселенческую структуру на севере Карелии, исследовательница уточнила, что здесь поселения складывались вокруг погостов и потому «были не вполне… традиционно с точки зрения северно-русской поселенческой традиции» организованы. Они состояли «из разделённых озёрными заливами и урочищами отдельных крестьянских усадеб, разбросанных на значительных пространствах среди лесов, озёр и болот»69. В XVIII в. местная поселенческая структура по-прежнему производила на российских чиновников впечатление раскинутых по округе «волосток», именовавшихся теперь «деревнями», дворы которых находились на значительном расстоянии друг от друга70. В указанной части Карелии погосты охватывали огромные по площади территории, достигавшие в некоторых случаях более 10 тыс. кв. км (табл. 5). При этом если в XVII в. из старинных погостов Паданского, Селецкого и Семчезерского выделились по две выставки, то в XVIII в. появилась только одна – в Ребольском погосте.
Таблица 5
Церковно-приходская система Лопских погостов во второй половине XVIII в.*
Площадь (кв. км) | Выставки | Погосты | Приходы | |
Ребольский** | 17 194 | 1 | 1 | 2 |
Панозерский*** | 12 928 | – | 1 | 1 |
Паданский | 6 481 | 2 | 1 | 3 |
Выгозерский | 6 233 | – | 1 | 1 |
Селецкий | 5 674 | 2 | 1 | 3 |
Ругозерский | 3 353 | – | 1 | 1 |
Шуезерский | 2 554 | – | 1 | 1 |
Шуерецкий | 2 440 | – | 1 | 1 |
Семчезерский | 2 278 | 2 | 1 | 3 |
Линдозерский | 2 018 | – | 1 | 1 |
Составлено по: РГАДА, ф. 1355, оп. 1, д. 897, л. 7–15.
* В Экономических примечаниях к планам Генерального межевания обмер земельных площадей, занятых усадьбами, пашнями, сенными покосами, лесом и «неудобьями», произведён по «дачам» – территориальным единицам, которые были выделены по землевладельческому признаку и состояли из жилых (выставок, деревень, починков) и запустевших (пустошей) населённых пунктов. Для подсчёта площадей отдельных погостов привлечены сведения по нескольким «дачам», охватывающим отдельные деревни и части погостов.
** Учтены «дачи» Кемского уезда – «деревня Кимасозеро з деревнями», «деревня Кимосъозеро общаго владения государственных черносошных и прежде бывшаго Соловецкаго манастыря, а ныне экономическаго ведомства крестьян» и «Вокнаволоцкая выставка», территории которых до разграничения Повенецкого и Кемского уездов состояли в Ребольском погосте.
*** Учтены «дачи» Кемского уезда – «деревня Корелакша владения государственных черносошных крестьян», «деревня Охта з деревнями».
В отличие от Лопских погостов, Заонежские охватывали сравнительно меньшие по площади территории. К началу XVIII в. здесь сложилась значительно более дробная церковно-приходская система вследствие раннего выделения выставочных приходов из старинных погостских. Так, в Олонецком погосте, площадь которого составляла 7 200 кв. км, существовало 17 выставок, в Оштинском (3 600 кв. км) – 12, в Важенском (3 240 кв. км) – 11, в Кижском (1 890 кв. км) – 9, в Мегорском (1 890 кв. км) – 671.
В целом, к середине XVIII столетия церковно-приходская система Олонецкого уезда отличалась наличием разных групп приходов, кардинально отличавшихся по количеству дворов, числу мирян и занимаемой площади. Доминировали небольшие приходы, насчитывавшие до 500 мирян (от 100 и менее дворов). При этом в середине 1760-х гг. количество приходов, насчитывавших менее 40 дворов, увеличилось. В то же время в отдельных частях уезда продолжали функционировать старинные, раскинувшиеся на сотни вёрст, многолюдные погостские приходы. Они преобладали на северной окраине региона – в Лопских погостах, где формирование церковно-приходской системы, активно развивавшееся в XVII в., в XVIII в. приостановилось. Огромные пространства создавали дополнительные трудности для местных священно-церковнослужителей, так как не позволяли должным образом окормлять паству и осуществлять действенный контроль за духовной жизнью мирян. Подобное обстоятельство не могло не содействовать возрождению интереса к дохристианским верованиям и обрядам, развитию народного православия, укоренению и расширению популярности старообрядчества. Именно в Олонецком крае располагались крупнейшие центры староверов – Выголексинское общежительство, объединившее скиты Поморского согласия, и скиты на большом острове Топозера, в которых собрались представители возникшего в 1737 г. в результате раскола Выговского общежительства радикального течения в старообрядчестве – «филипповцы»72.
Регламентация процедуры получения разрешения на возведение храма по указу от 31 октября 1722 г. имела целью предотвратить «небрежение Славе Божией в лишних церквах и множестве попов»73. Красной нитью через все законодательные акты проходит утверждавшаяся государством и Церковью идея создания условий для поддержания благосостояния клира и благолепия в храмах. Так, в указе 1722 г. Святейший Синод поставил архиереев перед необходимостью выяснять, как приход будет «священнослужителей довольствовать, и откуда оная церковь ко всегдашнему священнослужению потребная получать будет… и при коликих какого звания приходских дворах быть имеет», и только после этого присылать на заключение74. В середине – второй половине столетия требования стали строже. Указом от 9 октября 1742 г. мирянам, выражавшим намерение возвести церковь, следовало обязательно указывать в прошении не только количество дворов в приходе, но и описывать, «без изъятия ль состоят» в приходе «к содержанию священно- и церковнослужителей пашенная земля и сенные покосы». Специально оговаривалось, что храмы «к освящению» должны быть «церковными сребряными сосудами, и олтарными одежды, и священнослужительским облачением, хотя б шелковым, и книгами… церковного круга удовольствованы»75.
Хотя с 1726 по 1770 г. епархиальным архиереям предоставили право собственной властью решать вопрос о возобновлении церквей, они обязывались «оное чинить со всякою осторожностию, дабы нигде излишних и без потребы… церквей строению отнюдь не было, опасаясь за то… немалого штрафа»76. Указом от 10 декабря 1770 г. на усмотрение Святейшего Синода передавались дела о возведении церквей там, «где не бывало», т. е. об открытии новых приходов, а также о восстановлении храмов, которые «обветшают или сгорят» в деревенских приходах с количеством дворов менее сорока. При этом подчёркивалось, что «если к построению… при малых приходах церквей резонов не усмотрится, в таком случае те приходские дворы приписывать по способности к другим церквам, и впредь церквей уже тут не строить, дабы таковым благоучреждением церкви Божия и духовенство можно было привести в лучшее состояние»77. Законодатель недвусмысленно обращал внимание архиереев на совершенно крохотные приходы, предлагая поставить вопрос об упразднении именно их.
К преобразованию таких приходов епархиальных архиереев также подталкивало законодательство о приходских штатах. Согласно определению о штатах 1722 г., число священников должно было соотноситься с количеством дворов: в приходах, насчитывавших 100–150 дворов, полагались один священник и два причетника (дьячок и пономарь); от 200 до 250 дворов – два священника, каждый из которых мог иметь двух причетников; от 250 до 300 дворов – три священника78. По прошению Святейшего Синода Правительствующий Сенат в 1723 г. разрешил «малым» приходам («от 40 до 10 дворов и менее») иметь «одного священника с дьячком и пономарём»79. Норма была подтверждена указом Правительствующего Сената от 10 декабря 1756 г.80 Новое определение о штатах 1778 г., как неоднократно отмечалось в историографии, увеличило количество дворов и сократило число духовенства в приходах. При церквах, насчитывавших до 150–200 дворов, полагалось быть одному священнику; от 250–300 дворов – двум; там, «где при трехстах дворах и выше издревле по три священника было», – трём81.
Ещё ранее – в указе от 26 февраля 1764 г. – были перечислены конкретные меры по территориальной реорганизации приходов церквей упразднённых монастырей, не имевших приходских дворов82. Для поддержания благосостояния приписанного к ним духовенства и благолепия в бывших монастырских храмах архиереям предлагалось отвести землю «по пропорции против писцоваго наказа», оставить «какие за оными монастырями были лавки и харчевни», и, по возможности, расположенные по соседству «приходы большие… убавить, или совсем… к оным упразднённым монастырям приписать»83.
Установленная в 1720–1770-х гг. жёсткая система требований, предъявляемых к прихожанам, которые желали возвести либо восстановить обветшавшую церковь, секуляризация крошечных карельских обителей и пустыней в 1764 г., сокращение штатов духовенства при увеличении количества приходских дворов, последовавшее в 1778 г., поставили на повестку дня вопрос об участи малых приходов Карелии. Первостепенная цель реорганизации, согласно мысли законодателя, должна была состоять в повышении их экономической жизнеспособности84. Иные проблемы, связанные с налаживанием системы обучения паствы основам православия, осмысленные как первостепенные в середине 1780-х гг., стали первоочередными только с 1800–1820-х гг.85
Итак, перелом в политике высшего священноначалия в отношении приходов, связанный с осмыслением новой миссии Церкви, произошёл только в XIX столетии, что во многом предрешило судьбу целой группы малых приходов Олонецкого края.
В 1760–1810-х гг. епархиальные архиереи, как уже упоминалось, упразднили пять деревенских и 11 «монастырских» приходов Олонецкого уезда, приписав их территории к соседним, более крупным. Так, Масельгский приход был причислен к Паданскому, Юштозерский – к Семчезерскому, Гимольский – к Янгозерскому и т. п. Действуя в соответствии с требованиями законодательства, архиереи поставили вопрос об упразднении малых выставочных приходов, которые остались без собственного храма. В частности, приходы в Масельге и Сяргозере упразднили после того, как храмы там сгорели86. К середине XVIII столетия пришли в совершенную ветхость храмы в Кумбосозере, Юштозере и в Гимолах87.
Как установила Ю. Н. Кожевникова, приход упразднённой Габановой пустыни был причислен к Обжанскому приходу (до 1770 г.), Андрусовской Николаевской пустыни – к Ильинскому Олонецкому приходу (1775), Вашеостровской Спасской – к Кондопожскому (1788), Паданской Корнилиевой – к Веницкому (1791), и др .88 Причины присоединения «монастырских» приходов к соседним деревенским состояли не только в бедственном положении клира вследствие слишком медленного распределения земель священно-церковнослужителям, но также в обветшании и даже утрате монастырских церквей и построек89. Упразднение целой группы монастырских приходов в конце XVIII – начале XIX в., по мнению Кожевниковой, спровоцировал указ Павла I от 11 января 1798 г., в соответствие с которым обработка земельных участков возлагалась исключительно на мирян, в то время как белому духовенству заниматься сельскохозяйственными работами запрещалось. Отсутствие крестьян и денег для найма батраков поставило причты «буквально на грань вымирания»90.
В отдельных случаях, не желая упразднять монастырские приходы, архиереи пошли на укрупнение их территорий посредством присоединения групп поселений, расположенных в смежных приходах. Кожевникова установила, что такие монастырские приходы как Спасо-Маткозерский и Юрьегорский в Пудожье, Брусненский, Машезерский и Вознесенский в Прионежье были реорганизованы именно таким образом91. Однако подобные меры оказались мало продуманными. Так, в 1793 г. к приходу упразднённого Юрьегорского монастыря были причислены четыре поморские деревни Выгозерского прихода, которые «находились слишком далеко к северу… удобные дороги к ним отсутствовали»92. Удалённость поселений от церкви, их близость к Выголексинскому общежитию, явное сочувствие жителей староверию поставили вопрос о должном духовном окормлении паствы. К приходу Спасо-Маткозерской пустыни были вовсе причислены староверческие скиты в верховьях и среднем течении Андомы, насельников коих обязали «обрабатывать землю в пользу причта»93.
В результате укрупнения монастырских и упразднения малых деревенских приходов впервые начался инициированный «сверху» и охвативший несколько десятилетий процесс уточнения границ многих старинных приходов, в том числе Шуйского и связанных с ним выставочных в Деревянном, Кондопоге и Виданах, Оштинского, Важенского, Линдозерского, Семчезерского94. В отдельных случаях малым выставочным приходам всё же удалось добиться разрешения на возобновление храма. Так, например, были перестроены храмы в Отоозере (1772) и Челмужах (1778), хотя число дворов в них не превышало сорока95. Взяв на себя обязательства по обеспечению клира, крестьяне в последующем тянули с исполнением обещанного, что вызывало постоянные многочисленные нарекания со стороны архиерея96.
Ликвидация даже небольшого количества деревенских приходов пагубно сказалась на духовной жизни паствы. В северной Карелии церковно-приходская система, развитие которой не завершилось к началу XVIII в., сократилась, в то время как численность населения, напротив, увеличилась. Так, согласно подсчётам Черняковой, население Ребольского погоста с 1670-х по 1830-е гг. возросло почти вдвое (с 918 до 1 654 человек)97. В Паданском погосте количество дворов «после преодоления упадка рубежа XVII–XVIII веков» (168 жилых и 146 пустых) к началу 1760-х гг. выросло «более чем на 50%» (351 жилой)98. В Панозерском погосте количество дворов между 1707 (78 жилых и 50 пустых) и 1795 г. (311 жилых) также значительно увеличилось99.
Разрастание значительных по площади старинных приходов Семчезерского и Паданского погостов привело к тому, что на плечи местных клириков легли дополнительные заботы, ослаб и без того недостаточный контроль за духовной жизнью крестьян. Открытие на периферии погостов новых приходов допускалось исключительно по инициативе мирян, если они брали на себя все обязательства по обеспечению причта и содержанию храма100. Однако периферийные районы таких «размётистых» приходов превращались в места притяжения маргинальных приходских групп и тех, кто разделял либо сочувствовал идеям староверов и не собирался подавать подобные прошения. Ослабление архиерейского контроля создало благоприятную почву для возрождения здесь дохристианских обрядов и обычаев, распространения идей староверия, сосредоточению духовной жизни мирян в часовенных приходах. При этом предпринятые меры кардинально не решили проблемы материального обеспечения клира, напротив, упразднение «монастырских» приходов обернулось плачевными последствиями. Согласно приводимым Кожевниковой сведениям, многие монастырские храмы оказались в небрежении, священники с трудом справлялись с обязательствами по отправлению богослужений и совершению треб в приписных церквах. Из-за утраты церковных зданий многие обители в XIX столетии оказалось невозможно возобновить101.
Точечный характер мер и отказ от системной перекройки территорий приходских округов в пользу простого присоединения упразднённых приходов к соседним, экономически более жизнеспособным, либо укрупнения малых приходов за счёт расположенных на периферии отдельных групп поселений свидетельствует, с одной стороны, о явном нежелании архиереев разрушать исторически сложившуюся в регионе церковно-приходскую систему. С другой стороны, предпринятые меры отличались непоследовательностью и непродуманностью. Во многом это объяснялось тем, что иерархи слабо контролировали периферийную территорию и были плохо осведомлены о реальном положении дел. Прослеживая многочисленные изменения в церковно-административном подчинении приходов Олонецкого края, И. М. Покровский констатировал, что «обширный северо-западный край вокруг Онежского озера и почти всего Ладожского озера, от р. Онеги до истоков Кеми с озёрами» на протяжении XVIII столетия фактически «оставался без самостоятельного архиерея»102. С его точки зрения, «образованию постоянной самостоятельной Олонецкой епархии», помимо материальных и административных соображений, «по-прежнему мешали сильные новгородские владыки»103. Однако даже за 23 года существования Олонецкого и Каргопольского викариатства (1764–1787) контроль над паствой оставался поверхностным. Как отметила Кожевникова, введённый Петром I принцип постепенного восхождения по церковной иерархической лестнице и должностного продвижения иерархов по рангам епархий обернулся печальными последствиями: шесть владык сменили друг друга на должности викарного епископа, не успев вникнуть в суть давно назревших проблем104.
Высшее священноначалие и светские власти осознали факт широкого распространения в крае идей старообрядчества, развития обрядовой практики, не соответствовавшей церковным канонам, и обмирщения паствы в 1800–1820 гг.105 На существование «проблемных» периферийных зон стали докладывать начальству местные клирики и уездные духовные правления. Так, осенью 1800 г. Вытегорское духовное правление донесло, что в его «ведомстве… в Андоморецких жилищах в разных селениях имеются раскольники, коих мужеска пола душ сот до трёх, и не числятся ни в каком приходе»106. Два десятилетия спустя, в 1819 г., священники Паданского прихода Никифор Ефимов и Максим Петров в прошении, поданном на имя епископа Старорусского Амвросия, сообщали, что крестьяне трёх отдалённых деревень – Остречья, Шаравары и Чебинской – «никому духовенством не предназначены»107. В ходе следствия открылось, что «сверх сих деревень» не состояли «ни в каком приходе» миряне, проживавшие «около Повенца города в Боровской, Кодозерской и Верховской третях и деревне Лумбуши», всего «766 душ мужеска пола»108. Более того, обнаружилось, что жители этих селений, когда «раждаются у них дети… молитвословят и крестят… их сами, совершая сии обряды из среди самих себя» в имеющихся в тех селениях часовнях, а «женятся и венчаются у разных священников, потому и остаются без всякаго внесения в метрическия книги»109. При этом крестьяне деревень Шаравары и Чебиной прямо указывали, что «у них по старообрядству, ни у отцов и дедов их издревле священников не бывало»110.
Осознавая пагубные последствия предпринятых мер, епархиальные власти приступили к выработке иных способов поддержания благосостояния духовенства в малых по размерам приходах. Стала первостепенно значимой задача организации духовной миссии, которая едва ли была совместима с политикой упразднения приходов и вряд ли могла принести успех без реорганизации «размёстистых» приходов. Вопрос о поддержании каноничной православной веры среди населения, значимое влияние на духовную жизнь которого оказывали функционировавшие здесь крупнейшие центры старообрядчества, стал ключевым в политике Церкви. Начиная с середины 1810-х гг., ни один приход в Олонецком крае больше не был упразднён.
Таким образом, комплексное изучение исповедных ведомостей и делопроизводственной документации из канцелярии Олонецкой духовной консистории позволяет утверждать, что целая группа церковных приходов Олонецкого уезда подверглась реорганизации во второй половине XVIII – начале XIX в. Несмотря на то что подавляющее большинство исторически сложившихся в регионе приходов в середине 1760-х – середине 1770-х гг. не соответствовали установленному законодателем минимальному размеру в 100 дворов, местные архиереи не приступали к реорганизации малых приходов вплоть до середины 1760-х гг. Именно секуляризация крошечных карельских обителей 1764 г. спровоцировала целую серию мер, которые с конца 1760-х – 1770-х гг. были предприняты архиереями под давлением обстоятельств. Дело в том, что к этому времени в церковной жизни региона назрело множество проблем, остававшихся нерешёнными. В силу незавершённости процесса складывания церковно-приходской системы на протяжении XVIII столетия в регионе существовали разновеликие по числу дворов и поселений приходы. Поводы для беспокойства создавали неустойчивые в экономическом отношении «малые» приходы (72%), из которых к концу 1760-х гг. треть являлась «карликовыми» (менее 40 дворов), и небольшая прослойка раскинувшихся на сотни километров «размётистых», трудно управляемых приходов погостов-округов (более 200 дворов, 9%).
Секуляризация в 1764 г. карельских обителей, многие из которых не имели земельного фонда и крестьян, поставила «монастырские» приходы к концу 1790-х гг. на грань вымирания. Стремясь первоначально решить эту проблему, архиереи впервые воспользовались предоставленным им правом их реорганизации. Наряду с 11 «монастырскими» были упразднены и 5 мирских «карликовых» приходов. Часть «монастырских» приходов укрупнили за счёт кустов поселений смежных мирских приходов. В целом, меры носили точечный, непоследовательный характер.
Тем не менее их последствия вряд ли следует однозначно оценивать в негативном ключе. С одной стороны, архиереям удалось временно поправить благосостояние духовенства, был дан толчок серии начатых в 1790-х гг. практически значимых мер по уточнению границ как «размётистых», так и «малых» приходов с учётом интересов проживавших в них мирян. С другой стороны, поправить молитвенные здания и добиться кардинального улучшения материального положения духовенства не получилось. Более того, жёсткий контроль за возведением церквей на протяжении всего XVIII столетия, также как закрытие ряда приходов в северной Карелии, привели к необратимым последствиям для дальнейших судеб Русской Церкви в регионе. На протяжении трёх поколений и более жизнь мирян сконцентрировалась вокруг часовенных приходов, пробудился интерес к древним языческим верованиям и связанным с ним обрядам, расширилось влияние староверия. В следующем столетии именно этот, совершенно новый комплекс проблем, встал на повестку дня перед церковными иерархами.
1 Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. Казань, 1873. С. 275–277.
2 Там же. С. 279.
3 Freeze G. L. The Disintegration of Traditional Communities: The Parish in Eighteenth-Century Russia // The Journal of Modern History. Vol. 48. 1976. № 1. P. 32–42; Freeze G. L. The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century. Cambridge (Mass.); L., 1977. P. 149–152.
4 Freeze G. L. The Russian Levites… P. 112, 150–151.
5 Freeze G. L. The Disintegration of Traditional Communities… P. 36; Freeze G. L. The Russian Levites… P. 150.
6 Freeze G. L. The Disintegration of Traditional Communities… P. 42; Freeze G. L. The Russian Levites… P. 150–151, 153.
7 Freeze G. L. The Rechristianization of Russia: The Church and Popular Religion, 1750–1850 // Studia Slavica Finlandensia. 1990. № 7. P. 113.
8 Freeze G. L. The Disintegration of Traditional Communities… P. 41–42; Freeze G. L. The Russian Levites… P. 153–155.
9 Freeze G. L. The Disintegration of Traditional Communities… P. 34.
10 Зольникова Н. Д. Сибирская приходская община в XVIII веке. Новосибирск, 1990. С. 58.
11 Там же. С. 179.
12 Там же. С. 178–179.
13 Там же. С. 138.
14 Там же. С. 139.
15 Там же. С. 178.
16 Там же. С. 179–180.
17 Санников А. П. Православный приход Прибайкалья и его количественные характеристики в конце XVII – XVIII в. // Известия Иркутского государственного университета. Сер. Политология. Религиоведение. 2015. Т. 11. С. 222.
18 Там же. С. 223, 227.
19 Санников А. П. Первые архиереи Иркутской епархии // Известия Иркутского государственного университета. Сер. Политология. Религиоведение. 2013. № 2(11). С. 316; Санников А. П. Православный приход Прибайкалья… С. 223.
20 Санников А. П. Церковь, общество и государство на восточных окраинах Российской империи в XVII–XVIII веках. Иркутск, 2016. С. 89.
21 Там же. С. 91–102.
22 Камкин А. В. Традиционные крестьянские сообщества Европейского Севера России в XVIII веке. Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1993. С. 33.
23 Камкин А. В. Севернорусский сельский приход XVIII века: пространство, населенность, клир // Культура Русского Севера. Межвузовский сборник научных трудов. Вологда, 1994. С. 94, 97.
24 Камкин А. В. Традиционные крестьянские сообщества… С. 24.
25 Там же. С. 33.
26 Там же. С. 24, 36.
27 Там же. С. 34–35.
28 Камкин А. В. Севернорусский сельский приход… С. 105; Камкин А. В. Традиционные крестьянские сообщества… С. 35.
29 Пулькин М. В. Православный приход и власть в середине XVIII – начале XX в. Петрозаводск, 2009. С. 160, 247, 382–389.
30 Там же. С. 38.
31 Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой епархии во второй половине XVIII – начале XX в. Петрозаводск, 2009. С. 91–104; Кожевникова Ю. Н. Троицкий Юрьегорский монастырь и Юрьегорский приход // Святой преподобный Диодор Юрьегорский и созданный им монастырь. СПб., 2017. С. 118.
32 Тормосова Н. И. Каргополье: история исчезнувших волостей. Каргополь, 2011. С. 7.
33 Там же. С. 31.
34 Там же. С. 17, 34–35, 41–42
35 Чернякова И. А. .Карелия на переломе эпох: Очерки социальной и аграрной истории XVII века. Петрозаводск, 1998. С. 258, 264; Чернякова И. А. Сложные судьбы приграничья: Реболы и ребольцы – начальный период истории (XVI–XVIII вв.) // Россия и Финляндия в XVIII–XX вв. Специфика границ. Сборник статей. СПб., 1999. С. 182.
36 Чернякова И. А. Карельская периферия и государственное администрирование: от воеводской избы до губернского правления // Трансформация и интеграция: карельская периферия в Российской империи. СПб., 2021. С. 125.
37 Покровский И. М. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. Т. 2. XVIII в. Казань, 1913. С. 435–436.
38 Там же. С. 557.
39 Там же. С. 830.
40 Кораблёв Н. А. Эволюция административно-территориального устройства Карелии в XVIII–XX веках // Учёные записки Петрозаводского государственного университета. Сер. Общественные и гуманитарные науки. 2013. № 1(130). С. 14–15.
41 Зольникова Н. Д. Сибирская приходская община… С. 184–185; Freeze G. L. The Russian Levites… P. 112.
42 Суслова Е. Д. Традиционное территориальное устройство Андомского прихода Олонецкого уезда в первой половине XVIII столетия // Вестник ПСТГУ. Сер. II. История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 106. С. 56.
43 Freeze G. L. The Russian Levites… P. 113–114.
44 Ibid. P. 151–152.
45 Чернякова И.А. (Не)известная старая карта как источник о состоянии российско-шведской границы в конце XVIII века // Россия и страны Северной Европы: физические и символические границы. Сборник статей V Киркинесского международного семинара историков. Петрозаводск, 2016. С. 37–38.
46 Чернякова И. А. Алтарные посвящения приходских церквей как отражение православного менталитета крестьянина-карела дониконовской эпохи // Православие в судьбе Урала и России: история и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (18–20 апреля 2010 г.). Екатеринбург, 2010. С. 34–35.
47 Выставочные приходы охватывали территории волосток, расположенных на периферии погостов. В XVII–XVIII вв. выставочные церкви продолжали играть роль филиальных, т. е. находились в зависимости от погостских приходов. Тем не менее вследствие разрушения традиционной погостской системы выставочные приходы постепенно обретали самостоятельный статус. Подробнее см.: Селин А. А. Историческая география Новгородской земли в XVI–XVIII вв. Новгородский и Ладожский уезды Водской пятины. СПб., 2003. С. 44–45, 63–64.
48 Мошина Т.А. О Марциальноводском приходе и его священнике Стефане Назаретове // Марциальные Воды в истории Карелии и России. Материалы научной конференции (Петрозаводск, 12–13 сентября 2019 г.). Петрозаводск, 2019. С. 98; Пулькин М. В. «Корельские приходы» православной церкви в Кемском уезде (вторая половина XIX – начало XX в.) // Исторические судьбы Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2000. С. 26.
49 Суслова Е. Д. Церковно-приходская система… С. 84–85, 101.
50 Пулькин М. В. Приходы Заонежья во второй половине XVIII в. // Рябининские чтения-95. Сборник докладов международной научной конференции по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера. Петрозаводск, 1997. С. 279.
51 Пулькин М. В. Православный приход… С. 37, 41–42.
52 Там же.
53 Там же. С. 38. Обращение к тексту первоисточника – Ведомости 1797 г., составленной в Архангельской духовной консистории, – свидетельствует о допущенной опечатке: на территории Олонецкого викариатства на момент его объединения с Архангельской епархией стоял 241 храм (Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК), ф. 25, оп. 1, д. 1/1, л. 16).
54 Пулькин М. В. Православный приход… С. 41; Государственный архив Новгородской области, ф. 480, оп. 1, д. 908, л. 37; НА РК, ф. 25, оп. 11, д. 2/20, л. 19–24; д. 4/35, л. 1–13; оп. 15, д. 97/2079, л. 57–58; оп. 16, д. 10/13.
55 Суслова Е. Д. Церковно-приходская система… С. 31, 104.
56 Freeze G. L. The Russian Levites… P. 112–113.
57 С учётом сведений об упразднённых к концу 1780-х гг. приходах в Кумбосозере (Пудожье), Масельге и Гимолах (Лопские погосты). Сведения о новом приходе в Вокнаволоке (Лопские погосты), открытом в 1768 г., на данном этапе исследования не обнаружены, однако сам приход учтён (в графе «нет данных»).
58 ПСЗ-I. Т. 6. № 4072. С. 756; Т. 14. № 10665. С. 689.
59 ПСЗ-I. Т. 14. № 10665. С. 689.
60 Там же.
61 Freeze G. L. The Russian Levites… P. 114.
62 Камкин А. В. Севернорусский сельский приход… С. 96.
63 Там же. С. 95–96.
64 Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество… С. 86–99, 113, 292–293.
65 Там же. С. 91–92, 101–102.
66 Цит. по: Чернякова И. А. Проблема карельского языка в политике Церкви в Олонецкой губернии в XIX в. // Православие в Карелии. Материалы 2-й международной научной конференции, посвящённой 775-летию крещения карелов. Петрозаводск, 2003. С. 112.
67 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 78/906, л. 43–43 об.
68 Чернякова И. А. Сегозерье: от Средневековья к Новому времени // Деревня Юккогуба и её округа. Петрозаводск, 2001. С. 46.
69 Там же. С. 44.
70 Там же. С. 46.
71 Размеры площадей приведены по: Витов М. В. Историко-географические очерки Заонежья XVI–XVII вв. Из истории сельских поселений. М., 1962. С. 109.
72 Чернякова И. А. Проблема карельского языка… С. 101–102, 106.
73 ПСЗ-I. Т. 6. № 4122. С. 791.
74 Там же. С. 791–792.
75 Там же. Т. 9. № 8625. С. 669.
76 Там же. Т. 7. № 4988. С. 717.
77 Там же. Т. 19. № 13541. С. 177.
78 Там же. Т. 6. № 4072. С. 756.
79 Там же. Т. 14. № 10665. С. 689.
80 Там же.
81 Там же. Т. 20. № 14807. С. 753.
82 Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество… С. 91.
83 ПСЗ-I. Т. 16. № 12060. С. 558.
84 Freeze G. L. The Russian Levites… P. 151; Зольникова Н. Д. Сибирская приходская община… С. 120.
85 Freeze G. L. The Rechristianization of Russia… P. 105, 107; Чернякова И. А. Проблема карельского языка… С. 101.
86 Чернякова И. А. Сегозерье… С. 52; Пулькин М. В. Православный приход… С. 41; НА РК, ф. 2, оп. 61, д. 216, л. 36 об.
87 НА РК, ф. 25, оп. 15, д. 24/604, л. 70; д. 38/886, л. 260 об.; д. 97/2079, л. 58.
88 Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество… С. 82, 99, 113.
89 Там же. С. 91.
90 Там же. С. 92.
91 Там же. С. 95.
92 Кожевникова Ю. Н. Троицкий Юрьегорский… С. 116–118.
93 Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество… С. 96.
94 НА РК, ф. 25, оп. 1, д. 1/1, л. 86 об.; оп. 15, д. 3/68, л. 2 об.; д. 97/2079, л. 55–59 об., 61–62; оп. 17, д. 1/4, л. 2–5.
95 Там же, ф. 25, оп. 15, д. 24/604, л. 38; д. 38/886, л. 279.
96 Там же, оп. 1, д. 1/1, л. 85.
97 Чернякова И. А. Сложные судьбы приграничья… С. 193.
98 Чернякова И. А. Сегозерье… С. 54, 55–56.
99 Чернякова И. А. Панозеро и его обитатели: пять веков карельской истории // Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 41.
100 ПСЗ-I. Т. 14. № 10665. С. 690.
101 Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество… С. 104.
102 Покровский И. М. Указ. соч. С. 831.
103 Там же.
104 Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество… С. 26, 34.
105 Чернякова И. А. Проблема карельского языка… С. 101.
106 НА РК, ф. 25, оп. 16, д. 9/82, л. 1–1 об.
107 Там же, д. 28/39, л. 2.
108 Там же, л. 5.
109 Там же, л. 11–11 об.
110 Там же, л. 7–9.
Об авторах
Евгения Дмитриевна Суслова
Петрозаводский государственный университет, Гуманитарный инновационный парк
Автор, ответственный за переписку.
Email: otech_ist@mail.ru
Кандидат исторических наук, специалист
Россия, ПетрозаводскСписок литературы
- Витов М. В. Историко-географические очерки Заонежья XVI—XVII вв. Из истории сельских поселений / М. В. Витов. — Москва : Изд-во Московского ун-та, 1962. — 291 с.
- Зольникова Н. Д. Сибирская приходская община в XVIII веке / Н. Д. Зольникова. — Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1990. — 291 с.
- Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. Казань : Университетская типография, 1873. — 850 с.
- Камкин А. В. Традиционные крестьянские сообщества Европейского Севера России в XVIII веке : автореф. дисс. … докт. ист. наук / Александр Васильевич Камкин ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. — Москва, 1993. — 39 с.
- Камкин А. В. Севернорусский сельский приход XVIII века : пространство, населенность, клир / А. В. Камкин // Культура Русского Севера : межвуз. сб. науч. тр. Вологда, 1994. С. 91—108.
- Кожевникова Ю. Н. Троицкий Юрьегорский монастырь и Юрьегорский приход // Святой преподобный Диодор Юрьегорский и созданный им монастырь / [науч. ред. А. В. Пигин] ; Национальный парк «Водлозерский», Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. — Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2017. — С. 20—149.
- Кожевникова Ю. Н. Николаевская Андрусова пустынь. XVI—XX вв. / Ю. Н. Кожевникова. — Петрозаводск : Verso, 2017. — 400 с.
- Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой епархии во второй половине XVIII — начале XX в. / Ю. Н. Кожевникова. — Петрозаводск : Изд-во Спасо-Кижского Патриаршего Подворья, 2009. — 304 с.
- Кораблёв Н. А. Эволюция административно-территориального устройства Карелии в XVIII — начале XX века / Н. А. Кораблев // Учёные записки Петрозаводского гос. ун-та. Серия : Общественные и гуманитарные науки. — 2013. — № 1 (130). — С. 12—17.
- Мошина Т. А. О Марциальноводском приходе и его священнике Стефане Назаретове / Т. А. Мошина // Марциальные Воды в истории Карелии и России : материалы научной конференции (12—13 сентября 2019 г., Петрозаводск). — Петрозаводск: PERIODIKA, 2019. — С. 96—107.
- Покровский И. М. Русские епархии в XVI—XIX вв., их открытие, состав и пределы / И. М. Покровский. — Казань : Центральная типография, 1913. — Т. 2. XVIII в. — 892 с.
- Пулькин М. В. Православный приход и власть в середине XVIII — начале XX в. (по материалам Олонецкой епархии) / М. В. Пулькин. — Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2009. — 422 с.
- Пулькин М. В. «Корельские приходы» православной церкви в Кемском уезде (вторая половина XIX — начало XX в.) / М. В. Пулькин // Исторические судьбы Беломорской Карелии : сборник / Карельский научный центр РАН, Институт языка, литературы и истории ; [отв. ред. Ю. А. Савватеев]. — Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2000. — С. 26—36.
- Пулькин М. В. Приходы Заонежья во второй половине XVIII в. / М. В. Пулькин // Рябининские чтения-95 : сб. докл. международной научной конференции по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера. — Петрозаводск, 1997. — С. 279—285.
- Санников А. П. Первые архиереи Иркутской епархии / А. П. Санников // Известия Иркутского государственного ун-та. Серия : Политология. Религиоведение. — 2013. — № 2 (11). — С. 314—320. — URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=21029735. — (22.10.2020).
- Санников А. П. Православный приход Прибайкалья и его количественные характеристики в конце XVII—XVIII в. / А. П. Санников // Известия Иркутского государственного ун-та. Серия : Политология. Религиоведение. — 2015. — Т. 11. — С. 219—230. — URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=22986454. — (22.10.2020).
- Санников А. П. Церковь, общество и государство на восточных окраинах Российской империи в XVII—XVIII веках : монография / А. П. Санников. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 2016. — 311 с.
- Селин А. А. Историческая география Новгородской земли в XVI—XVIII вв. Новгородский и Ладожский уезды Водской пятины / А. А. Селин. — Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2003. — 493 с.
- Суслова Е. Д. Традиционное территориальное устройство Андомского прихода Олонецкого уезда в первой половине XVIII века / Е. Д. Суслова // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II : История. История Русской Православной Церкви. — 2022. — Вып. 106. — С. 44—61.
- Суслова Е. Д. Церковно-приходская система в Карелии конца XV — начала XVIII века : [Научное электронное издание] / Е. Д. Суслова ; науч. ред. И. А. Чернякова. — Петрозаводск : ПетрГУ, 2013. — 224 с. — URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34993448. — (02.10.2020).
- Тормосова Н. И. Каргополье: история исчезнувших волостей / Н. И. Тормосова. — Каргополь: Каргопольский музей, 2011. — 711 с.
- Чернякова И. А. (Не)известная старая карта как источник о состоянии российско-шведской границы в конце XVIII века / И. А. Чернякова, О. В. Черняков // Россия и страны Северной Европы: физические и символические границы : сб. ст. V Киркинесского международного семинара историков. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2016. — С. 34—52.
- Чернякова И. А. Алтарные посвящения приходских церквей как отражение православного менталитета крестьянина-карела дониконовской эпохи / И. А. Чернякова // Православие в судьбе Урала и России: история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции (18—20 апреля 2010 г.). — Екатеринбург, 2010. — С. 34—46.
- Чернякова И. А. Проблема карельского языка в политике Церкви в Олонецкой губернии в XIX в. / И. А. Чернякова // Православие в Карелии: материалы 2-й международной научной конференции, посвященной 775-летию крещения карелов / [отв. ред. В. М. Пивоев]. — Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2003. —С. 96—112.
- Чернякова И. А. Сегозерье: от средневековья к новому времени / И. А. Чернякова // Деревня Юккогуба и её округа / отв. ред. В. П. Орфинский. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2001. — С. 39—60.
- Чернякова И. А. Карелия на переломе эпох : Очерки социальной и аграрной истории XVII века / И. А. Чернякова. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 1998. — 295 с.
- Чернякова И. А. Сложные судьбы приграничья : Реболы и ребольцы — начальный период истории (XVI—XVIII вв.) / И. А. Чернякова // Россия и Финляндия в XVIII—XX вв. Специфика границы : сб. ст. / [ред. колл. Т. Вихавайнен и др.]. — Санкт-Петербург : Европейский Дом, 1999. — С. 182—205.
- Чернякова И. А. Панозеро и его обитатели : пять веков карельской истории / И. А. Чернякова // Панозеро : сердце Беломорской Карелии / Под ред. А. Конкка, В. П. Орфинского. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ ; Juminkekosäätiö, 2003. — С. 20—82.
- Чернякова И.А. Карельская периферия и государственное администрирование : от воеводской избы до губернского правления / И.А. Чернякова // Трансформация и интеграция : карельская периферия в Российской империи / науч. ред. И.А. Чернякова, Т.Г. Леонтьева, Ю. Корпела. — Санкт-Петербург : Наука, 2021. С. 107—138.
- Freeze G. L. The Disintegration of Traditional Communities : The Parish in Eighteenth-Century Russia / G.L. Freeze // The Journal of Modern History. 1976. Vol. 48. № 1. P. 32—50.
- Freeze G. L. The Russian Levites : Parish Clergy in the Eighteenth Century / [By] Gregory L. Freeze. — Cambridge, (Mass.); London: Harvard univ. press, 1977. — 325 p.
- Freeze G. L. The Rechristianization of Russia : The Church and Popular Religion, 1750—1850 / G.L. Freeze // Studia Slavica Finlandensia. 1990. № 7. P. 101—136.
Дополнительные файлы