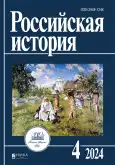Parish transformations and revolution, or Reformation of the Unreformable
- Authors: Gayda F.A.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 80-83
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268631
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040089
- EDN: https://elibrary.ru/FFJCHG
- ID: 268631
Cite item
Full Text
Abstract
The author examines the monograph by A.L. Beglov, dedicated to the evolution of the church parish in the history of Russia, and focuses primarily on the turbulent period of the early 20th century. At that time, the issue of parish reform acquired an acute political character. Two points of view emerged, essentially diametrically opposed: public and synodal. According to the author of the article, the politicization of the issue blocked a constructive discussion of ways to resolve the problem.
Full Text
А. Л. Беглов представил масштабную картину развития русского православного прихода и его кризиса, начавшегося ещё при создании синодальной системы и окончательно оформившегося после реформы 1808 г., означавшей его «закрепощение» (с. 81). Причём произошло это в тот момент, когда в верхах уже обсуждали проекты отмены крепостной зависимости. Готовил данное преобразование М. М. Сперанский1, выходец из духовного сословия, имевший репутацию либерала и никогда не пренебрегавший церковной и религиозной проблематикой2. Сопротивление же реформе оказывали в первую очередь помещики (с. 84). Поэтому нельзя не задуматься, сопровождалась ли она «закрепощением» в точном смысле этого слова, или же данное выражение употребляется автором скорее как метафора? Сам Беглов вслед за синодальным чиновником и публицистом конца XIX в. И. К. Зинченко поясняет, что речь шла о подчинении прихода «государственным интересам», которое сформировало «условия для долговременного кризиса прихода» (с. 99–101). Таким образом, по сути, происходило встраивание православной Церкви в структуры «регулярного государства». Однако со второй половины XIX в. в России наблюдался постоянно нараставший процесс социальной демократизации, затронувший в начале ХХ в. практически все сферы, кроме церковно-приходской, всегда демонстрировавшей удивительную, но весьма характерную для неё инертность. Возможно, православный приход вообще плохо поддаётся преобразованию, поскольку люди, связанные с ним, думают о реформах в самую последнюю очередь.
Но, как бы то ни было, в начале ХХ в. революционные настроения охватывали все части российского общества. Крестьянская община неожиданно для многих из консервативного института превратилась в зачинщика аграрных беспорядков. После «второй пугачёвщины» 1902 г. это стало очевидно уже всем. Миряне (в том числе те же крестьяне) не скрывали своей враждебности к духовенству (с. 371). При этом «приходская революция» в 1905–1907 гг. лишь усиливала ужас священнослужителей перед возможной реформой (с. 349) и делала её проведение в будущем максимально затруднительным. Ведь если в деревне можно было приступить к разрушению общинных порядков, что и делал П. А. Столыпин, то с приходами подобное обращение исключалось.
Как отмечает Беглов, архиереи возражали против непродуманных и неподготовленных экспериментов (с. 430), Синод выступил 18 ноября 1905 г. с компромиссным, по сути, определением, а рупор церковных реформаторов газета «Свет» резко его критиковала. На пике революционных событий 1905 г. общественные деятели не собирались идти ни на какие уступки (с. 370, 375–376).
Тем временем подготовка приходской реформы официально началась. Рассказывая про её обсуждение, Беглов вслед за членом Предсоборного присутствия адвокатом Н. Д. Кузнецовым различает сторонников «церковно-общественного» (славянофильского) и «институтного» (иерархического) подхода, отчасти напоминавшего католический, импонировавшего «синодальной бюрократии». Впрочем, большинство Предсоборного присутствия склонялось к компромиссу, при котором приходу предоставлялось бы необходимое самоуправление, но осуществлять его следовало под контролем архиерея (с. 487, 543–546). Собственно, и автор монографии видит в сочетании общественного и иерархического принципов оптимальное решение проблемы (с. 883).
Однако с 1907 г. дискуссия приобрела политический оттенок (с. 580), связанный со взаимоотношениями правительства и Государственной думы. Близкий к её октябристским лидерам Столыпин, а также лояльные ему министр юстиции И. Г. Щегловитов и министр народного просвещения А. Н. Шварц поддерживали славянофильский вариант, тогда как обер-прокурор Святейшего Синода П. П. Извольский и сменивший его на этом посту в 1909 г. С. М. Лукьянов отстаивали, скорее, взгляды священноначалия. Поставив в мае 1911 г. во главе духовного ведомства В. К. Саблера, премьер надеялся найти в нём сторонника, способного договориться с иерархами. Но в сентябре того же года Столыпин погиб, и Саблер повёл собственную политику (с. 620–628), вернувшись к тому, что архиереи предлагали ещё в 1890-е гг. (с. 221–247), но заведомо не приняли бы крестьяне 1910-х гг. (с. 747). Дума же теперь разрабатывала свои проекты без оглядки на Синод и его обер-прокурора (с. 702–704). Принципиальные разногласия касались прежде всего выборности духовенства и принадлежности приходского имущества3.
В 1916 г. петроградский митрополит Питирим (Окнов) неожиданно пошёл на соглашение с депутатами (с. 808–809). При этом владыка действовал в полном соответствии с политикой тогдашнего председателя Совета министров Б. В. Штюрмера и ближайшего окружения царя, попытавшихся в первой половине 1916 г. наладить отношения с либеральной общественностью4. Однако обер-прокуроры А. Н. Волжин, а затем и Н. П. Раев по-прежнему солидаризировались с большинством Синода и не отказались от курса Саблера (с. 770–775). В свою очередь, в общественных кругах столичного предстоятеля разоблачили как «распутинца» (с. 800).
Подводя итоги, Беглов указывает четыре причины неудачи приходской реформы: «ведомственная конкуренция», «нараставшая политизация», «отсутствие общественного консенсуса» и «единой воли», способной настоять на её проведении (с. 879–882). Из них, пожалуй, именно чрезмерная политизация имела решающее значение, блокируя любые конструктивные компромиссы. Но она же и привлекала внимание к спорам о так и не состоявшемся преобразовании, выводя их из тени, в которой полемика тянулась долгое время. Вероятно, всё же реформа как таковая не являлась панацеей, а её успех зависел от процессов, происходивших внутри самих приходов.
В 1917 г. «церковная революция» безусловно укрепила позиции прихожан. Поместный собор 1917–1918 гг. готовил «церковный термидор», но осуществить его помешала советская власть. При этом достаточно быстро православный приход стал основной опорой «тихоновской Церкви». Обновленцы, опиравшиеся на поддержку новой власти, ничего поделать с ним не смогли. В результате с 1929 г. начался разгром приходской организации. Однако в конце ХХ в. приходы, возрождаясь, в чём-то вновь обрели черты раннесоветского времени (с. 875–877), а затем всё больше становились похожи на допетровские. В заключении автор размышляет о том, смогут ли они влиять на жизнь современного общества? (с. 883–884). Но какие ещё легальные низовые объединения граждан существуют сейчас в России, кроме религиозных? Какие ещё общественные организации обладают такой широкой сетью?
1 Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. М., 2014. С. 196.
2 О религиозных взглядах М. М. Сперанского подробнее см.: Письма о духовной жизни епископа Феофана. СПб., 1872; Катетов И. Михаил Михайлович Сперанский как религиозный мыслитель. Казань, 1889; Ельчанинов А. В. Мистицизм М. М. Сперанского // Богословский вестник. 1906. № 1. С. 90–123; № 2. С. 207–245 (2-я пагинация); Кондаков Ю. Е. Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX в. СПб., 2005. С. 16–29; Парсамов В. С. Религиозные взгляды М. М. Сперанского и его реформы в начале 1810-х гг. // Российская история. 2023. № 4. С. 84–92; Гайда Ф. А. «Не упасть под бременем зол, человека давящих»: молодой М. М. Сперанский в его дневниках, письмах и проповедях (1786–1800) // Философические письма. Русско-европейский диалог. Т. 7. 2024. № 3. С. 203–216.
3 Гайда Ф. А. Совет министров о проблемах Православной Российской Церкви (1906–1914) // Вестник ПСТГУ. Сер. II. История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 57(2). С. 33–35.
4 Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти. 1914 – весна 1917 г. М., 2003. С. 182–183, 186, 219–220.
About the authors
Fyodor A. Gayda
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
Исторический факультет
Russian Federation, MoscowReferences
- Беглов А.Л. Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, реформы. М., 2021.
- Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти. 1914 – весна 1917 г. М., 2003.
- Гайда Ф.А. Совет министров о проблемах Православной Российской Церкви (1906–1914) // Вестник ПСТГУ. Сер. II. История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 57(2).
- Кондаков Ю.Е. Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX в. СПб., 2005.
- Парсамов В.С. Религиозные взгляды М.М. Сперанского и его реформы в начале 1810-х гг. // Российская история. 2023. № 4.
Supplementary files