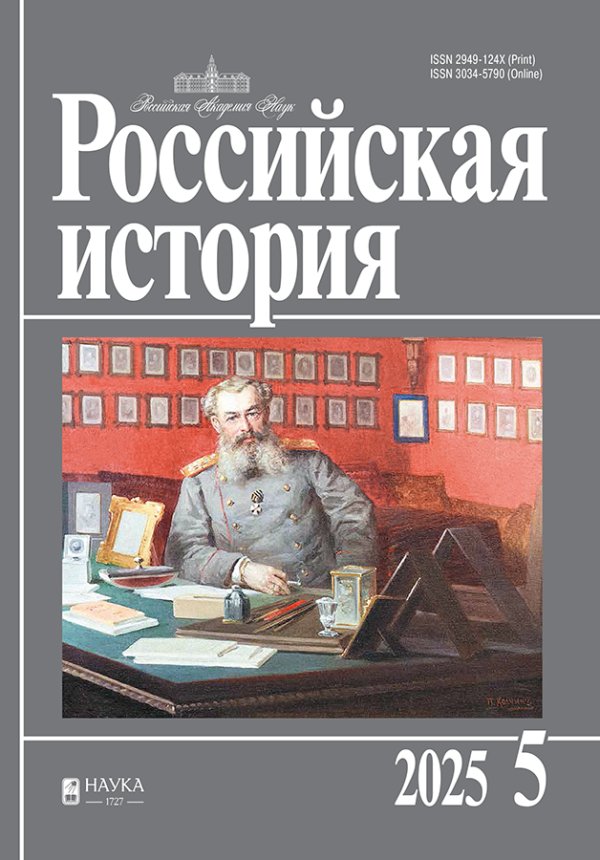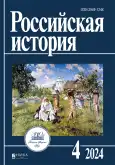Террор красных партизан по отношению к духовенству и верующим в годы Гражданской войны на юге Западной Сибири: опыт обобщения
- Авторы: Горбатов А.1,2, Мальцев М.3
-
Учреждения:
- Кемеровский государственный университет
- Алтайский государственный университет
- Кемеровская епархия Русской Православной Церкви
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 88-102
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268633
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040109
- EDN: https://elibrary.ru/FFHTWC
- ID: 268633
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье изложены результаты анализа драматического этапа истории РПЦ в период гражданской воины на территории Юга Западной Сибири. Опираясь на архивный материал и сведения из изданий начала XX в., а также труды сибирских историков, представлено исследование, рассматривающее причины гонений на духовенство, географическое распространение красной «партизанщины», связь анархо-синдикализма и террора, примерное количество погибших, последствия этих трагических событий. Выявлено, что погромы верующих и духовенства, грабеж и уничтожение молитвенных зданий шли повсеместно на всей территории юга Западной Сибири. Эскалацию террора усугубляло влияние анархистских идей среди командного состава партизанских отрядов, которые занимали по отношению к институту церкви и духовенству непримиримую, более радикальную чем большевики, позицию.
Ключевые слова
Полный текст
Тема отношения боровшихся с антибольшевистским режимом в Сибири красных партизан к Церкви и верующим продолжает оставаться одной из слабоизученных страниц отечественной истории. Принятие священнослужителями от партизан мученической смерти долгое время замалчивалось или подавалось исключительно как примеры справедливых актов возмездия над «кровавыми пособниками» А. В. Колчака, как ответная реакция на белый террор. Публикаций, посвящённых деятельности красных партизан (научных, публицистических и научно-популярных) вышло немало. Вместе с тем авторы, вне зависимости от своих научных взглядов и политических предпочтений, чаще всего констатировали факты, ограничиваясь короткими сентенциями: «нападали на богатых мужиков и сжигали церкви»1, «громили церкви»2, «жгли церкви»3. В этом ряду следует отметить работы И. В. Курышева4, который признаёт и приводит примеры массовых, «потрясающих своей жестокостью убийств священнослужителей» представителями различных партизанских отрядов, а также пытается выявить причины глубоких патологических изменений в сознании людей, которые произошли под влиянием ожесточённой борьбы, расколовшей общество.
Достаточно информативна статья А. П. Шекшеева. В ней на примере Енисейской губ. автор пытается выявить общие тенденции рассматриваемого явления5. Антицерковному террору и сексуальному насилию со стороны партизан Сибири и Дальнего Востока посвящены публикации А. Г. Теплякова6. Одной из первых работ о преследовании партизанами духовенства на примере Кузбасса является исследование авторов данной статьи7. Однако в целом указанная проблема ещё не стала предметом широкого научного изучения.
Опираясь на исследования сибирских историков и привлекая архивный материал, а также сведения из изданий начала XX в., мы рассматриваем причины гонений на священнослужителей на юге Западной Сибири (где, по мнению многих исследователей, в 1919 г. Гражданская война достигла своего пика), географическое распространение красной «партизанщины» и ход карательных операций, связь анархо-синдикализма и террора; устанавливаем примерное количество погибших; анализируем последствия этих трагических событий.
Трудность исследования вызвана, в первую очередь, скудностью, разрозненностью и малодоступностью документов. Большую помощь оказали материалы периодических изданий, выходивших на территории Западной Сибири в период Гражданской войны, а также мемуары партизан. При анализе письменного источника нами выявлялись обстоятельства его создания и возможные позднейшие поправки, устанавливалось авторство. Ценную информацию могут дать метрические книги, белогвардейская периодическая печать, материалы делопроизводства советских и партийных органов. Учитывалось, что на уровне обращений и оперативных сводок к фальсификации и искажению информации нередко прибегали обе стороны. В пропагандистской борьбе они руководствовались «готтентотской моралью», неизменно характеризуя противников «карателями и бандитами». Понятие «партизаны», наделявшееся уже положительной коннотацией, также фигурировало и у красных, и у белых.
Для публикаций советского периода характерна тенденциозность, цензурная выверенность публикуемых документов и фрагментированный характер информации. Канадский историк Н. Перейра резонно заметил, что «советские документальные коллекции и вторичные источники… слишком многочисленны, чтобы их можно было назвать, но они не являются ни убедительными, ни полностью надёжными из-за постоянной предвзятости к большевистским успехам и влиянию»8.
Причины гонений. Православная Российская Церковь в Западной Сибири в 1918–1919 гг. имела своеобразный автономный статус. Связи со священноначалием в Москве после Октябрьского переворота прервались, территории оказались отрезаны фронтами Гражданской войны. Руководство взяло на себя Высшее временное церковное управление (ВВЦУ) Сибири и Приуралья во главе с архиепископом Омским Сильвестром (Ольшевским). Новый церковный институт поддержал назначение адмирала Колчака Верховным правителем России и дал указание поминать на богослужениях государство Российское и его правительство. Также управление определилось со своей позицией по отношению к борьбе с красными, назвав войну «священной». Значительная часть священнослужителей Сибири вслед за ВВЦУ также открыто выступила на стороне противников большевиков9. Это вполне объяснимо: власти белых повсеместно аннулировали все большевистские запреты и ограничения, касавшиеся жизни православных общин, да и правительство Колчака обязалось содержать Церковь за счёт казны. Напомним, что в дореволюционный период она обладала юридическими и финансовыми привилегиями, выполняя при этом важные государственные функции. У многих служителей Церкви сложилось представление, что противники большевиков ведут борьбу за восстановление традиционного строя и точно не планируют их преследовать.
С противоборствующей стороны духовное сословие и приходской актив воспринимались как естественные союзники или непосредственные представители режима Колчака, автоматически попадая в лагерь «контрреволюции». Отягчающим обстоятельством служил факт формирования ВВЦУ Сибири в 1919 г. добровольческих подразделений нового типа – военных дружин Святого креста и Зелёного знамени. Их участники носили нашивной крест на груди (за что их в обиходе называли «крестоносцами»), показывая этим, «что они борются не за класс, а за веру, за христианство, против вероотступников, которые хотят истребить христианство»10. Дружины были одновременно воинскими частями и религиозными братствами, имели свой устав и небесного покровителя (например, св. Александра Невского). Все вместе дружины образовывали Братство святого креста11.
По данным белогвардейской «Нашей газеты», отделение Братства святителя Гермогена 12 положило начало добровольческому движению в Алтайской губ. Так, устроенный в Бийске крестный ход в особый «Крестоносный вечер» привлёк в дружины Святого креста более тысячи добровольцев13. По свидетельству профессора и философа, участника Белого движения Д. В. Болдырева, в Новониколаевске записалось за несколько дней 400 человек, в Томске – около тысячи. Главным возбудителем добровольческого движения служил подъём религиозного чувства под лозунгом борьбы за веру14. Касательно размаха движения крестоносцев и патриотического подъёма, на наш взгляд, вполне уместно резюме Е. В. Лукова и Д. Н. Шевелёва: «Превалировавший в оценках данных акций экстатический компонент заслонял их реальную значимость и эффективность. Колчаковская пропаганда видела в них некие рецепты быстрого и чудодейственного избавления от большевизма и соответствующим образом на них реагировала»15. Эти пропагандистские акции служили достаточно эффективным средством придания войне национально-религиозного характера. Стоит, однако, заметить, что личный состав добровольческих дружин «крестоносцев» состоял главным образом из гражданских беженцев Поволжья и Урала и крестьян, поэтому не обладал высоким военным потенциалом.
Верифицированных источников, подтверждающих факты участия священнослужителей в боевых действиях, практически нет. Пастырская деятельность военного священника выражалась в совершении богослужения, просветительских беседах с воинами, напутствовании больных и раненых, погребении убитых. Миф о боевых частях монахов и священников был создан в условиях отсутствия достоверной информации на огромной территории Сибири и распространился уже после окончания Гражданской войны. К примеру, Т. Н. Коголь говорила о создании «множества специальных военных формирований из числа клириков (служителей церкви): роты, отряды, батальоны»16. Т. М. Новикова утверждала, что «по инициативе омского архиепископа Сильвестра из священников и офицеров формировались полки (курсив наш. – Авт.), которым давали почётные наименования – “полк Иисуса”, “полк Богородицы”, “полк Ильи Пророка”»17. Сложно представить такую концентрацию в боевом подразделении офицеров и священников, учитывая, что в Русской армии 1919 г. только один полк включал в себя в среднем четыре батальона или 16 рот.
В советской историографии понятие «дружинник» трактовалось по-разному, вследствие чего у многих исследователей возникла некоторая методологическая путаница. Дружинниками называли представителей дружин Святого креста, создаваемых по инициативе антибольшевистских властей для отправки на фронт. Так же называли представителей дружин самообороны, которые формировались в сельской местности, наиболее подверженной нападениям красных партизан. Инициатива их организации исходила от самих крестьян, которые таким образом защищали свою собственность от разграбления. Организационные вопросы решались представителями сельской интеллигенции – волостными чиновниками, учителями, духовенством, за что они и преследовались партизанскими отрядами. В 1930-х гг. поводом для обвинительных приговоров в следственных делах НКВД часто служило «создание» дружин.
Противоборствующая сторона вменяла прихожанам в вину обсуждение декрета об отделении Церкви от государства, повлекшее беспорядки, лживую трактовку законов советской власти и даже произвол в «расценках» за требоисправления. Главным же было обвинение в контрреволюционной деятельности. «Попам» приписывали не только пособничество белым и составление доносов на партизан, но даже участие в физических расправах над большевиками. Кроме того, представители любой религии всегда являлись напоминанием о возможном возврате к старой (царской) системе ценностей, с которой новые власти стремились как можно быстрее покончить.
В воспоминаниях И. Я. Третьяка, командира Первой горно-конной партизанской дивизии, упоминается глава «контрреволюционного кулачества» в селе Куягана священник Сабенько, который послал в село Алтайское за кулацкой карательной дружиной. Затем он колоколом созвал всех крестьян в церковь и выступил с речью. После этого Сабенько повёл людей к волостному правлению, где кулацкая дружина выпорола плетьми и шомполами до 80 человек. Партизана Макрушина на глазах крестьян повесили на волостных воротах18. «В палаческой работе активную помощь казачеству и карателям оказывали кулаки и деревенское духовенство. Они составляли списки повстанцев и помогали им вылавливать семьи отступивших в горы», – вспоминал Третьяк19. Он упомянул о священнике А. Ливанове, который в 1918 г. выдал казакам бедняков, активно помогавших отряду красногвардейцев20. Факты выдачи своих противников (преследователей) в истории войн далеко не редкость, но сюжет о том, что священник после проведённой проповеди повёл своих прихожан в соседнюю деревню для физической расправы, представляется неправдоподобным. Документального подтверждения этой истории обнаружить пока не удалось.
Не менее фантастичным можно считать сообщение информационного листа революционного штаба Алтайской губ. от 2 сентября 1919 г: «Отрядом тов. Городецкого пойман отряд белых, из которых был один офицер, а остальные 9 – попы»21. Весьма вероятно, что беженцев духовного звания и бывшего офицера, покинувших неспокойную европейскую часть России, газета партизан в пропагандистских целях переквалифицировала в «отряд белых». В целом же свидетельства об активном участии священников в карательных акциях над сторонниками красных и сочувствующими единичны. Они нередко опирались на воспоминания многолетней давности, в большинстве случаев политически ангажированы и недостаточно документально подтверждены.
Е. Ярославский, будущий председатель Союза воинствующих безбожников, а в 1920–1922 гг. – член Сибирского бюро ЦК РКП(б), так пояснял причины и мотивы убийства священников партизанами: «Сибирь никогда не отличалась особенным религиозным фанатизмом деревни, как не отличалась она особенным радикализмом духовенства. В дни колчаковщины сибирские попы (не только русские) организовывали всякие “иисусовы полки”, “дружины святого креста”, “дружины зелёного знамени”, чтобы помочь Колчаку. Зато крестьяне-партизаны без особенного священного трепета “снимали челпаны”, попросту – рубили головы этим воинственным попам, когда те попадали им в руки»22. Ярославский указывал на связь духовенства с одним из главных врагов революции – кулаком и выявлял тенденцию к отходу от «веры своих отцов» наиболее обездоленных, пролетарских и полупролетарских слоёв деревни23. Через несколько страниц, противореча самому себе, он с нескрываемой досадой отмечал: «Из деревень доходят вести, что в некоторых, даже голодных местах собирают средства, чтобы строить новую церковь»24.
Стоит привести и позицию сибирского священника Петра Архангельского. В выступлении в селе Абаканск по вопросу об отношении к партизанам он отмечал: «Как поступать и вести себя священнику при нашествии на его приход большевистской банды, что в настоящее смутное время стало почти заурядным явлением? Не будем строго судить, кто из священников поступил в этих случаях правильно, согласно своему достоинству и сану; но полагаю, что те из них, которые не покинули приходов и остались на своём посту, не изменили своему долгу, и то гостеприимство, в котором они не отказали большевикам, нисколько не уронило их достоинства, ибо они поступили по евангельскому слову, которое обязывает нас принимать в дом свой, напоить и накормить всякого странника, кто бы он ни был»25. На наш взгляд, стоит разделять бескомпромиссную и воинственную позицию ВВЦУ и вышеприведённое миропонимание духовного наставника, слова которого, несомненно, для множества сибирских священников стали руководством к действию.
Сибирская «махновщина», «роговщина» и Церковь. О влиянии анархизма в сибирском партизанском движении упоминалось ещё в советской литературе 1930-х гг. Тогда использовалась терминология с экспрессивной окраской: «анархо-бандитские элементы, примазавшиеся к партизанскому движению»; «анархистски настроенные начальники отрядов»26. Нередко в научной литературе говорится о роли «зелёных» как «третьей силы», противостоявшей как большевикам, так и белогвардейцам, включавшей в себя, помимо командного состава и широко представленного крестьянства, самый разношёрстный контингент: казачество, кулаков, дезертиров, уголовщину и деклассированные элементы. В изменчивых обстоятельствах Гражданской войны это движение могло трансформироваться в красно-зелёное и бело-зелёное27. Как верно отмечают признанные специалисты по «партизанской» проблеме Н. С. Ларьков и В. И. Шишкин, «формально большинство партизан боролось за восстановление советской власти, понимаемой, правда, по-разному. Среди них были как сторонники “диктатуры пролетариата”, так и её противники. Но ещё больше партизан не хотело никакой власти и являлось носителями стихийного анархизма»28.
Новое осмысление роли анархистского движения в вооружённой борьбе сибирских партизан предложил в своей докторской диссертации А. А. Штырбул. Примечательно, что историк анархо-синдикализма и активный член анархистского профсоюза CNT Ф. Минц положительно оценил труд Штырбула, считая, что его исследование «пролило свет на этот регион (Сибирь. – Авт.) и его анархистскую историю, в то время как ранее был дан лишь набросок»29.
У современных российских анархистов прослеживается апологетика западносибирских командиров Г. Ф. Рогова, И. П. Новосёлова, П. К. Лубкова. Вместе с тем журналист и анархо-синдикалист И. А. Мангазеев признаёт, что партизаны не были ангелами, что священников убили роговцы, но при этом парирует, что «на каждого пострадавшего за Христа приходилось не менее десятка убитых бойцов отряда Рогова. Колчаковцы, бойцы “Дружин святого креста” и чоновцы убивали их сотнями». Автор не задумывался о том, что сравнивать убитых мирных жителей и комбатантов некорректно. На Прямухинских чтениях его доклад закончился следующей сентенцией, по сути, призывом: «На Алтае Рогову уже открыт памятник, а в Кузбассе – нет»30.
Штырбул отмечает, что в 1919 г. политическая деятельность анархистов среди крестьян в той или иной мере наблюдалась в Томской и Алтайской губерниях31. Он же фиксирует явственную тенденцию, которую выявляем и мы: очаги наиболее интенсивного красного бандитизма в основном совпадали с районами антиколчаковского партизанского движения, в которых было сильно влияние анархизма (Томская, Алтайская и Иркутская губернии). В документах сибирских и центральных партийно-советских органов районами наиболее интенсивного красного бандитизма назывались Томская губ. (Кузбасс и Мариинский уезд), вся Алтайская губ., Иркутская губ. (районы Иркутска и Черемхово), Ачинский и Минусинский уезды Енисейской губ. Если сопоставить эти данные с картой районов партизанского движения с сильным анархистским влиянием, то получится почти полное совпадение32. Следует добавить, что в советской историографии осень и зима 1919 г. считались периодом наивысшего подъёма партизанского движения в Сибири33. Тогда же, по нашим данным, наблюдался пик насилия над «церковниками».
Действительно, набеги партизан практически всегда осуществлялись в связке с уголовщиной и бандитизмом. Проправительственные газеты в 1919 г. регулярно сообщали о налётах «бандитских шаек». Они «хорошо одеты и вооружены, у них есть пулемёты и винтовки и у каждого, как говорят, по паре револьверов. Шайка эта, разъезжая по деревням на тройках, занимается исключительно грабежом и наводит такую панику на крестьян, что те беспрекословно дают им подводы как под членов шайки, так и под награбленное ею имущество», – замечала газета «Сибирская жизнь»34. Вооружённые отряды бродили по тайге, то соединяясь, то расходясь, нападали на небольшие воинские команды, отбирали продовольствие у кулаков и торговцев, раздавая определённую часть населению. Тактика действий налётчиков отличалась манёвренностью передвижения, что было обусловлено невозможностью долго оставаться в одном месте. Отряды кочевали по населённым пунктам, но при этом «старались держаться возможно ближе к тайге – на случай разгрома и бегства»35. Нередко партизаны во время набегов появлялись в форме Русской армии, выдавая себя за представителей правительственных сил. В отряды вливались и местные крестьяне, хорошо знавшие местность и жителей деревни или посёлка. При грабежах они скрывали лица масками36.
По воспоминаниям партизана В. Голева, Новосёлов и Рогов, конфискуя имущество у «белоручек», говорили: «Брать у “гадов” не только можно, но и нужно. Для этого и революцию мы творим… Ломай, громи всё старое, очищай землю от “гадов” – вот наша первая заповедь»37. Вместе с тем М. И. Вторушин отмечает, что особенностью практики красных бандитов из отрядов Рогова и Новосёлова было стремление обогатиться за счёт местного сельского населения. Так, угоняя крестьянский скот (в особенности лошадей) из Кузнецкого уезда, они продавали его в Мариинском, и наоборот38. Среди «благородных разбойников» немалая часть оказалась обыкновенными бандитами.
По воспоминаниям партизанского командира В. А. Булгакова, когда Рогова, Новосёлова, Возилкина и его самого доставили в Кольчугино, находившийся там командир дивизии РККА начал упрекать Рогова в том, что партизаны использовали предметы православного культа в бытовых целях. Рогов на допросе не отрицал факт разгрома, поджога церквей и использования церковного имущества, ссылаясь на отсутствие интендантской службы. «При входе стояло что-то вроде этажерки, на которой лежала очень грязная плащаница с сильно помятым лицом Христа. Её вид говорил за долгую службу под седлом партизана, заменяя войлок, сверху плащаницы лежали брюки из поповской ризы – дорогой золотой парчи. Вид их тоже говорил за сильную поношенность. На столе… лежал кисет из риз». Рогов ему ответил: «Если партизан взял эту вещь (плащаницу), то значит она ему необходима, у него не было войлока… Вам хорошо говорить, у вас интендантство, снабжающее вас обмундированием и снаряжением, а вот как бы вы вышли из положения, когда сотни и тысячи партизан оборвались, лазая по тайге, когда имеющаяся у них одежда не прикрывает голого тела. Комдив ни в коем случае не был согласен с этими его доводами и категорически доказывал неправильность его действия. Рогов категорически отвергал свою вину». Более того, выйдя из кабинета после допроса, партизанские вожаки начали подозревать командира дивизии в принадлежности к «белому» движению, искренне не понимая осуждение поджогов и разграбления храмов39. Это ещё раз демонстрирует, что уничтожение церквей и культовых предметов являлось для анархиствующих партизан делом естественным, не воспринималось ими как кощунство.
Грабежи и насилие над священнослужителями были неотъемлемыми элементами рейдов налётчиков. «Наша газета» констатировала: «Духовенство частью разбежалось, а частью, совершенно терроризированное, остаётся на местах и неоднократно подвергается ограблениям. Некоторых священников ограбляли по четыре раза»40. Показательным примером может служить трагическая история отца Филиппа Михайлова. Партизаны вымогали у него деньги и в итоге получили «контрибуцию» в 5 тыс. руб., пообещав после этого всей семье полную безопасность. Однако на следующий день они приехали ещё раз, вывели его за село и жестоко умертвили. «Сделав дело, вся компания отправилась обратно в село. Здесь принялись грабить принадлежащее священнику имущество; тащили ковры, шубы, подушки; ломали шкафы, ящики; приглашали к грабежу также и местных обывателей, и многие из них этим делом занялись с удовольствием»41.
20 октября 2007 г. в селе Хмелёвка Заринского района Алтайского края состоялось открытие мемориальной доски в память об уроженце Алтая Григории Рогове. На официальном сайте Алтайского края отмечено, что «ещё при жизни отношение к нему было неоднозначным, случалось, что бандитом его именовали и белые, и красные. Однако колчаковские власти признавали, что лично Рогов никакого участия в грабежах и бесчинствах не принимал, а о его высоких командирских качествах с уважением отзывались и те и другие. Рогова неслучайно называют “алтайским Чапаевым”, его рейд на территорию нынешней Кемеровской области вполне сравним с будущими рейдами другого крестьянского вожака – Сидора Ковпака»42. Создатели мемориальной доски считают необоснованными обвинения в адрес Рогова, который якобы хотел поднять в Сибири после прихода туда Красной армии «крестьянское анархическое восстание под чёрным знаменем»43.
Действительно, «роговская» дискуссия ещё далека от разрешения. В определённых кругах российского общества присутствует стремление к восстановлению исторической справедливости, заключающееся в том, что Рогов оболган относительно жестокости, насилия, убийств и грабежей. Признаём, что есть разные трактовки событий. Вместе с тем приведём ещё несколько фактов из источников «красного лагеря».
В декабре 1919 г., когда Рогов формально ещё поддерживал большевиков, командование Мариинской группы войск из села Салаир направило штабу западносибирской крестьянско-рабочей партизанской армии следующее донесение: «Нам по пути попадается масса партизан тов. Рогова, которые везут целые возы награбленного имущества, которых нас заставляет необходимость арестовывать. Все церкви [по] пути ограблены, а из риз понашиты кисеты, подсидельники и даже брюки. Население страшно возмущено. Дайте в срочном порядке сообщение, как нам с такими негодяями поступать и куда их препровождать»44. Подчеркнём, что это служебное сообщение, а не часть воззвания к населению.
Один из организаторов советской власти в Сибири, член Сибирского революционного комитета В. М. Косарев писал в ЦК РКП(б) не ранее 4 февраля 1920 г.: «Отряд Рогова был самый ненадёжный. Сам Рогов – крестьянин, но его правая рука – Новосёлов – анархист. Ядро этого отряда – “анархисты”, бежавшие из тюрем уголовные и разная авантюристская публика. За этим отрядом числится немало грехов. Они изрядно грабили, пьянствовали, разрушали церкви, одевали парчой своих лошадей, шили из поповских риз штаны, кисеты и прочее, причём уверяли, что крестьяне не только [не] протестовали, но “сами” помогали разрушать церкви»45. Помощник командира взвода Савин отмечал в агентурной сводке: «Узнал от граждан деревни Бажиной, что в районе с[ёл] Залесово и Сорокино ездят роговские отряды с чёрным флагом и с надписью: “Да здравствует анархия”. Главные организаторы анархии – Рогов, Новосёлов, Леонов и Возилкин… [Мы] узнали от крестьян с[ела] Сорокино, что у них роговцы ограбили почту и искали председателя волревкома, хотели его убить за неправильные поступки, но не нашли. В селе Хмелёвка убили попа и говорили, что мы де уничтожаем всех попов и белоручек»46.
В 1920 г. боевая комиссия алтайской федерации анархистов в составе Леонова, Новосёлова, Рогова и Габова в воззвании к крестьянам и рабочим Алтайской губ. отчётливо указывала на своих противников: «Вооружайтесь против насилия и обмана, товарищи крестьяне и рабочие… Мы боремся лишь в защиту труда, а врагами труженика видим, самое главное, власть, собственность и религию (курсив наш. – Авт.). Наш долг перед революцией – освободиться от всего этого. А как мы и видим врагом революции не личность, а условия, поэтому против личности же мы поднимаем оружие только тогда, когда последние вооружаются против нас оружием или ложью и обманом»47.
На Алтае, судя по обширной прессе и даже учитывая её специфику как источника противоборствующей стороны, террор по отношению к священникам и верующим носил более массовый и целенаправленный характер. Так, газета «Русский голос» 27 октября 1919 г. сообщала, что «по официальным сведениям местного епархиального совета, в пределах Томско-Алтайской епархии до 1 октября текущего года большевиками убиты: 6 протоиереев, 4 иеромонаха, 29 священников, 1 диакон и 7 псаломщиков. Некоторые из этих священнослужителей зарыты живыми в землю (священник села Большой Речки Барнаульскаго уезда Александр Скворцов), некоторые зарезаны (иеромонахи Александро-Невской пустыни в Барнаульском уезде Питирим, Феогност и Филарет, священник с. Кочковского Барнаульского уезда Дуплев), большинство же были расстреляны. Убиты, кроме того, 2 жены протоиереев и 1 жена священника»48. Барнаульское издание «Время» в номере от 12 ноября 1919 г. в подробностях описало зверское убийство бандой Рогова священника Василия Закурдаева в селе Дмитро-Титовском. «Кроме двух дружинников и казначея» ими были убиты 14 мирных жителей (подробный список казнённых прилагался)49.
Красноречиво свидетельствуют о преступлениях банды Рогова–Новосёлова некоторые воспоминания партизан. В селе Драченино (современный Ленинск-Кузнецкий район) кулаки во главе со священником убили двух коммунаров Новосёлова, отряд которого в апреле или мае 1919 г. «загнал купца, попа и кулаков этого села в церковь и сжёг их в отместку за убитых товарищей»50. В селе Кольчугино и на близлежащем руднике в декабре 1919 г. партизаны «без суда перебили торговцев, милиционеров, служащих рудника, убили много других. На площади и на улицах валялись трупы, роговцы не разрешали их убирать… Первым делом подожгли церковь, она пылала весь день. Попа остригли, раздели и на улице всенародно казнили… Ризами покрыли лошадей, сами нарядились в духовные облачения и, горланя песни, разъезжали по селу и руднику. Они врывались к служащим, крестьянам, рабочим, забирали у них шубы, валенки, часы, одежду, одеяла, подушки и другие вещи… Протестовавших убивали»51. Пьяные анархисты громили, стреляли и рубили случайных безвинных людей. И. И. Бугров, партизан из отряда Рогова, откровенничал: «В Кузнецке напрасно мы сожгли церковь, белые были уже в разгроме, но этому делу помог пьяный разгул»52.
Приведённые факты убедительно показывают, что банда Рогова–Новосёлова целенаправленно преследовала, грабила и истребляла священнослужителей и приходской актив, и это, на наш взгляд, сложно оспорить.
Примечательно, что Главный штаб Зиминского восстания, окружённый со всех сторон колчаковскими войсками, 13 августа 1919 г. принял на съезде резолюцию, поддержанную делегатами из 36 сёл Алтайской губ., которая указывает на достаточно лояльное отношение партизан к религиозному вопросу: «Кто хотит из товарищей совершать обряды по-граждански, тот может записаться в Совете в метрические книги со свидетелями, а кто хотит по-старому, тот может идти к священнику»53. Такая терпимость к вопросам веры у отрядов, где присутствовало влияние радикальных анархистов, документально не подтверждается.
Скорбный мартиролог. Крестьянская «партизанщина» была направлена на физическое уничтожение всех, с кем ассоциировался образ «врага». Помимо тех, кто оказывал вооружённое сопротивление (офицерство, казачество, милиция, добровольцы), преследовались «белоручки»: буржуазия, интеллигенция, духовенство. Среди учёных нет единства относительно количества жертв от рук партизан. Собранные нами данные об убийствах представителей духовенства и мирян были взяты из метрических книг, периодической печати того времени, документов из фондов Российского правительства адмирала Колчака, воспоминаний участников событий. В предыдущей работе 54 мы предложили обобщённые данные количества жертв партизан в 1919 г. на территории Кузбасса: 26 человек, в том числе 18 священнослужителей. В таблице представлена информация об убитых из разных сибирских регионов, входивших в то время в состав Томской епархии.
Таблица
Священники, церковнослужители и миряне, убитые партизанами на территории Томской епархии в 1918–1919 гг.
№ | Ф.И.О. | Духовный сан / должность | Место служения | Дата гибели* | Обстоятельства убийства, отряд |
1 | Альферьев Дмитрий Константинович | иерей | село Зиминское, Барнаульский уезд | 20 июля 1919 г. | |
2 | Аркатовский Алексей | иерейбеженец | село Хабаринское, Барнаульский уезд | около 20 июля 1919 г. | |
3 | Бонин Иоанн Николаевич | иерей | село Верх-Красноярское, Каинский уезд | июль 1919 г. | убит после истязаний |
4 | Быстрова Мария | супруга протоиерея | село Кыштовка, Каинский уезд | 1919 г. | |
5 | Вангаев Сергий Иванович | иерей | село Ново-Троицкое, Каинский уезд | июль 1919 г. | |
6 | Воинов Иоанн Сергеевич | иерей | Каинский уезд | 1919 г. | |
7 | Волянский Андрей | иерей | село Больше-Косульское, Мариинский уезд | 15 августа 1919 г. | убит в храме во время богослужения |
8 | Громов Сергий Анемподистович | иерей | село Осколковское, Барнаульский уезд | около 20 июля 1919 г. | |
9 | Донорский Павел Николаевич | протоиерей | село Мироновское Барнаулький уезд | 22 июня 1919 г. | зарезан отрядом Г. Рогова |
10 | Дуплов (Дуплев) Анатолий | иерей | село Кочковское Каменский уезд | 25 августа 1919 г. | обезглавлен |
11 | Евстратьев Феодор Петрович | псаломщик | село Мочищенское, Томский уезд | 11 марта 1918 г. | |
12 | Закурдаев Василий Иовлевич | иерей | село Дмитрово-Титово, Барнаульский уезд | октябрь 1919 г. | убит после истязаний отрядом Рогова |
13 | Конинин Феодор Алексеевич | иерей | село Мало-Панюшевское, Барнаульский уезд | около 20 июля 1919 г. | |
14 | Красносельский Михаил Васильевич | протоиерей | село Тогул, Бийский уезд | 22 июня 1919 г. | убит после истязаний отрядом Рогова |
15 | Любуцкий Александр | иерей | село Троице-Пышкинское, Томский уезд | 15 апреля 1919 г. | убит отрядом П. Лубкова |
16 | Мануйлов Александр Александрович | выпускник семинарии, псаломщик | село Тогул, Бийский уезд | 1919 г. | убит отрядом Рогова |
17 | Мануйлов Александр Ильич | протоиерей | село Озерно-Титовское, Барнаульский уезд | 22 июня 1919 г. | убит после истязаний отрядом Рогова |
18 | Нешумов Иоанн Павлович | иерей | село Тогул, Бийский уезд | 1919 г. | убит отрядом Рогова |
19 | Никольский Виктор Иванович | село Сорокино, Барнаульский уезд | октябрь 1919 г. | убит отрядом Рогова | |
20 | Одеров Фёдор | иерей | село Жерноковское, Змеиногорский уезд | 14 января 1919 г. | застрелен |
21 | Остроумов Пётр | иерей | село Корниловское, Барнаульский уезд | июль 1919 г. | |
22 | Павлов Алексей Андреевич | протоиерей | село Чистюньское, Барнаульский уезд | 20 июля 1919 г. | |
23 | Петропавловский Николай Фёдорович | протоиерей | село Белоглазовское, Змеиногорский уезд | около 20 июля 1919 г. | |
24 | Питирим | иеромонах | Александро-Невская пустынь, Барнаульский уезд | 22(18) июня 1919 г. | убит отрядом Рогова |
25 | Попов Илья Иоаннович | иерей | село Вознесенское, Барнаульский уезд | июнь 1918 г. | |
26 | Сёмин Василий Макарович | иерей | село Вяткинское, Барнаульский уезд | около 20 июля 1919 г. | |
27 | Серафим | иеромонах | село Орлово Каинский уезд | август 1919 г. | |
28 | Скворцов Александр Венедиктович | иерей | за штатом | 1919 г. | живым закопан в землю |
29 | Смельский Василий Викторович | иерей | село Солоновка, Барнаульский уезд | июнь 1919 г. | |
30 | Стефановский Михаил Данилович | псаломщик | село Жуланиха, Барнаульский уезд | 22 июня 1919 г. | после истязаний убит отрядом Рогова |
31 | Ушаков Ювеналий Васильевич | диакон | село Чистюньское, Барнаульский уезд | 20 июля 1919 г. | |
32 | Фавстрицкий Пётр Алексеевич | иерей | село Лушниковское, Барнаульский уезд | 3 августа 1919 г. | убит после истязаний |
33 | Феогност | иеромонах | Александро-Невская пустынь, Барнаульский уезд | 22(18) июня 1919 г. | убит отрядом Рогова |
34 | Филарет | иеромонах | Александро-Невская пустынь, Барнаульский уезд | 22(18) июня 1919 г. | убит отрядом Рогова |
35 | Цветков Иоанн Васильевич | иерей | село Чистюньское, Барнаульский уезд | 20 июля 1919 г. | |
36 | Челмодеев Илья Николаевич | псаломщик | село Черновское, Каинский уезд | 12 мая 1919 г. | расстрелян |
37 | Чирков Александр Ильич | псаломщик | село Белоглазовское, Змеиногорский уезд | около 20 июля 1919 г. | |
38 | Шаров Михаил Семёнович | иерей | село Романовское, Барнаульский уезд | около 20 июля 1919 г. | |
39 | Шукшин Иоанн Амфилохиевич | протоиерей | село Хмелевское, Барнаульский уезд | июль 1919 г. | убит отрядом Рогова |
40 | Шукшина Мария | супруга протоиерея | село Хмелевское, Барнаульский уезд | июль 1919 г. | убит отрядом Рогова |
41 | Юловский Иоанн Владимирович | иерей | село Колпаковское, Барнаульский уезд | около 20 июля 1919 г. | |
42 | Яковлев Павел Яковлевич | иерей | село Дороховское, Томский уезд | 15 апреля 1919 г. | убит отрядом Лубкова |
43 | Яцентный (Яцентый) Иоанн | псаломщик | село Чердатское, Мариинский уезд | май 1919 г. |
Составлено по: Томский церковно-общественный вестник. 1918. № 21. 13 июня; Сибирская жизнь. 1919. № 165. 8 августа; № 211. 5 октября; Енисейский вестник (Красноярск). 1919. № 229; Русский голос (Томск). 1919. № 1. 27 октября; Томские епархиальные ведомости. 1919. № 12, 15–6; Русская речь (Новониколаевск). 1919. № 168, 207, 211; Алтайские губернские ведомости. 1919. № 207, 208; Вестник Змеиногорска. 1919. № 62; Свободная речь (Семипалатинск). 1919. № 338. 2 февраля; Правительственный вестник (Омск). 1919. № 253. 9 октября; Голос армии (Омск). 1919. № 4. 1 октября; ГА АК, ф. Р-483, оп. 1, д. 10, л. 3; д. 119, л. 13–14. ГА НО, ф. П-5, оп. 2, д. 1161, л. 3, 17; д. 1165, л. 8; д. 1166, л. 49–50.
* Даты приведены по старому стилю.
Основным объектом агрессии (согласно данным таблицы) служили священнослужители. По документально подтверждённым данным казнили 33 человека. Но жертв могло быть больше. Так, в воспоминаниях Е. Л. Куртукова упоминается, что в конце августа 1919 г. при налёте роговцев на Салаир погибли председатель земской управы и священник55, однако их фамилии не указаны. Сообщения о расправах над представителями духовенства присутствуют в других воспоминаниях очевидцев и участников партизанских рейдов, но идентифицировать погибших сложно, есть опасность дублирования информации. Многие священно- и церковнослужители во время Гражданской войны покинули свои приходы или пропали без вести, что без верифицированных источников не позволяет внести их в список. Подсчёт жертв партизанского террора также затрудняет прибытие в Сибирь большого количества беженцев духовного звания, которые вне штата служили в приходах и могли быть также убиты. В 1914 г. (за следующие годы данные отсутствуют) в Томской епархии насчитывался 1 901 священно-церковнослужитель, т. е. псаломщики, диаконы, иеродиаконы, протодиаконы, иереи, протоиереи, иеромонахи, игумены и архимандриты56. Можно предположить, что в 1918–1919 гг. численность причта увеличилась за счёт беженцев, отступавших вместе с Белой армией с Урала, особенно с Пермской епархии. Кроме того, массовые убийства фиксировались не во всех регионах огромной Томской епархии, а в большей степени на территории современных Кузбасса и Алтайского края.
Говоря об обстоятельствах и способах убийства, чаще всего в источниках упоминается, что жертва практически без какого-либо сопротивления была зарублена шашками, заколота штыком, реже – застрелена. Упоминаются «рубка голов» или «снимание чулпанов57» (обезглавливание58), а также казни с особой жестокостью. Документальные источники свидетельствуют, что среди партизан, в том числе и роговцев, находились не только опасные рецидивисты-уголовники, но и патологические садисты.
Как правило, вместе с убийствами приходского священника, диакона, псаломщика партизаны сжигали молитвенное здание, которое они предварительно подвергали грабежу. Уничтожались и колокольни, считавшиеся важными опорными оборонными пунктами. Примечательно, что большевики обвинили роговских партизан в разрушении и сожжении 96 церквей. «В конце концов это превратилась в эпидемию», – вспоминал В. А. Булгаков59. Считаем, что эти количественные данные требуют дополнительной проверки.
Информация, почёрпнутая в разных источниках, нередко разноречива, может отличаться в деталях, но создаёт общую картину и показывает глубокий трагизм происходившего. Тяжесть положения семей репрессированных ярко иллюстрирует следующий эпизод. 17 декабря 1919 г. роговцы сожгли Покровскую церковь в селе Кольчугинском Кузнецкого уезда и зверски расправились со священником Василием Никодимовым. Он имел горнорудную специальность и помимо службы в храме был консультантом на Кольчугинском руднике60. На руках вдовы остались семь сирот, и вскоре после гибели мужа она лишилась рассудка.
Красное партизанское движение в Западной Сибири получило широкое географическое распространение, коснулось всех уездов юга Сибири и продолжалось около двух лет. Сосредоточение анархистских элементов в повстанческих отрядах привело к росту насилия по отношению ко всем, кто ассоциировался с прежней властью, в том числе к духовенству и церковным активистам. Немалую роль играл субъективный фактор: особенности психолого-личностных характеристик и мировоззренческих установок командиров партизанских отрядов.
По неполным данным и нашим приблизительным подсчётам, от рук партизан в 1918–1919 гг. погибли около ста представителей духовенства и служителей Церкви на юге Западной Сибири. Партизаны сожгли до полусотни храмов и других церковных построек, их грабежи нанесли существенный урон экономической жизни приходов. Численность служителей Церкви сократилась, многие покинули Западную Сибирь.
Преследование и истребление духовенства, грабежи и поджоги церквей оказывали мощное морально-психологическое воздействие, прерывали или прекращали регулярное функционирование приходов, что приводило к дезорганизации института Церкви и крайне болезненно воспринималось верующими. Неоднократно упоминающиеся в советской и современной научной литературе факты участия священнослужителей в карательных мероприятиях и военных столкновениях практически не имеют документальных оснований. Приближение к достоверной фактической картине Гражданской войны в различных измерениях, в том числе к проблеме террора красных партизан по отношению к духовенству и верующим, позволило снять некоторые вопросы и, разумеется, поставило новые.
1 Фёдоров А. Ю. Революционная эпопея анархистов Григория Рогова и Ивана Новосёлова // Великая Российская революция 1917–1921: либертарный взгляд. Прямухинские чтения 2017 года. М., 2018. С. 340.
2 Штырбул А. А. Анархистское движение в Сибири (первая четверть XX века). Дис. … д-ра ист. наук. Омск, 1997. С. 304.
3 Ларьков Н.С., Шишкин В. И. Партизанское движение в Сибири во время Гражданской войны // Власть и общество в Сибири в XX веке. Вып. 4. Новосибирск, 2013. С. 101.
4 Курышев И. В. Из истории партизанского террора в Западной Сибири (1918–1920 гг.): социально-психологический аспект // Клио. 2006. № 2(33). С. 155–157; Курышев И. В. Печать о социально-психологическом облике участников партизанского движения в Западной Сибири (весна–осень 1919 г.) // Национальные приоритеты России. 2013. № 1(8). С. 8–17.
5 Шекшеев А. П. Красные партизаны и религия на Енисее // Сибирский крест. Историко-публицистический альманах. Красноярск, 2021. С. 312–325.
6 Тепляков А. Г. Антицерковный террор партизан Сибири и Дальнего Востока в годы Гражданской войны // Государство, общество, церковь в истории России ХХ–XXI веков. Материалы XIV международной научной конференции. Иваново, 2015. С. 563–570.
7 Горбатов А.В., Мальцев М. А. Православные общины и партизанское движение в Кузбассе в 1919 году // Научный диалог. 2021. № 1. С. 224–240.
8 Pereira N.G.O. The Partisan Movement in Western Siberia, 1918–1919 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd. 38. 1990. H. 1. S. 87–97.
9 Коголь Т. Н. Православная Церковь Сибири в период гражданской войны // Вестник Томского государственного педагогического университета. 1997. Вып. 1. С. 11.
10 Наша газета (Томск). 1919. 19 августа.
11 Гагкуев Р. Г. Дружины Святого креста и Зелёного знамени – последний резерв адмирала А. В. Колчака // Известия Лаборатории древних технологий. 2016. № 3. С. 71.
12 Патриарх Московский и всея России Гермоген (Ермоген) (ок. 1530–1612 гг.), благословивший освободительную войну русского народа в Смутное время и принявший мученическую смерть (умер от голода в заключении, не дождавшись освобождения Москвы). Обращение к образу патриарха Гермогена настраивало не на смиренное несогласие с политикой большевиков, а на активный социальный протест.
13 Наша газета. 1919. 23 октября.
14 Там же. 13 октября.
15 Луков Е.В., Шевелёв Д. Н. Осведомительный аппарат белой Сибири: структура, функции, деятельность: июнь 1918 – январь 1920 г. Томск, 2007. С. 172.
16 Коголь Т. Н. Православная Церковь… С. 13.
17 Новикова Т. М. Православная церковь и правительство А. В. Колчака // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2010. № 4(44). С. 271.
18 Третьяк И. Я. Партизанское движение в Горном Алтае в 1919 году. Новосибирск, 1933. С. 44.
19 Там же. С. 53.
20 Там же. С. 161.
21 Партизанское движение в Западной Сибири в 1918–1919 гг. Партизанская армия Мамонтова и Громова. Сборник документов. Новосибирск, 1936. С. 110.
22 Ярославский Е. По Сибири (Внутреннее обозрение) // Сибирские огни. 1922. № 3. С. 141.
23 Там же. С. 140–141.
24 Там же. С. 145.
25 Енисейские епархиальные ведомости. 1919. № 9–10. С. 13–15.
26 Партизанское движение в Западной Сибири… С. 18, 19.
27 Посадский А. В. Зелёное движение в Гражданской войне в России: крестьянский фронт между красными и белыми, 1918–1922 гг. М., 2018.
28 Ларьков Н.С., Шишкин В. И. Партизанское движение в Сибири… С. 91.
29 Mintz F. A Siberian Makhnovshcina? // Organise! The Magazine of the Anarchist Federation. 2003. № 62. P. 15.
30 Мангазеев И.А. «Односторонне и неполно…». Образ Григория Рогова в западносибирской печати (1918–2018) // Великая Российская революция 1917–1921… С. 363–364.
31 Штырбул А. А. Анархистское движение… С. 301.
32 Там же. С. 425.
33 Мирзоев В. Г. Партизанское движение в Западной Сибири (1918–1919 гг.). Кемерово, 1957. С. 83.
34 Сибирская жизнь (Томск). 1919. 23 января.
35 Государственный архив Новосибирской области (далее – ГА НО), ф. П-5, оп. 2, д. 1166, л. 117.
36 Сибирская жизнь. 1919. 20 сентября.
37 Штырбул А. А. Анархистское движение… С. 321.
38 Вторушин М. И. Красный бандитизм в Сибири как форма революционного терроризма: в 1919–1923 гг. // Научный вестник Омской академии МВД России. 2013. № 1(48). С. 69–73.
39 Государственный архив Алтайского края (далее – ГА АК), ф. Р-483, оп. 1, д. 74, л. 102–103.
40 Приходская жизнь уездов // Наша газета. 1919. № 17.
41 Томские епархиальные ведомости. 1919. № 12. С. 138–142.
42 В селе Хмелёвка (Заринский р-н) состоялось открытие мемориальной доски участнику Гражданской войны Григорию Рогову (URL: https://www.altairegion22.ru/region_news/31852.html).
43 Увековечено имя алтайского партизана, прототипа героя «романа ужасов» Григория Рогова (URL: https://www.bankfax.ru/news/47329).
44 Сибирская Вандея. 1919–1920. Документы. В 2 т. Т. 1. М., 2000. С. 62.
45 Там же. С. 64–65.
46 Там же. С. 93.
47 Там же. С. 76–77.
48 Русский голос (Томск). 1919. 27 октября.
49 Время (Барнаул). 1919. 12 ноября.
50 Государственный архив Кемеровской области (далее – ГА КО), ф. П-483, оп. 1, д. 156, л. 64.
51 Там же, л. 23.
52 ГА АК, ф. Р-483, оп. 1, д. 132, л. 6–7.
53 ГА НО, ф. П-5, оп. 2, д. 1043, л. 15.
54 Горбатов А.В., Мальцев М. А. Православные общины и партизанское движение в Кузбассе…
55 ГА КО, ф. П-483, оп. 1, д. 300, л. 4.
56 Справочная книга по Томской епархии за 1914 год. Томск, 1914. С. 1–25.
57 Словарь русских говоров центральных районов Красноярского края. Т. 5. Красноярск, 2010. С. 102.
58 ГА НО, ф. П-5, оп. 6, д. 316, л. 96–97.
59 Новокузнецкий краеведческий музей, НФ-Д, оп. 1, раздел № 3, д. 64, л. 30–31.
60 Христа не предавшие: к 100-летию первых мученических подвигов за веру на территории современной Кемеровской области. Кемерово, 2019. С. 222, 230–232.
Об авторах
Алексей Горбатов
Кемеровский государственный университет; Алтайский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Россия, Кемерово; БарнаулМаксим Мальцев
Кемеровская епархия Русской Православной Церкви
Email: otech_ist@mail.ru
Протоиерей, Председатель комиссии по канонизации святых
Россия, КемеровоСписок литературы
- Фёдоров А.Ю. Революционная эпопея анархистов Григория Рогова и Ивана Новоселова // Великая Российская революция 1917–1921: либертарный взгляд. Прямухинские чтения 2017 года. М., 2018. С.338-353.
- Штырбул А.А. Анархистское движение в Сибири (первая четверть XX века). Дис. … д-ра ист. наук. Омск, 1997.
- Ларьков Н.С., Шишкин В.И. Партизанское движение в Сибири во время гражданской войны // Власть и общество в Сибири в XX веке. Вып. 4. Новосибирск, 2013. С. 76-114.
- Курышев И.В. Из истории партизанского террора в Западной Сибири (1918–1920 гг.): социально-психологический аспект // Клио. 2006. № 2(33). С. 155–157.
- Курышев И.В. Печать о социально-психологическом облике участников партизанского движения в Западной Сибири (весна–осень 1919 г.) // Национальные приоритеты России. 2013. № 1(8). С. 8–17.
- Шекшеев А.П. Красные партизаны и религия на Енисее // Сибирский крест. Историко-публицистический альманах. Красноярск, 2021. С. 312–325.
- Тепляков А.Г. Антицерковный террор партизан Сибири и Дальнего Востока в годы гражданской войны // Государство, общество, церковь в истории России ХХ–XXI веков: материалы XIV международной научной конференции. Иваново, 2015. С. 563–570.
- Горбатов А.В., Мальцев М.А. Православные общины и партизанское движение в Кузбассе в 1919 году // Научный диалог. 2021. № 1. С. 224–240.
- Pereira N.G.O. The Partisan Movement in Western Siberia, 1918–1919 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1990. Bd. 38. H. 1. P. 87–97.
- Коголь Т.Н. Православная Церковь Сибири в период гражданской войны // Вестник ТГПУ. 1997. Вып. 1. С. 11-14.
- Гагкуев Р.Г. Дружины Святого Креста и Зелёного Знамени – последний резерв адмирала А.В. Колчака // Известия Лаборатории древних технологий. 2016. № 3. С. 68-84.
- Луков Е.В., Шевелёв Д.Н. Осведомительный аппарат белой Сибири: структура, функции, деятельность: июнь 1918 – январь 1920 г. Томск, 2007.
- Новикова Т.М. Православная церковь и правительство А.В. Колчака // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2010. № 4(44). С. 268-272.
- Третьяк И.Я. Партизанское движение в Горном Алтае в 1919 году. Новосибирск, 1933.
- Посадский А.В. Зелёное движение в Гражданской войне в России: крестьянский фронт между красными и белыми, 1918–1922 гг. М., 2018.
- Mintz F. A Siberian Makhnovshcina? // Organise! The Magazine of the Anarchist Federation. № 62.
- Мангазеев И.А. «Односторонне и неполно…». Образ Григория Рогова в западносибирской печати (1918–2018) // Великая Российская революция 1917–1921: либертарный взгляд. М., 2018. С. 363–364.
- Мирзоев В.Г. Партизанское движение в Западной Сибири (1918–1919 гг.). Кемерово, 1957.
- Вторушин М.И. Красный бандитизм в Сибири как форма революционного терроризма: в 1919–1923 гг. // Научный вестник Омской академии МВД России. 2013. № 1(48). С. 69–73.
Дополнительные файлы