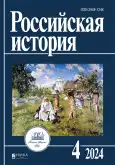Concepts of reproductive behaviour and motherhood in Soviet cinema of the 1920–1930s
- Authors: Philina J.S.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 124-140
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268635
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040121
- EDN: https://elibrary.ru/FFDDEV
- ID: 268635
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines representations of motherhood and reproductive behaviour in Soviet cinema from Revolution 1917 to the mid-1930s (films “Children are the Flowers of Life”, “The Road to Happiness”, “Katka's Reinette Apples”, “Bed and Sofa”, etc.) through the study of the reproductive choice mechanism, demonstration of pregnancy, childbirth and child care. Conclusions are drawn about the presence of several main conceptual frameworks, such as happy Soviet motherhood as opposed to pre-revolutionary motherhood; the unreliability of the parental function of the biological father, but the support of the collective and the acquisition of a new partner, which means the creation of a two-parents family; transition from the demonstration of medical instruments and the process of childbirth to the withdrawal of this segment; etc.
Full Text
Репродуктивность и материнство всегда являлись важной темой как общественных обсуждений, так и исследований в области социальных наук, демографии и медицины. В то же время многие аспекты материнства, прежде всего беременность и роды, продолжительное время относились к области сакрального, т.е. были окружены многочисленными традициями, верованиями и суевериями и даже табуированы. Это осложняло распространение медицинской информации и проведение исследований социальных аспектов данного явления. Советское государство в первые годы своего существования проводило новаторскую политику в отношении вопросов репродуктивности, а семья как социальный институт переживала в это время серьёзные трансформации.
В центре внимания данной статьи – отражение репродуктивного поведения и материнства в советском кино конца 1910-х – первой половины 1930-х гг.: показ механизма репродуктивного выбора, беременности, деторождения и ухода за младенцем. Исследование кинематографа относится к области визуальной истории. В её методологии изобразительное произведение рассматривается как самостоятельный источник, апеллирующий прежде всего к сфере эмоционального1. Его необходимо исследовать, исходя из постулата об автономности произведения. Кинематограф – объёмный источник, отражающий широкий спектр общественных процессов и явлений. Поэтому следует учитывать исторический и художественный контексты, авторскую позицию создателей фильма и подход студии, политический запрос государства и финансирующих структур и т. д. Также кино доносит до публики желаемые и критикуемые модели поведения2.
В то же время следует отметить проблемы исследования кинофильма как исторического источника. Главная из них – невозможность определить степень влияния на поведение аудитории: удавалось ли при его помощи «уговорить» или «отговорить» зрителя совершить тот или иной поступок, какие открытия делались в процессе просмотра, какое впечатление производили те или иные герои. Для понимания конкретного воздействия того или иного фильма могли бы использоваться социологические опросы, но, во-первых, они в изучаемый период не проводились, во-вторых, табуированность темы могла привести либо к уклонению от ответа, либо к неискренности. Тем не менее можно предположить, что представленные в кинематографе концепции репродуктивного поведения и материнства (как и многие другие аспекты) в значительной мере определяли представления аудитории о любви, семье, детях и т. д.
Историографию исследуемой темы можно разделить на две основные категории. Первая – историческая литература. В советский период преимущественно изучалась система охраны материнства и детства. В 1990-х гг. появление новых источников, подходов (гендерной истории и др.) и методик позволили учёным расширить предметное поле исследований и выйти на новый уровень осмысления материала3. Однако справедливо отмечается, что проблематика отнюдь не исчерпана4. Напротив, регулярно появляются новые темы – например, практика деторождения5, которой посвящена важная публикация последних лет – «Человек рождающий»6. В ней исследованы перемещение родов из домашнего пространства в больницу, из статуса интимного, «женского» дела в поле профессиональной медицины, переход от традиционной модели родов к «биомедицинской» в XVIII – начале ХХ в. Предложенная авторами монографии концептуальная модель использована в данной статье при рассмотрении темы репродуктивности и материнства в кино 1920–1930-х гг.
Вторая категория – научная литература, затрагивающая вопросы женского и материнского образов, пространства телесного и интимного в советском кинематографе7. Здесь особенно интересен тематический номер журнала «Studies in Russian and Soviet cinema»: авторы включённых в него статей пришли к выводу, что «интимное» на советском экране фактически отсутствовало вплоть до 1980-х гг.8 Однако сейчас этот взгляд уже можно скорректировать благодаря новым исследованиям, которые, в частности, раскрыли советский «язык интимности» и телесности применительно к 1930-м гг.9
Хронология данной статьи охватывает период, начинающийся на рубеже 1910–1920-х гг. и отмеченный, среди прочего, легализацией абортов10, и завершающийся в 1936 г., когда с их запретом 11 отношение государства к репродуктивному выбору женщины резко изменилось. В качестве источников выступают выявленные мной игровые фильмы соответствующей тематики12, которые можно разделить на три группы. В первую входят произведения о советской современности тех лет: «Дети – цветы жизни» (1919), «Особняк Голубиных» (1924), «Дорога к счастью» (1925), «Катька – бумажный ранет», «Проститутка» (оба – 1926 г.), «Третья Мещанская» / «Любовь втроём», «Парижский сапожник», «Такая женщина» / «Чужая» (все – 1927), «Мой сын» (1928), «Саша», «Стыдно сказать» (оба – 1930 г.), «Две матери» (1931), «Женщина» (1932), «Наследный принц Республики» (1934), «Лавры мисс Элен Грей» (1935), «Случайная встреча» (1936). Вторая группа – фильмы историко-революционные: «Конец Санкт-Петербурга», «Бабы рязанские» (оба – 1927 г.). Третья – сохранившиеся или восстановленные фильмы, события которых происходят в Закавказье или Средней Азии: «Вторая жена» (1927), «Алмас» (1936), а также «Джальма» (1928), где по сюжету героиня приезжает из Чечни в украинскую деревню. В них центральные темы статьи – зачатие, беременность, роды – прямо не затрагивались, более того, отсутствовала сама постановка вопроса о репродуктивном выборе женщины. Однако показывалось становление её как матери в новых, послереволюционных условиях, выступавшее как часть процесса освобождения угнетённой женщины Востока и превращения её в советского человека. Помимо собственно кинопродукции исследованы и частично вводятся в научный оборот материалы различных версий сценариев и их обсуждений, режиссёрские записи.
Кинофильмы, рассказывавшие романтические истории, довольно быстро обрели популярность у мирового зрителя и стали одним из наиболее коммерчески успешных жанров. Обычно они повествовали о бедной девушке, попадающей в тяжёлую ситуацию, но затем спасающейся. Однако советское кино, противопоставив себя капиталистическому, наполнило привычные лирические сюжеты новым идеологическим содержанием, сделав акцент на распространении санитарной грамотности или явлениях, связанных с трансформацией семьи. Причём следует отметить, что смена сюжетных акцентов объяснялась не только государственным заказом, но и идейной позицией создателей кинопродукции. Так, А. М. Роом, режиссёр фильма «Третья Мещанская», приобретшего широкую известность со скандальным оттенком, писал: «Та интимная “честность” и то прилизанное целомудрие, с которым подходили в фильме к взаимоотношениям мужчины и женщины, должны быть окончательно разоблачены. Довольно обкармливать зрителя сладкими сказками о проворных аистах и волшебной капусте! Нужно заговорить настоящим языком там, где до сих пор слышны были хихикание, подсюсюкивание и шепелявость»13. Как следствие, в картинах тех лет смело заявили о себе новые явления в семейной жизни. Так, хотя в подавляющем большинстве рассматриваемых фильмов герои состоят в браке, один из главных двигателей сюжета – любовный треугольник в том или ином виде (из 20 вышеназванных он присутствует в 12).
Репродуктивный выбор: зачатие, выявление беременности, сохранение или аборт. В изучаемый период осознанное родительство в его современном понимании отсутствовало, а возможности для репродуктивного выбора на этапе зачатия ввиду острой нехватки средств контрацепции и слабой информированности населения о способах контроля рождаемости по сути были крайне ограничены даже в городе, не говоря уже о деревне. Однако на этапе почти неизбежной беременности решался вопрос о сохранении ребёнка, и советский кинематограф демонстрирует, что выбор оставался за женщиной. В то же время прерывание беременности – почти всегда несостоявшееся. К примеру, Людмила из «Третьей Мещанской» 14сообщает новость о своей беременности мужу Николаю, который предлагает ей сделать аборт. Интересно, что лечебница, которую она посещает, частная, хотя в 1927 г. аборт доступен бесплатно в государственных медучреждениях15. Подчёркнуто, что к данной услуге прибегают лишь «чуждые элементы» – нэпманши, купчихи. Однако героиня непривычна к больнице, профессиональное медицинское вмешательство пугает её. Она убегает, сохраняет ребёнка, отказываясь таким образом от мещанского сознания, и садится в поезд, который в кинематографе данного периода часто символизировал прогресс и освобождение.
Идея создания фильма «Дорога к счастью» 16принадлежала лично наркому здравоохранения Н. А. Семашко. В центре сюжета – красноармеец, который заводит роман с городской девушкой Настей при наличии жены и детей в деревне. Узнав о своей беременности и «двоежёнстве» избранника, героиня пытается покончить жизнь самоубийством, однако её и неродившегося ребёнка спасают бдительные соседи. При поддержке подруг и государства она сохраняет беременность и становится матерью.
«Парижский сапожник» рассказывает об отношениях Кати и Андрея. Несмотря на то что Андрей – комсомолец, он не готов стать отцом, беременность подруги оценивает как «кучу неприятностей», заявляя, что «пропахнет пелёнками»17, и в итоге обращается за помощью к «товарищам» из криминального мира. Он договаривается о встрече с Катей, но на месте её поджидают совсем другие люди. Девушка получает записку: «Я узнал, ежели будешь с несколькими, плод ликвидируется. Надейся на ребят»18. Она, однако, спасается от группового изнасилования, в конце фильма отрицательные герои наказаны, в том числе благодаря комсомольской ячейке, а Катя ожидает родов. Вероятно, основой для сюжета могло послужить «чубаровское дело»19, хотя в режиссёрском описании данная связка отсутствует20.
В фильме И. А. Савченко «Случайная встреча» сталкиваются две актуальные для этого периода темы – спорт и деторождение. Главная героиня Ирина, ударница фабрики игрушек им. Ф. Э. Дзержинского и спортсменка, сообщает своему партнёру, спортивному инструктору Гришке, о беременности. Тот воспринимает новость негативно – собирался привезти на спартакиаду чемпионку, а «это» ему не нужно. Однако отправить подругу на аборт не может, так как к моменту выхода фильма его в СССР уже запретили, поэтому ограничивается фразой: «Дело твоё»21.
Сценарий этой кинокартины множество раз переписывался. Авторы старались успеть за идеологическими изменениями, касавшимися как физкультуры и спорта, так и деторождения, однако текст всё равно отправляли на доработку22. Савченко создавал первичный вариант в конце 1920-х гг. для театральной постановки: «В 1929 году, когда я работал в бакинском ТРАМе23, мною совместно с тов. Перельманом была задумана физкультурная оперетта, в основу которой мы предполагали положить опубликованный в газете факт о том, что девушка отказалась от всесоюзного рекорда, потому что не хотела делать аборт (кажется, речь шла о Марии Шамановой)»24. В этой версии сценария слово «аборт» фигурирует, однако не в разговоре Гришки и Ирины, а когда последняя обсуждает случившееся с товарищами по фабрике: Пятачеком и влюблённым в неё Петром Ивановичем25. При этом она сама рассматривает прерывание беременности как один из возможных вариантов, правда, лишь на мгновение. Одна из отсутствующих в итоговом варианте сцен – митинг-спор, в котором с одной стороны выступают физкультурники, уговаривающие Ирину отправиться в абортарий ради участия (и победы) в спартакиаде, а с другой – сама Ирина и поддержавшие её женщины. К данному моменту она уже решила сохранить ребёнка: «Эти большие здоровые парни явились сюда целой оравой, чтоб убедить меня стать убийцей». В ходе спора одна из женщин с горечью заявляет, что в «годы боёв» можно было делать аборты, более того, «на другое мы… не имели права»26, однако теперь наступило иное время, и каждая может позволить себе счастье материнства.
Единственный фильм данного периода, где аборт всё-таки происходит, – «Лавры мисс Элен Грей»27. Он снят Ю. А. Желябужским на киностудии «Востоккино» в Ялте и выпущен в 1935 г. В центре внимания снова спорт и беременность. В экспликации к сценарию режиссёр описал главную героиню Таню следующим образом: «Основным её свойством, основной чертой её является, по-моему, – молодость. И не столько потому, что ей мало лет, хотя ей и фактически лет немного, но и потому, что у неё по-молодому мечтательная голова, горячая голова, которая и увлекает её иной раз в сторону от правильного пути. Но у неё также и горячее любящее сердце и это помогает ей преодолеть свои ошибки, изжить свои увлечения. Она отнюдь не взбалмошна, у неё хороший характер, она любит мужа, она хороший товарищ, и если она в своём увлечении спортом доходит до того, что порывает с мужем и с товарищеской средой, что в погоне за рекордом она, ради него, готова пожертвовать даже своим материнством (хотя всё её отношение к сыну подруги Лютвии говорит, что ей женское, материнской чувство совсем не чуждо), – то всё это именно потому, что она по-молодому, безоглядно увлеклась спортом уже не как физкультурой… И именно потому, а не только благодаря физической слабости после аборта, она так неспокойна ещё до решающего бега: её мучит разрыв с мужем, то, что она оторвалась от товарищей, – Лютвии, Алима, славного Кости. Всё это и ведёт к проигрышу, всё это и усугубляет для неё горечь поражения… И несомненно дальше она будет по-прежнему хорошей работницей и товарищем, хорошей женой и матерью, что не помешает ей заниматься и даже увлекаться и дальше спортом, но уже без тех перегибов, которые обнаружились в этот грозовой период её жизни». В отличие от предыдущих картин здесь будущий отец счастлив новости о беременности и пытается отговорить Таню от аборта: «Когда она захотела разрушить его самую горячую, самую заветную мечту – мечту о ребёнке – тут-то его южный темперамент прорвался и он гневно бросает “тогда убирайся к чёрту!”»28.
К середине 1930-х гг. перечень показаний для бесплатного аборта оказался сильно ограничен. Желябужский несколько раз переписывал сцену посещения Таней врача. Неизменными оставались сомнения, одолевавшие героиню. Обуздать волнение ей удалось не с первого раза: «Лестница большого дома. По ней быстро идёт к верху Таня, но постепенно её движения замедляются и вот она медленно подошла к двери. На двери таблица “Врач-гинеколог Э. Н. Каминская” (так в источнике. – Ю.Ф.). Таня протянула руку к звонку и, так и не решившись позвонить, быстро повернулась. Побежала вниз по лестнице, всё убыстряя спуск. Тротуар перед домом, где живёт доктор. Выбежала Таня. Остановилась. Крупно: Лицо Тани. Ей, по-видимому, стало нехорошо, закрыла глаза, судорожно глотнула воздух»29. Отображение же личности врача и сам приём подверглись значительной редакции. Первый вариант подан так: «На двери таблица: “Старший врач гинекологического отделения больницы им. Семашко Е. Н. Каминская”… В кабинете врача. Она, доканчивая писать, говорит сидящей Тане: “С этим назначением вы придёте через день прямо в больницу”. Протянула Тане листок – та встала. Врач – полная, очень приятная женщина со спокойными уверенными движениями, одета в докторский белый халат»30. В итоге изменились и фамилия врача (на «В. Г. Обух31»), и результат посещения. Женщина-врач отказывает Тане в операции: во-первых, «аборт всегда разрушает здоровье», а во-вторых, её мотивы несостоятельны. Как и где героиня совершает аборт – не показано.
Беременность и роды советской героини. В рассматриваемое время беременность и роды на экране чаще всего демонстрировались символически. Например, о том, что героиня «в положении», зрителю сообщалось сценой, в которой она занимается теми или иными бытовыми делами и ей становится дурно. Роды показывались отрывочно, с акцентом на выражение лица героини, действия медиков и проч.
Два фильма второй половины 1920-х гг., в центре сюжета которых беременные женщины на больших сроках, это «Катька – бумажный ранет» и «Саша». Катька недавно перебралась из деревни в город, живёт в несоветской среде, незаконно торгует яблоками. Антагонистом выступает отец её ребёнка – делец Сёмка. Интересно, что он не отказывается от ребёнка и пытается возродить отношения с Катькой, однако она его отвергает. Когда приходит время рожать, ей становится дурно во время работы. На помощь приходит Вадик-Тиллигент – «осколок» отмирающего дореволюционного прошлого. Катька демонстрирует «не прогрессивное» поведение: рожает дома на кровати, требует позвать не врача или акушерку, а соседку Захарьевну, на следующий день снова идёт на работу, а ребёнка спокойно оставляет Вадику32. Процесс родов демонстрируется через крик, сжимающийся кулак Катьки, в сценарии она в момент родов также кричит Вадьке: «Отвернись!»33.
В первоначальном варианте сценария фильма «Саша», написанном О. Л. Леонидовым, сцена родов отсутствует. Вероятно, её добавила в сюжет режиссёр А. С. Хохлова, ко времени съёмок сама уже ставшая матерью. Героиня приезжает в город, во время прогулки попадает под трамвай, её спасает милиционер. Картина была призвана, среди прочего, создать положительный образ советской милиции, поэтому бездомная Саша остаётся жить в участке, помогает милиционерам по хозяйству, благодаря чему становится более сознательной. Роды начинаются на лестнице во время работы, после таскания мешков, и Саша не посылает за бабкой, а просит вызвать ей скорую помощь 34 (в сценарии врачей вызывал милиционер35). Из роддома она выходит только на десятый день. Во время общественного просмотра и обсуждения фильма в Москве сцена родов вызвала у некоторых зрителей недоумение. Так, рабочий Соколов с завода «Москвотопа» 36о кадрах из больницы высказался так: «Не то Саша сумасшедшая, не то она родит»37. По мнению комсомолки Волковой, по ходу фильма совершенно не чувствовалось, что Саша беременна, и вдруг у неё появился ребёнок38. И действительно, героиня до сцены с перетаскиванием мешков не демонстрировала дурного самочувствия и не испытывала бытовых трудностей. Выропанов из Общества друзей советского кино вообще предложил сцену родов сократить39.
Фильм «Женщина», пожалуй, последний, в котором беременность и роды продемонстрированы сколько-нибудь откровенно. В нём рассказывается о деревенской девушке Маше, которая мечтает стать трактористкой, но сталкивается с насмешками и нежеланием обучать её со стороны мужчин. Содействует ей только председательница сельсовета Петрович, помогавшая организовать на селе ясли и сама беременная. В кульминационный момент параллельно идут сцены с героинями40. Петрович рожает на рабочем месте. Маша в этот момент обучается на тракторной ремонтной станции. Там над ней «шутят», вынуждая взять голыми руками раскалённую гайку. Несмотря на сильную боль, она доносит её до мастера, предлагая ему «принять эстафету». В момент, когда она решается взять гайку, кадр переключается на роды председательницы: «С искажённым от боли лицом мучается Петрович, закусив губы. Спокойно делает своё дело акушерка, быстро хватая то один, то другой инструмент»41.
Художественный совет «Белгоскино» оценил фильм в целом положительно, при этом наибольшее внимание привлекла именно сцена с гайкой. Большинство сторонников упирали на наличие подобных фактов: «Разве… в нашем рабочем классе нет ещё отсталых рабочих, которые смотрят на женщину как на существо низшего порядка… призванное заниматься только деторождением и домашним хозяйством»42. По контрасту сцена с родами внимания тогда не привлекла. Упрёк в её излишней «биологичности» прозвучал позднее, на страницах журнала «Пролетарское кино»: «Эпизод с Петрович… затянут, что неверно, прежде всего со стороны содержания, ибо акцентирует на биологических началах… Уже простое сокращение этого прохода, снимающее акцент жертвенного страдания, дало бы убедительный эффект в плане последовательного развития идеи фильмы, ликвидируя незакономерное и ложное отклонение в сторону… Диалектико-материалистическое восприятие действительности прорывается примитивно-материалистической, биологической трактовкой явлений, сопровождаемой, как это часто бывает, материалистическими привесками»43.
С 1933 г. изображение беременности из фильмов исчезает, однако сам сюжет о девушке, которая остаётся одна и «в положении», сохраняется. Это отражено, в первую очередь, в картинах «Наследный принц Республики» и «Случайная встреча». Здесь героини сами сообщают своим партнёрам о беременности, при этом никаких видимых проявлений «положения» нет. И в том и в другом случае мужчины не рады новости из-за того, что ребёнок повлияет на их образ жизни, но их супруги принимают решение рожать.
Литературный сценарий «Наследного принца Республики» акцентирует внимание на небедственном положении семьи и её мещанстве: «Муж и жена у себя дома. Большая, светлая и удобная комната. Среди древтрестовской мебели попадаются отдельные вещи, купленные без надобности. Явная роскошь. Это начинающий отлагаться жирок достатка». У героини Наташи (Ирина в финальной версии фильма) беременность вызывает радость и она готова на конфликт с мужем: «Жена обернулась к нему всей фигурой, её лицо неожиданно спокойно: “А я хочу иметь ребёнка, и это моё право”. Муж вскипел от этого небывалого бунта». Затем сценарий концентрируется на неприятностях героя, а его спутница снова возникает в повествовании только после родов: «Открылась дверь комнаты. В комнату входит молодая жена – Наташа. В руках у неё завернутый в одеяла ребёнок. Она возвратилась из родильного дома. Она входит радостно возбуждённая, улыбающаяся и всё-таки тревожная… и вот остановилась в дверях, перестала улыбаться»44. Расстройство связано с запиской, в которой муж предлагает ей «одуматься» и сдать младенца в детдом, в противном случае он будет платить алименты, однако этим его участие в жизни Наташи и ограничится.
В обоих упомянутых фильмах роды и всё, что с ними связано, оставлены за кадром. По возвращении героинь на экран в их внешности не видно изменений: они обе выглядят по-прежнему, всё так же следят за собой, Ирина из «Случайной встречи» едет на спартакиаду и выигрывает её. Более того, и в этих, и в большинстве прочих кинокартин беременность и роды приводят лишь к положительным изменениям. Если сначала девушки оказываются одни в новой для них городской среде и претерпевают злоключения, то, став матерью, Катька устраивается на завод, Людмила покидает мещанское пространство полуподвальной квартиры и отправляется в новую жизнь, Саша вызволяет из тюрьмы мужа, ложно обвинённого в убийстве, и сама становится милиционером, и т. д. Героини превращаются в полноправных членов советского общества и таким образом обретают самостоятельность и счастье. Даже в «Лаврах мисс Элен Грей» первое место в соревнованиях занимает уже имеющая ребёнка Лютвия, а главная героиня Таня, сделавшая аборт, терпит поражение. Её «выздоровление» в конце фильма происходит именно благодаря материнскому инстинкту: «Таня не выдержала, схватила и поцеловала ребёнка. В этом её порыве должна сказаться вновь проснувшаяся в ней мечта о материнстве»45.
Интересно, что в том жанре советского кино, который принято обозначать как историко-революционный, итог беременности как правило печален. Фильмы «Бабы рязанские» 46и «Конец Санкт-Петербурга» 47повествуют о событиях 1917 г. и предшествующих лет. В обоих рождение ребёнка приводит к смерти матерей (одна умирает во время родов, другая, родив в результате изнасилования и боясь гнева мужа, кончает жизнь самоубийством). Этот сюжетный ход использован ещё в первом художественном фильме студии «Ленфильм», ныне утраченном: «Доля ты русская, долюшка женская» (1922)48. Беременность и деторождение использовались как один из элементов разграничения «старого» и «нового». Дореволюционная жизнь демонстрировалась как среда, лишавшая женщину возможности счастливого и здорового материнства. Противоположностью этому выступало материнство советское.
Отцовство в кинематографе 1920–1930-х гг. Не меньшее значение для кинематографии рассматриваемого периода имел вопрос отцовства. В большинстве случаев демонстрировалось, как биологический отец пытается влиять на выбор будущей матери, как правило его стремление направлено на отказ от отцовства. Людмила из «Третьей Мещанской» отправляется на аборт, поскольку в результате отношений с двумя мужчинами неясно, кто отец, а официальный муж не готов воспитывать чужого ребёнка. При этом в конце фильма её партнёры называют себя подлецами (что, впрочем, не мешает им продолжить жизнь уже вдвоём, без Людмилы). В фильмах «Катька – бумажный ранет», «Наследный принц Республики», «Случайная встреча» биологические отцы детей показаны как главные антагонисты. В итоге они жалеют о решении бросить мать с ребёнком, но для них всё кончено, а вот женщина и ребёнок счастливы уже с новым партнёром.
В отличие от «Катьки» и «Саши», отец из «Наследного принца Республики» – классический советский персонаж. Он архитектор – создатель нового типа жилищ, нового быта. Работа для него значительно важнее отцовства. После расставания с женой он поселяется в квартире коллег, они фактически живут маленькой коммуной. Во время обсуждения фильма на совещании коллегии консультантов совместно с руководством 4-го объединения киностудии «Ленфильм» началась дискуссия о том, какой же социальный слой представляет муж и отец. Художественный руководитель студии А. И. Пиотровский заявил: «В основном этот сценарий ставит вопрос о социалистическом отношении к ребёнку. Сам по себе этот вопрос чрезвычайно важен и существенен. Здесь все трудности заключались в том, чтобы перевести [его] из плана буржуазного в план социалистический. Человек, который во всех отношениях корректен, он может в отношении семьи проявлять глубочайший атавизм, проявлять враждебность к ребёнку и тем самым он скатывается на позиции чрезвычайно враждебные нашей действительности… Мы хотели показать государственную заботу о ребёнке… в то же время левацким загибом является взгляд, что государство должно полностью нести заботу о ребёнке»49. Сценарист фильма Б. Ф. Чирсков указал, что поведение героя – следствие его буржуазности: «Такое отношение к ребёнку коренится в элементах буржуазной психологии, потому что бездетная семья – это типичное буржуазное явление, заиллюстрированное статистикой». Другим участникам совещания такой подход к фигуре отца казался слишком радикальным. По мнению старшего редактора и консультанта студии Р. Д. Мессер, отец должен оставаться «леваком», считающим, что ребёнок будет мешать, но «он не должен быть безоговорочно сброшен, он не должен быть по ту сторону социалистического общества»50.
В финальной версии такого «перевоспитания» отца не происходит. В результате комедийного эпизода с трамваем ребёнок оказывается в квартире четырёх архитекторов. Они сначала тяготятся им, однако далее, при помощи советской системы охраны детства, их полная безответственность сменяется бережным отношением к младенцу, а один из них в финальной сцене заменяет ему отца. Переход от нежелания выполнять родительские функции к пересмотру точки зрения предполагался и в сценарии «Случайной встречи»51, но уступил место финалу, в котором отцовство на себя берёт другой, положительный герой. В «Саше», где биологический отец стал жертвой обстоятельств, тоже находится новый, уже коллективный родитель – милиционеры. Во время родов они радуются, что появился «сын», а на вопрос, чей он, отвечают: «Поможем. И без отца вырастишь».
Неготовность мужчины к отцовству демонстрируется и в частично сохранившемся фильме «Две матери»52. Сюжет выстроен вокруг любовного треугольника: Андрей (работник фабрики) – Вера (его жена, сознательная коммунистка) – Юля (девушка из другого города, забеременевшая от Андрея). Юля покидает родителей, отправляется к Андрею, сообщает ему новость, однако он её отвергает, сообщая, что ребёнок ему не нужен. В утраченном фрагменте она рожает, но отдаёт младенца некой женщине, которая от него избавляется. Затем по случайному стечению обстоятельств ребёнок попадает к Вере. Андрей недоволен появлением «подкидыша»: супруга мешает ему спать, вставая ночью к ребёнку. Юля, которая устроилась на работу в детский сад, узнает, что это её сын, и стремится его воспитывать, даже выкрадывает из учреждения. Когда всё выясняется, ребёнок остаётся с двумя матерями, а отцу назначается выплата алиментов. Развязка происходит на коммунистическом суде. Андрей пытается обвинить Юлю в том, что она его соблазнила, однако проницательные товарищи становятся на сторону девушки. Более того, о необходимости помочь ей, приняв в ряды коммунистов, говорит преодолевшая ревность Вера.
В одном из самых ранних фильмов, затрагивающих эту тематику («Дорога к счастью»53), герой Егор не отказывается от отцовства прямо. Во-первых, он долгое время находился на военной службе: сначала в Первую мировую войну, затем – в Гражданскую. Во-вторых, его отношение к детям сугубо положительно54. Он покидает свою городскую подругу Настю, не зная, что она «в положении», и возвращается в деревню, к законным жене и детям (о чём Насте не сообщает, рассказав о необходимости помогать старушке-матери). В сохранившемся фрагменте финала после смерти жены он вместе с детьми возвращается к Насте. Та уже узнала об обмане (наличии жены) и пыталась покончить жизнь самоубийством, но решила жить ради ребёнка: «Белая комнатка в больнице. Елена ласково гладит голову сразу осунувшейся, бледной Насти. Настя взяла её за руки. Страстный шепот. / Ведь я беременна, – пойми ты! / Обняв Настю, Елена целует её. / Поэтому ты и должна жить… / Серьёзное лицо Елены / Ради ребёнка!»55. Она даже написала письмо в деревню, где сообщила Егору, что они теперь чужие: «Моя жизнь принадлежит ребёнку, которого я с нетерпением жду»56. Кроме того, в сценарии она отказалась и от алиментов: её подруга Елена говорит, что он обязан их выплачивать по декрету, Настя же заявляет, что ей ничего от него не нужно57. Однако данный фрагмент на стадии доработки сценария вычеркнули.
В «Дороге к счастью» представлен более радикальный взгляд на материнство, которое рассматривается как долг. В его выполнении на помощь женщине готово прийти государство: «Охрана материнства и младенчества поможет тебе. А с ребёнком вернётся и радость». В консультации их встречает плакат «Материнство – социальная функция женщины». Ещё одно испытание для Насти – приезд бабушки. Однако, вопреки её ожиданиям, та не осуждает, а относится с пониманием и рассказывает, как «при царе» отец привёз её в город. Она стала служанкой, сын хозяйки её изнасиловал, и она забеременела, из-за чего лишилась работы. Приют она нашла в благотворительном доме, но его условия несравнимы с советской системой охраны материнства и детства.
Норматив советского кинематографа данного периода – осуждение отказа биологического отца от родительских функций. Готовность же мужчины принять на себя ответственность за неродного ребенка всячески одобряется. В фильме «Мой сын» 58жена, выйдя из роддома, сознаётся мужу, что ребёнок не его. Герой мучается, но в итоге понимает, что сын всё равно «его», если он возьмётся за воспитание, а также то, что дитя не может быть источником несчастья. В фильме «Алмас» 59ситуация аналогичная: благородство жениха главной героини демонстрируется через готовность заявить, что младенец, к которому он не имеет отношения, – его.
Если ситуация, когда мужчина отказывается от отцовства, типична, то женщина, действующая аналогично, – исключение. Отказ Юли от ребёнка в фильме «Две матери» вызван отсутствием у неё работы и жилья, однако когда возможность содержать сына появилась, она «одумалась» и захотела его вернуть. Единственный пример «некачественного» материнства показан в фильме «Такая женщина» (другое название – «Чужая»)60, в основе сюжета которого – подселение. Главный положительный герой матрос Матвей вселяется в квартиру, где живут «бывшие» – Алиса и её престарелая мать. У него водятся хлеб, сахар и даже масло, ради которых Алиса сходится с ним. Революционная эпоха заканчивается и наступает нэп, у пары рождается сын. Алисе теперь мало продуктов, она требует меховое манто, однако у Матвея недостаточно средств. Тогда она толкает его на спекуляцию. Он осознает всю глубину разрыва между ними и уходит, при этом, бросив взгляд на детскую кроватку, говорит, что заберет ребёнка, когда тот подрастёт. Однако, как следует из дальнейших событий, о своём намерении забывает и уезжает в деревню. Алиса грустит недолго, находит состоятельного ухажёра-нэпмана. Она неспособна влиться в советское общество, что проявляется в стремлении к роскошной жизни, нежелании трудиться, пренебрежении ребёнком. Она не сдаёт его в детдом или воспитательные учреждения (например, детский сад), но при этом мальчик предоставлен сам себе и в итоге убегает. Противопоставлена ей новая подруга Матвея, которая принимает его сына как родного и готова стать ему новой матерью.
В советском кинематографе для «нормальной» женщины материнство, во-первых, предмет естественной радости и способ обретения счастья, во-вторых, способ перехода в статус полноправной гражданки. Причём, к примеру, от Наташи из «Наследного принца Республики», чтобы считаться «своей», не требуется причастности к рабочему классу, достаточно реализации как матери. С мужчинами этот механизм не работает: «пропуск» в советское общество получает лишь тот, кто принял на себя функции родителя, а биологическое отцовство второстепенно. Кроме того показано, что после рождения ребёнка женщина не остаётся одна. Она обретает нового надёжного партнёра и может положиться на поддержку государства.
Медицинское просвещение и пропаганда системы охраны материнства и младенчества. Дореволюционное и зарубежное, «капиталистическое» кино рассказывало романтические истории, чтобы завлечь зрителя. Советское кино стремилось не только завлечь, но и просветить. Причём не только идеологически, но и с точки зрения сугубо медицинской. В рассматриваемый период в здравоохранении господствовала идея превентивной (или профилактический) медицины и социальной гигиены, главным апологетом которой выступал Семашко. Её главные задачи – снижение заболеваемости, оздоровление рабочего класса, а также обеспечение государства здоровым молодым поколением. Для пропаганды репродуктивной грамотности активно использовались женские журналы61, устраивались выставки62, эффективным инструментом выступало и кино. В «Дороге к счастью» показан лозунг на стенах женской консультации: «Консультация охраняет здоровье трудящейся женщины не только тем, что даёт медицинские советы, но и тем, что идеи эти широко выносит за стены учреждения, ломая старый быт и грубую мещанскую мораль».
Один из важных факторов, влиявших на здоровье не только родителей, но и детей, в том числе будущих, – венерические заболевания. Силы кинематографа нацеливались на содействие профилактике и предотвращение их распространения. В фильме «Проститутка» продемонстрирована забота государственной медицины о женщинах, занятых в этой профессии. Несмотря на избыточное для советского человека внимание к собственной внешности и стремление к роскошной жизни, в середине 1920-х гг. они рассматривались в первую очередь как жертвы. И если для одних всё уже потеряно, то других (главная героиня фильма) ещё можно спасти при помощи системы здравоохранения и вернуть в общество (к примеру, устроив в трудовую артель). В то же время забота женщины о репродуктивном здоровье (в случае с данным фильмом – посещение женского врача) в глазах аудитории невольно оказывалась связана с проституцией, хотя ни самих болезней, ни их последствий не показывалось.
В фильме «Стыдно сказать» 63профилактика венерических болезней подана иначе. Сюжет повествует о пришвартовавшемся в порту корабле. Матросы отдыхают, но не всегда подобающим для гражданина СССР способом. Это приводит к возникновению «полового вопроса»: в самом начале картины одного из служащих отстраняют от спортивных соревнований по болезни, о чём сказано в объявлении, к которому сослуживец приписывает: «Надо меньше ходить по женщинам». Далее демонстрируются сцены фривольного общения моряков с новыми «подругами». При этом к одному из них по фамилии Гаврилюк в это время едет жена Варя. На корабле она встречает мужчину с явными последствиями сифилиса, показанными в подробностях. Он кончает с собой на глазах Вари, потому что не может более выносить вызванных болезнью порицания и изоляции. Матросов направляют на медицинские обследования, однако не все готовы их проходить. Над последними устраивают товарищеские суды. Гаврилюк передаёт заболевание жене, пытается стреляться, но счастливый финал показывает, что у пары всё будет хорошо – они вместе направляются в госпиталь.
Необходимость профессиональной медицинской помощи отмечалась не только в отношении венерических заболеваний. «Особняк Голубиных» 64пропагандирует борьбу с главной социальной болезнью – туберкулёзом. Повествование начинается в дореволюционный период. Жизни рабочих из типографии (в том числе главного героя Николая) и служанки Ксении противопоставляется барская жизнь: пока одни пируют, другие умирают от туберкулёза. Николай и Ксения влюбляются друг в друга, но Николай болен. Он отправляется к врачу и спрашивает, можно ли жениться. Врач не советует, объясняет причины, зрителю в этот момент демонстрируют изображения больных детей. Предложение отправиться в санаторий Николай отвергает, так как занят революционной деятельностью. После прихода к власти большевиков у молодых людей всё налаживается – бывшие особняки стали санаториями, рабочие и крестьяне теперь под заботой профессиональных врачей и могут создавать семьи, не боясь вырождения.
Одна из основных задач такого кино – направить беременную в медицинскую консультацию и родильный дом. Несмотря на довольно продолжительную историю гинекологии и акушерского дела ещё в царской России, профессиональное родовспоможение и в 1920-х гг. имело крайне ограниченное распространение. Помимо нехватки заведений и специалистов сказывались недоверие, невежество и предрассудки, которые тоже демонстрировались на экране, как правило, на контрасте с государственными учреждениями. Так, в «Дороге к счастью» противопоставлены город, в котором развито родовспоможение, и деревня. Горожанку Настю в женскую консультацию ведёт подруга. Сам осмотр, конечно, не показан, зато можно рассмотреть соответствующие инструменты – гинекологическое кресло и щипцы. Женщина-врач и героиня явно расположены друг к другу, улыбаются, девушка не испытывает неловкости или дискомфорта. После приёма подруги останавливаются у стенда с соответствующей литературой, которая дана достаточно крупно – зритель может даже прочитать заголовки.
Другое дело в деревне: «Тоже “Консультация”. Убогая покосившаяся избушка в овраге. Молодая женщина с не слишком заметной беременностью стучит у дверей. У неё подмышкой живая курица, в руках каравай хлеба. Открылась ставня окошечка, выглянуло сморщенное лицо деревенской бабки-повитухи и скрылось»65. Как и в большинстве картин, особое внимание уделяется проблеме чистоты: «Внутри избы. Топится печь. Из полутьмы видны несколько женских лиц. На первом плане повитуха Арина, вынув из кипящего котелка какой-то корешок, протягивает его какой-то степенной деревенской бабе. “Супротив зачатия брюха верное средство”. Женщины придвинулись ближе. Арина делит корешок между двумя из них»66. Сюжет построен на сопротивлении крестьянки Ульяны попыткам мужа отправить её в участковую больницу. Она презрительно относится к медицинскому персоналу, отказывается раздеваться перед врачом-мужчиной. Её отводят к акушерке, которая даёт лекарства, однако Ульяна отказывается – предстоит покос и если она начнёт принимать их в поле, то вся деревня будет смеяться. Решив, что врачи ничего не умеют, она идёт за «лечением» к бабке-повитухе, а позднее умирает при родах от отсутствия профессиональной помощи67.
В то же время не все неврачебные роды на экране заканчивались печально. Акцент делался на том, что облегчить этот сложный и болезненный процесс способны врачи. Из сценария фильма «Дорога к счастью»: «Родильная комната. Столы для рожающих. На столе Настя. Врач и сестра, улыбаясь, успокаивают её. Врач отходит. Сестра наклонилась над Настей. “Спокойнее, спокойнее”. Лицо Насти. Широко открытые глаза. Крепко сжатые губы. Брови сдвинулись в напряжённом предчувствии боли. Быстрое движение врача, стоящего на первом плане, спиной к аппарату. Передал сестре маленькое тельце новорождённого ребёнка (протяжение этой сцены не более 2 секунд, т. е. меньше метра пленки). Сестра купает новорождённого ребёнка. Сестра наклонилась над Настей. Даёт ей понюхать спирт (так в источнике. – Ю.Ф.). Настя открывает глаза. Сестра улыбнулась ей ласково. “Ну вот и всё”. Взвешивание и осмотр ребёнка»68.
В фильмах, снимавшихся не по заказу Наркомата здравоохранения, женские страдания демонстрировались более подчёркнуто. В «Саше» – аккуратные врачи и стерильность, но при этом очевидные муки, усиленные самой постановкой кадра: зритель не видит дружелюбной атмосферы родильного дома, ободряющей беседы с акушеркой. Вместо этого чёрный фон, врач молчалив и суров, а Саша кричит от боли. В «Женщине» Петрович при начале родовых схваток тоже кричит, бросается на стены, после чего ей вызывают акушерку. Та приезжает на мотоцикле в коляске с красным крестом. Женщины укладывают лавки и подушки, акушерка в платке и халате достаёт инструменты, среди которых гинекологическое зеркало, и протирает их. Это единственная в рассматриваемых фильмах сцена медицинских родов в деревне.
Наибольший акцент сделан на том, что надо поручать младенцев системе охраны материнства и младенчества. В 1919 г. Желябужский снял короткометражный игровой фильм «Дети – цветы жизни»69. Уже в нём демонстрируется женщина, рожающая в чистоте под присмотром врачей, при этом ребёнок, растущий под медицинским присмотром, – чистый и пухлый, а рождённый без врачей – очень худой и болезненный. В «Наследном принце Республики» роды не показаны, но значительный хронометраж выделен детской инспекции и прекрасному дому ребёнка, вызывающему зависть у архитекторов, а также дружелюбному врачу, который совершенно не удивлён тому, что у ребёнка четыре отца, но нет матери (правда, фильм относится к комедийному жанру). В вычеркнутом фрагменте сценария «Дороги к счастью» предполагалось показать обучение молодых матерей в родильном доме уходу за детьми: первые шесть месяцев младенца надо ежедневно купать, после купания мягким жгутом из ваты протирать нос и уши, туго не пеленать и т.д70. Показано надомное посещение молодой матери (если она не справляется, например, с уборкой, то ей помогают), а также преимущества советской молочной кухни.
Следует отметить, что кормление грудью как часть материнской повседневности – обязательный элемент рассмотренных фильмов. Его важность с медицинской точки зрения отражена, например, в сценарии Леонидова к фильму «Человек родился» (другое название – «Её сын»), сюжет которого повторяет кинокартину «Мой сын». После очередной семейной ссоры Фёдора Ярыгина просят зайти для консультации в отдел охраны материнства и младенчества, где внушают ему необходимость более бережного отношения к жене: «Отдельно моменты из жизни консультации, подчёркивающие заботу этого учреждения о детях и матерях… Это может отразиться на молоке матери, от этого может пострадать ваш ребёнок»71. Соответственно, вмешательство в дела семьи направлено на защиту матери и младенца.
* * *
Ранний советский кинематограф, посвящённый семье и материнству, придерживался нескольких основных линий. «Нормальная» женщина всегда рада беременности, «материнский инстинкт» работает почти безотказно. Исключение может объясняться только оторванностью от советского общества или принадлежностью к неисправимому «буржуазному элементу». Следует отметить, что рабочая функция не противоречит родительской и даже не пересекается с ней. Более того, материнство могло выступать единственным способом самореализации.
Если связь матери с ребёнком биологична и почти безусловна, то с отцами ситуация иная. Они могут отказываться от родительства даже при условии добропорядочности в остальных сферах жизни. Однако характерна установка кинопродукции: «Отказ отца от ребёнка – препятствие преодолимое». Героиня обычно встречает другого мужчину, который готов воспитывать ребёнка как «своего», в итоге семья остаётся «полной» (мужчина–женщина–дитя) и счастливой. «Перевоспитание» биологического отца возможно, но демонстрировалось реже. Кроме того, всегда на стороне матери рабочий коллектив, она не встречает отторжения даже там, где его ожидает. Страху остаться в одиночестве с ребёнком на руках противопоставлены поддержка и забота не только государства, но и окружения. В этой связи следует подвергнуть коррективе представление о том, что в 1920-х гг. отвергалась идея семьи и пропагандировалась полная передача детей на попечение системы охраны материнства и младенчества.
Фильмы доносили до аудитории установку – на страже здоровья и благополучия матери и ребёнка стоят государство и медицина. Если рабочий, отец, коммунист и т. д. мог выказывать негативное отношение к женщине или младенцу, то врач всегда показан положительно (даже при изображении дореволюционной России). Среди прочего он не занимается прерыванием беременности, хотя таковая в государственных больницах доступна. Аборты скорее осуждались: на них идёт в основном «несоветский элемент».
Среди угроз материнству – неправильное, «буржуазное» восприятие спорта. Данная связка появилась на советском киноэкране в середине 1930-х гг., в период перехода от физкультуры как оздоровительного занятия к спорту высших достижений как инструменту внешнеполитической борьбы. Позднее СССР активно пропагандировал женский спорт и отстаивал интересы женщин в этой, ранее традиционно мужской сфере, что на какое-то время обеспечило определённое идеологическое преимущество перед странами Европы и США72. Однако кинопродукция рассмотренного периода показывает, что в восприятии авторов (и, видимо, идеологических заказчиков) спорт и женственность не слишком совместимы.
Наконец, кино отражало характерные для большинства населения страх перед врачебными родами, разницу отношения горожан и селян к репродуктивности. Откровенная демонстрация гинекологических инструментов должна была приучить зрителей, особенно женщин, к их виду. Но в середине 1930-х гг. сложности беременности и родов исчезли с экранов, поскольку плохо вписывались в концепцию счастливого и беззаботного материнства. Мужчина же вытесняется из этого пространства – теперь его место, за исключением крайних случаев, с обратной стороны ворот роддома.
1См.: Мазур Л. Н. «Визуальный поворот» в исторической науке на рубеже XX–XXI вв.: в поисках новых методов исследования // Диалог со временем. 2014. № 46. С. 95–108; Щербакова Е. И. Визуальная история: освоение нового пространства // Исторические исследования в России–III. Пятнадцать лет спустя. М., 2011. С. 473–488; и т. д.
2 См.: Булгакова О. Фабрика жестов. М., 2021.
3 Коршунова Н. Н. Деятельность Коммунистической партии в области охраны материнства и младенчества (1917–1926 гг.) // КПСС в борьбе за социализм и коммунизм: некоторые вопросы истории и историографии. М., 1985. С. 26–32; Gradskova Yu. Soviet people with female bodies. Performing beauty and maternity in Soviet Russia in the mid 1930–1960s. Stockholm, 2007; Смирнова Т. М. Дети страны Советов: от государственной политики к реалиям повседневной жизни. 1917–1940 гг. М.; СПб., 2015; Жиромская В. Б., Араловец Н. А. Российские дети в конце XIX – начале XXI в.: историко-демографические очерки. М., 2018; Араловец Н. А. Городская семья в России 1897–1926 гг. Историко-демографический аспект. М., 2019; и т. д.
4 См.: Смирнова Т. М. Семейная политика и трансформация семейно-брачных отношений в послереволюционной России (1917–1920-е гг.): основные итоги и актуальные вопросы изучения // Российская история. 2023. № 1. С. 146–157.
5 Коршунова Н. Н. Материнство и здоровье женщины: социальные практики в России конца XIX – начала XX веков // Репрезентации телесности. М., 2003. С. 128–137; Графова М. А. Аборт в Советской России в эпоху НЭПа: официальная пропаганда vs массовые установки // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Т. 38. 2020. № 4. С. 229–264; Материнство в советской деревне: ритуалы, дискурсы, практики: в 2 т. СПб., 2022; и т. д.
6 Мицюк Н.А., Пушкарёва Н. Л., Белова А. В. Человек рождающий: история родильной культуры в России Нового времени. М., 2022. Стоит отметить, что данная тема уже становилась объектом исследования, но лишь в рамках истории медицины (Леви М. Ф. История родовспоможения в СССР. М., 1950).
7 Смагина С. Новая женщина в кинематографе переходных исторических периодов. М., 2023; Смагина С. А. Критика «полового вопроса» в советском кинематографе второй половины 1920-х – начала 1930-х гг. // Артикульт. 2017. № 3. С. 89–94; Хан О. В. «Раскрепощение женщины Востока» в 1920-е годы: идеология, практика и кинематограф // Вестник антропологии. 2021. № 4. С. 215–229; Цивьян Ю. На подступах к карпалистике: движение и жест в литературе, искусстве и кино. М., 2010; Moss A. E. Stalin’s harem: the spectator’s dilemma in late 1930s // Studies in Russian and Soviet cinema. Vol. 3. 2009. № 2. P. 157–172; и т. д.
8 Shcherbenok A. Russian/Soviet screened sexuality: an introduction // Studies in Russian and Soviet cinema. Vol. 3. 2009. № 2. P. 137–138.
9 Дашкова Т. Ю. Любовь и быт в кинолентах 1930-х – начала 1950-х годов // Отечественная история. 2003. № 6. С. 59–67; Дашкова Т. Ю. Телесность – идеология – кинематограф: визуальный канон и советская повседневность. М., 2013.
10 Постановление наркоматов здравоохранения и юстиции РСФСР от 18 ноября 1920 г. «Об охране здоровья женщин» // Собрание узаконений РСФСР. 1920. № 90. Ст. 471.
11 Постановление ЦИК и СНК СССР 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатёж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» // Собрание законов СССР. 1936. № 34. Ст. 309.
12 В данной статье не рассматриваются научно-просветительское кино (например, фильм «Аборт» Н. И. Галкина, снятый в 1924 г.), которое в массе своей утеряно, а также документалистика (хотя, к примеру, в фильме «Человек с киноаппаратом» Д. Вертова, вышедшем в 1929 г., реальные роды показаны наиболее откровенно).
13 Абрам Матвеевич Роом. 1894–1976. Материалы к ретроспективе фильмов. М., 1994. С. 14.
14 URL: https://www.youtube.com/watch?v=0JBweoVX5Tw
15 Следует отметить, что несмотря на разрешение аборта, удовлетворить потребность в нём ввиду недостаточности количества соответствующего персонала и пространств советское государство не могло.
16 Госфильмофонд (далее – ГФФ). Р-1287.
17 URL: https://www.youtube.com/watch?v=LOsA6PMNVIw – с 16:45.
18 Там же, с 23:50.
19 Процесс над бандой, совершившей групповое изнасилование, состоявшийся в Ленинграде в 1926 г. и получивший широкий резонанс (подробнее см., например: Савчук А. А. Чубаровское дело как прецедент законодательства и социокультурное явление в Советской России 1920-х гг. // Женщины и мужчины в контексте исторических перемен. Материалы Пятой международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии РАН (Тверь, 4–7 октября 2012 г.). Т. 2. М., 2012. С. 235–238; Чубаров И. М. «Чубаровское дело»: теория, политика и коллективная чувственность на закате раннесоветской эпохи // Гендерные исследования. 2017. № 22. С. 58–76).
20 Эрмлер Ф. М. Документы, статьи, воспоминания. Л., 1974. С. 109–110.
21 URL: https://www.youtube.com/watch?v=cBSGjZ9wdQ8–23:58–26:53.
22 Кремлёвский кинотеатр. 1928–1953. Документы. М., 2005. С. 364–365.
23 ТРАМ – театр рабочей молодёжи.
24 РГАЛИ, ф. 1992, оп. 1, д. 55, л. 7.
25 Там же, д. 53, л. 58–61, 70.
26 Там же, л. 101, 103–104.
27 ГФФ. Р-1365.
28 РГАЛИ, ф. 2698, оп. 1, д. 37, л. 3–4.
29 Там же, л. 12.
30 Там же, л. 68, 72.
31 Вероятно, что это отсылка к соратнику Семашко и стороннику превентивной медицины В. А. Обуху (1870–1934). Он занимал пост заведующего Московским городским отделом здравоохранения, но в 1931 г. вышел на пенсию.
32 URL: https://www.youtube.com/watch?v=IFtI2jsDjrM – 19:10–22:20.
33 ЦГАЛИ, ф. 257, оп. 16, д. 8, л. 17.
34 URL: https://www.youtube.com/watch?v=1ojCNaUrDiM – 14:25–18:27.
35 РГАЛИ, ф. 2579, оп. 1, д. 20, л. 16.
36 Москвотоп – Московский топливный комитет, затем трест Наркомата лесной промышленности СССР.
37 Там же, д. 1403, л. 5 об.
38 Там же, л. 9 об.
39 Там же, л. 8 об.
40 URL: https://www.youtube.com/watch?v=tCZbNdi7fRM – с 48:27.
41 РГАЛИ, ф. 3015, оп. 1, д. 5, л. 43.
42 Там же, д. 293, л. 71.
43 Пролетарское кино. 1932. № 13–14. С. 30–31.
44 ЦГАЛИ, ф. 257, оп. 16, д. 307, л. 8–10, 16.
45 РГАЛИ, ф. 2698, оп. 1, д. 37, л. 218.
46 URL: https://www.youtube.com/watch?v=wHSjoF5-fVI
47 URL: https://www.youtube.com/watch?v=qCxBFrT3EpE
48 Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов (1918–2003). СПб., 2003. С. 18.
49 ЦГАЛИ, ф. 257, оп. 16, д. 306, л. 22–22 об.
50 Там же, л. 14 об.
51 РГАЛИ, ф. 1992, оп. 1, д. 53, л. 247.
52 ГФФ. Р-132.
53 ГФФ. Р-1287.
54 Любопытно, что и законная жена, и любовница находятся примерно на одном сроке беременности.
55 РГАЛИ, ф. 2014, оп. 1, д. 49, л. 15.
56 Там же, л. 18.
57 Там же, л. 32.
58 URL: https://www.youtube.com/watch?v=8PV3X6n_rNU
59 URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q1Yb50GePSI
60 ГФФ. Р-1485.
61 См.: Филина Ю. С. Вопросы репродуктивного поведения на страницах журнала «Работница» в 1917–1927 гг. // История России с древнейших времён до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды. Международная научно-практическая школа-конференция молодых учёных (8–9 октября 2019 г.). Сборник статей участников. М., 2019. С. 258–266.
62 См.: Жиромская В. Б. Основные тенденции демографического развития России в ХХ веке. М., 2013. С. 51. В фильме «Дорога к счастью» показана такая выставка.
63 ГФФ. Р-1427.
64 ГФФ. Р-1384.
65 РГАЛИ, ф. 2014, оп. 1, д. 49, л. 19.
66 Там же, л. 22.
67 Там же, л. 25–27.
68 Там же, л. 29–30.
69 URL: https://www.culture.ru/live/movies/13502/deti-cvety-zhizni
70 РГАЛИ, ф. 2014, оп. 1, д. 49, л. 32–33.
71 Там же, ф. 2698, оп. 1, д. 44, л. 76.
72 См.: Куприянов А. И., Зубкова Е. Ю., Мухаматулин Т. А., Прозуменщиков М. Ю. Советский спорт в контекстах холодной войны. М., 2023. С. 216–235.
About the authors
Julia S. Philina
Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
researcher
Russian Federation, MoscowReferences
- Араловец Н.А. Городская семья в России 1897–1926 гг. Историко-демографический аспект. М., 2019. 271 с.
- Артемьева М.А., Сергеев В.Н. Марксизм и медицина в XX веке: российский/советский опыт // Наследие Маркса: взгляд из XXI века: Сб. мат. конф. К 200-летию Карла Маркса и 150-летию «Капитала». М., 2019. С. 118–126.
- Булгакова О. Фабрика жестов. М., 2021. 640 с.
- Графова М. Аборт в Советской России в эпоху НЭПа: официальная пропаганда vs массовые установки // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2020. Т. 38. №. 4. С. 229–264.
- Дашкова Т.Ю. Любовь и быт в кинолентах 1930-начала 1950-х годов // Отечественная история. 2003. №.6. С. 59-67.
- Дашкова Т.Ю. Телесность - идеология - кинематограф: визуальный канон и советская повседневность. М., 2013. 256 с.
- Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в ХХ веке. М., 2013. 320 с.
- Жиромская В.Б., Араловец Н.А. Российские дети в конце XIX – начале XXI в.: историко-демографические очерки. М., 2018. 223 с.
- Коршунова Н. Материнство и здоровье женщины: социальные практики в России конца XIX – начала XX веков // Репрезентации телесности. М., 2003. С. 128-137.
- Коршунова Н.Н. Деятельность Коммунистической партии в области охраны материнства и младенчества (1917-1926 гг.) // КПСС в борьбе за социализм и коммунизм: Некоторые вопросы истории и историографии. М., 1985. С. 26-32.
- Леви М.Ф. История родовспоможения в СССР. ММ., 1950. 204 с.
- Мазур Л.Н. Визуальный поворот» в исторической науке на рубеже XX-XXI вв.: в поисках новых методов исследования // Диалог со временем. 2014. №. 46. С. 95-108.
- Материнство в советской деревне: Ритуалы, дискурсы, практики: в 2 т.; под общ. ред. С.Б. Адоньевой. СПб, 2022.
- Мицюк Н., Пушкарева Н., Белова А. Человек рождающий: История родильной культуры в России Нового времени. М., 2022. 512 с.
- Савчук А.А. Чубаровское дело как прецедент законодательства и социокультурное явление в Советской России 1920-х гг. // Женщины и мужчины в контексте исторических перемен. 2012. С. 235-238.
- Смагина С. Новая женщина в кинематографе переходных исторических периодов. М., 2023. 376 с.
- Смагина С.А. Критика «полового вопроса» в советском кинематографе второй половины 1920-х – начала 1930-х гг. // Артикульт. 2017. №3 (27). С. 89-94.
- Смирнова Т.М. Дети страны Советов: От государственной политики к реалиям повседневной жизни. 1917–1940 гг. М.; СПб., 2015. 384 с.
- Смирнова Т.М. Семейная политика и трансформация семейно-брачных отношений в послереволюционной России (1917–1920-е гг.): основные итоги и актуальные вопросы изучения // Российская история. 2023. №1. С. 146-157.
- Советский спорт в контекстах холодной войны. М., 2023. 488 с.
- Филина Ю.С. Вопросы репродуктивного поведения на страницах журнала «Работница» в 1917-1927 гг. // История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды: сб. ст. М., 2019. С. 258-266.
- Хан О.В. «Раскрепощение женщины Востока» в 1920-е годы: Идеология, практика и кинематограф // Вестник антропологии. 2021. №4. С. 215–229.
- Цивьян Ю. На подступах к карпалистике: движение и жест в литературе, искусстве и кино. М., 2010. 327 с.
- Чубаров И. «Чубаровское дело»: теория, политика и коллективная чувственность на закате раннесоветской эпохи // Гендерные исследования. 2017. №. 22. С. 58-76.
- Щербакова Е.И. Визуальная история: освоение нового пространства // Исторические исследования в России–III. Пятнадцать лет спустя. М., 2011. С. 473-488.
- Gradskova Yu. Soviet People with Female Bodies. Performing Beauty and Maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960s. Stockholm, 2007. 347 p.
- Moss A.E. 'Stalin's harem: the spectator's dilemma in late 1930s // Studies in Russian and Soviet Cinema. 2009. Vol. 3. № 2. Pp. 157-172.
- Shcherbenok A. Russian / Soviet screened sexuality: An introduction // Studies in Russian and Soviet Cinema. 2009. Vol. 3. №2. Pp. 137-138.
Supplementary files