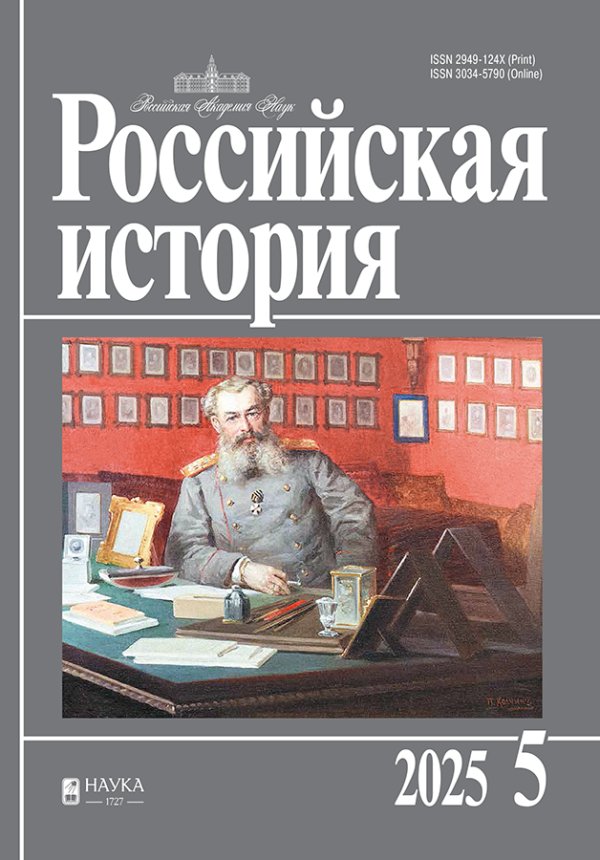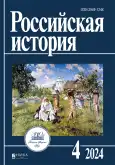«Украинский кризис» Общества историков-марксистов
- Авторы: Тихонов В.В.1
-
Учреждения:
- Институт российской истории РАН
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 141-150
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268636
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040131
- EDN: https://elibrary.ru/FFBRZM
- ID: 268636
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена дискуссии, развернувшейся на рубеже 1920-30-х гг. между «московскими» и «украинскими» историками по поводу принципов взаимодействия Общества историков-марксистов при Комакадемии и Украинского общества историков-марксистов. Изучение дискуссии позволяет выйти на проблему выстраивания модели взаимодействия центра и регионов в советской исторической науке. На новых документах из Архива РАН продемонстрировано, что московское Общество историков-марксистов во главе с М.Н. Покровским взяло курс на построение относительно централизованной модели, чему противились украинские историки, отстаивавшие принципы национал-коммунизма. Противостояние носило открытый характер, в нем украинские историки опирались на руководство Украинской ССР. Во время т.н. «Великого перелома» прокатилась волна политических чисток, сильно ударивших в том числе и по украинской интеллигенции. После этого были устранены препятствия для Общества историков-марксистов. Однако и оно оказалось в кризисе из-за смерти ее лидера – М.Н. Покровского. Плоды дискуссии «пожинались» уже другими институциями: сначала Институтом истории при Комакадемии, а затем и Институтом истории АН СССР. Последствия «украинского кризиса» были масштабными. Оказались устранены противники построения централизованной модели исторической науки, в которой республиканские центры подчинялись московским. Это прямо отразилось и на процессе создания историй народов СССР: началось преодоление территориального историко-культурного подхода, ассоциировавшегося в первую очередь с украинской политической и интеллектуальной элитой, появились проекты создания не отдельных историй республик, а общесоюзной истории СССР.
Полный текст
Общество историков-марксистов при Коммунистической академии появилось в 1925 г., чтобы стать штабом новой исторической науки. В исследовательской литературе выделяются два подхода к изучению этой организации. Первый можно обозначить как институциональный, т. е. направленный на реконструкцию истории самого общества, анализ формализованных и неформальных механизмов его функционирования1. Второй – как функциональный, он предполагает изучение роли общества в исторической науке своего времени, его значение в борьбе с историками «старой школы» и различными «историографическими уклонами»2.
В тени остаётся влияние общества на процесс создания национальных историй народов СССР. Исключение – статья В. Н. Данилова, в которой обстоятельно описаны дискуссии московских историков-марксистов с украинскими3. По мнению автора, Общество сыграло ключевую роль в критике украинской историографии и тем самым расчистило путь для формирования исторической концепции, не противоречившей общей схеме истории СССР. В этом объяснении вызывает возражение лишь указание на наличие общей схемы истории страны – её, как известно, не могли сформулировать ещё долгое время. Корректнее говорить о преодолении сопротивления украинских историков интеграции (фактически централизации), о чём, справедливости ради, автор тоже пишет.
Тем не менее данный сюжет требует рассмотрения в более широком контексте. Во-первых, «развал» (в терминологии Данилова) украинской историографии явился частью процесса зачистки «буржуазных» и «национал-коммунистических» элементов, начавшегося в ходе «Великого перелома» и культурной революции конца 1920-х гг. Во-вторых, последствия решения «украинского вопроса» оказались гораздо шире и привели к переформатированию всего процесса написания национальных историй с целью формирования стандартов общесоюзного историописания. Наконец, в статье Данилова обнаруживаются неожиданные фактографические лакуны, которые можно и нужно заполнить для лучшего понимания произошедшего.
Для начала следует обозначить основные вехи «украинского кризиса». Переломным стал 1928 г., когда Общество историков-марксистов взяло курс на расширение своей деятельности4. 3 марта на заседании президиума Коммунистической академии был заслушан доклад, в котором заявлялось, что именно Общество станет основным центром исторической работы академии5. К тому времени его отделения уже появились в союзных республиках. Однако в декабре того же года заявило о себе Украинское общество историков-марксистов6, претендовавшее на самостоятельность. Эта позиция совпадала (и, возможно, объяснялась) с установками наркома образования Украинской ССР и ключевого проводника политики украинизации Н. А. Скрыпника. С его точки зрения, УССР не должна противопоставлять себя остальному Союзу, в его рамках все республики равны и никто не должен претендовать на гегемонию. В этой связи он поддерживал территориальную концепцию, согласно которой историко-культурное наследие принадлежит той республике, на территории которой оно появилось. Например, «Слово о полку Игореве» он считал достоянием украинской литературы7. В схожем ключе рассуждали и местные историки, считавшие, что всё происходившее на территории Украины является украинской историей. Ирония заключалась в том, что границы УССР оставались во многом «воображаемыми»8: помимо неё существовали украинские области Польши, продолжались территориальные споры с РСФСР и дискуссии о том, какие земли являются частью Украины с этнокультурной точки зрения9.
Лидером украинской исторической науки считался М. С. Грушевский, который приехал в СССР в 1924 г. В 1929 г. его избрали академиком АН СССР, но вскоре развернулась критика его концепции Украины-Руси. Если в 1920-х гг. эта концепция, пусть и с серьёзными оговорками, приветствовалась как альтернатива великодержавной версии общерусской истории, то в начале 1930-х гг. такой подход выглядел уже излишне националистическим, страдающим «этнографизмом». Грушевского начали критиковать в общесоюзной, а затем и украинской печати. Однако и остальные украинские историки постоянно упрекались в продвижении различных вариаций концепции крестьянской революции на Украине, что расценивалось как отказ от теории общей пролетарской революции под руководством партии большевиков. Таким образом, устремления политических и научных кругов УССР к организационной и отчасти концептуальной самостоятельности встали на пути начавшейся централизации научных и культурных институций, отражавшей общий процесс концентрации и мобилизации наличных ресурсов (в том числе и идеологических) в условиях «военной тревоги» и начала «великого перелома».
Именно это противоречие вскрыла Первая Всесоюзная конференция историков-марксистов, прошедшая с 28 декабря 1928 г. по 4 января 1929 г. Ей предстояло принять курс на объединение историков вокруг «московского» Общества и утвердить его в статусе общесоюзной организации. Фактически Общество должно было поглотить прочие организации. В свою очередь украинцы стремились построить отношения с центром на принципах ассоциации, сохранив сколь возможно широкую самостоятельность. Представляя крупный республиканский исторический центр, выступавший к тому же «витриной» советского проекта для западноукраинских земель, находившихся в составе Польши, они собирались отстаивать свои позиции, в том числе в дискуссиях по историческим и историографическим вопросам.
На съезде работала секция истории народов СССР, где прозвучал доклад лидера украинцев М. И. Яворского «Современные антимарксистские течения в украинской исторической литературе»10. Во время его обсуждения и произошло столкновение с «москвичами». Сотрудник Украинского института марксизма-ленинизма З. Н. Гуревич заявил, что в русской историографии советского периода сохраняются «отрыжки великодержавного шовинизма». В качестве примеров указывалось на отрицание М. В. Нечкиной украинских «моментов» в декабристском Обществе соединённых славян, упоминание в сборнике «Крестьянское движение в 1917 г.» Юго-Западного края, Таврической губ. и т. д. По мнению оратора, «целостный комплекс экономических, социально-политических и социально-культурных явлений, который имеет название – Украина, сборник рассматривает под таким углом, что из карты его исторического исследования совершенно исчезает этот комплекс»11. В обстановке споров о границе УССР и РСФСР история превращалась в поле битвы за «исконно исторические» территории, а реальные или мнимые попытки оспорить положение Украины в Союзе воспринимались болезненно.
Сама Нечкина, поддержав линию конференции на интеграцию советской исторической науки, посетовала, что контакты между историками УССР и РСФСР очень слабы, недвусмысленно намекнув, что создание общесоюзного Общества решит эту проблему и исключит всевозможные недоразумения. Она также отвергла концепцию «украинского декабризма», указав, что та не подтверждается фактами. Наиболее резко выступил П. О. Горин, который указал Гуревичу, что борьба с «великодержавным шовинизмом» пойдёт «куда успешнее, если наши украинские товарищи не будут отдавать дань некоторым отрыжкам домарксистской исторической науки на Украине, которые всегда охотно подхватит Грушевский и его ученики… чтобы создать подлинную марксистскую теорию, необходимо помнить, что ни на какие компромиссы с нашими врагами мы идти не можем и со всякими подделками под марксизм будем разделываться беспощадно»12. Последнее прозвучало как угроза, Гуревич не выдержал и сказал с места: «Борьба с уклонами не означает ликвидации великодержавного шовинизма». Однако Горин подчеркнул, что историю Украины нельзя изучать в отрыве от истории России.
Украинский историк М. А. Рубач 13 говорил, что историки РСФСР не демонстрируют «великодержавность», но часто проявляют «нечуткое отношение к украинской историографии», не учитывая многих её болевых точек, например, называют украинские территории «Югом России». Он призвал к интернационализму не на словах, а на деле. Важно отметить: Рубач сказал, что в кулуарах ведутся разговоры, будто украинские историки создали свою историческую схему, отличную от общесоюзной. «А таких разговоров, товарищи, абсолютно не должно быть»14, – заключил он.
Подводивший итоги М. Н. Покровский указал на единый фронт «реакции и контрреволюции», отметив схожесть позиций Грушевского и П. Н. Милюкова по вопросу о крестьянском, а не пролетарском характере революции на Украине, и призвал установить «твёрдый» фронт советских историков в борьбе с оппонентами, а не погрязать в спорах. Он поддержал Рубача в том, что следует говорить не о великодержавности, а о «неряшливости» в отношении украинских сюжетов, одновременно отметив опасность позиции Гуревича, скатывающегося к местному шовинизму и «этнографизму». Заключительное слово предоставили Яворскому. Отвечал он нервно. Его явно возмутила критика украинских историков, которые, как он утверждал, сумели в тяжёлых условиях создать марксистскую схему истории Украины. Горина он обвинил в «примитивизме» и напомнил о случаях «русификации» нерусских явлений в историографии. Выступил и Гуревич, признавший, что преувеличил роль «великорусского шовинизма». Собравшиеся согласились с необходимостью более внимательного отношения к терминам и продолжения борьбы против «неряшливости» в выражениях.
Однако проблема, столь ярко проявившись, решена не была. Сразу после съезда Горин опубликовал в «Правде» рецензию на книгу Яворского «Iсторiя Украïни в стислому нарисi», в которой критиковал её автора за «фетишизацию национального момента» и смазывание классовой борьбы. Тот в ответной статье писал о «руссотяпстве». На опасные тенденции среди украинских историков указал и Покровский. Горин выступил против избрания Яворского в состав Коммунистической академии15. В печати появились публикации, в которых со стороны московских и украинских историков звучали взаимные упрёки16.
Тем временем по итогам съезда Общество историков-марксистов приобрело статус общесоюзной организации и вскоре развернуло деятельность в регионах РСФСР и республиках СССР17. Началось «овладение республиканской периферией». Появление филиалов Общества сопровождалось закрытием различных местных исторических обществ18. Это не могло не беспокоить историков УССР, которые поддержали создание ассоциации обществ историков-марксистов, а не поглощение региональных обществ центральным. Данное положение закрепил устав Украинского общества историков-марксистов, одобренный ЦК КП(б)У при поддержке генерального секретаря ЦК партии, члена Политбюро ЦК ВКП(б) С. В. Косиора.
Однако украинцы оказались в слабой позиции. Уже весной 1930 г. в Харькове прошёл процесс по делу «Союза освобождения Украины», приведший к аресту ряда интеллектуалов по обвинению в стремлении реставрировать капитализм. Украинская академия наук получила сильный удар. Аналогичные процессы состоялись и в других республиках: РСФСР (так называемое академическое дело), Белоруссии, Узбекистане и т.д. 19Основной удар наносился по местной интеллигенции, «старым спецам», «сменовеховцам», в чьих услугах советская власть, как ей казалось, уже не нуждалась. Предстояло расчистить дорогу для марксистских кадров и защитить себя от «внутренних вредителей» и потенциальной «контрреволюции». В этом контексте обвинения в местном «буржуазном» национализме оказались гораздо серьёзнее, чем обвинения в «великорусском шовинизме». Особенно ярко это проявилось именно на Украине, где, помимо прочего, прогремело дело Украинского национального центра. Под ударом привычно оказались лидеры местной историографии, в том числе Грушевский, Яворский и Д. И. Багалей20. Яворский получил обвинение в сотрудничестве с гетманом П. П. Скоропадским, стал объектом масштабной кампании критики и вынужден был публично покаяться. В идеологическом лексиконе появился термин «яворщина», подразумевавший украинский сепаратизм в историографии21. Однако и простые историки, многие из которых считались учениками перечисленных лидеров, оказались в обстановке давления и репрессий22.
Воспользовавшись идеологическими кампаниями, московские историки пошли в наступление. 3 марта 1930 г. в «Известиях ЦИК СССР» появилась статья Покровского и Горина, в которой «яворщина» объявлялась серьёзной проблемой украинской историографии. В дело пришлось вмешаться влиятельному Косиору. В письме в редакцию «Правды» он заявил, что в Комакадемии не понимают украинской специфики, и КП(б)У в борьбе с уклонами справится без их помощи23.
В сложившейся ситуации как вызов выглядело приглашение Покровскому от Украинского общества историков-марксистов принять участие во Всеукраинском съезде историков-марксистов и выступить с докладом на тему «О схеме истории народов СССР». Разумеется, местных историков в первую очередь интересовало определение места в ней украинской истории24.
Открытое столкновение между украинским и общесоюзным обществами произошло в ноябре 1930 г. Фоном для нового витка конфликта послужил XVI съезд ВКП(б), на котором Сталин заявил об опасности «великорусского шовинизма»25. После этого украинцы решили перейти к «активной обороне». Московский историк С. А. Пионтковский записал в дневнике: «Я нарочно пригласил к себе теперешнего лидера украинской науки Рубача. Он был у меня 25 и 29 июня, просидел целый вечер. Он доказывает, что нет и не может быть сейчас истории народов СССР, что история народов СССР – это понятие этнографическое, [мы] должны заниматься историей Великороссии, как они должны заниматься историей Украины. Для него основным стержнем связанных исторических процессов является национальность. Нужно сказать, что он очень твёрдо требует от нас внесения национального момента в историю, но что он в своей украинской истории ориентирован очень плохо. Он едва-едва знает её, но зато необыкновенно громко и решительно он обвиняет в национал-шовинизме. Вообще сейчас сказать человеку, что он великодержавный шовинист, – это привести его в ужас, напугать до смерти»26.
Помимо частного общения с московскими коллегами Рубач присутствовал на заседании Общества историков-марксистов 26 июня 1930 г., о котором затем сделал доклад на Всеукраинском пленуме совета Украинского общества историков-марксистов27. После его выступления пленум принял чрезвычайно резкое заявление в адрес москвичей. Из него можно узнать, что на заседании 26 июня Рубач потребовал осуществить развёрнутую критику «национально-великодержавных теорий» и определиться с вопросом о самостоятельности украинской истории. В ответ Горин и И. Л. Татаров обвинили украинцев в стремлении к изоляции.
Масла в огонь подлила статья Т. Скубицкого, опубликованная в рупоре советской исторической науки, печатном органе Общества журнале «Историк-марксист». В ней автор громил наследие Грушевского и утверждал, что историки на Украине – Яворский, Багалей, А. П. Оглоблин, И. Ю. Гермайзе, Т. М. Слабченко и др. – всё ещё находятся под влиянием его схем. Автор назвал их «псевдомарксистами» и заявил, что их концепции связаны с программными установками «Союза освобождения Украины»28. Это в УССР расценили как вызов. 30 октября была подготовлена резолюция совета Украинского общества историков-марксистов, утверждённая 5 ноября. В ней Скубицкий обвинялся в передёргивании фактов, незнании ситуации, отрицании колониального характера русского царизма и т. д. Общество потребовало признать ошибки не только свои, но и Общества историков-марксистов при Комакадемии29.
Ещё более резкой оказалась резолюция от 6–7 ноября. В ней заявлялось, что «русская марксистская историография не осуществила ещё развёрнутой критики националистически-великодержавных теорий, имеющихся в буржуазной исторической литературе, а также их влияний и проявлений в работах отдельных русских историков-марксистов». Ведущие сотрудники Комакадемии Татаров, Горин, Н. Н. Ванаг, М. С. Волин обвинялись в отрицании самостоятельности украинской истории и «великодержавном русотяпском уклоне». Возмущение украинцев вызвало то, что их стремление построить взаимоотношение с московским Обществом на принципах ассоциации объявлялось проявлением «яворщины» и культивированием традиций Грушевского, а также утверждением, что «на украинском участке исторического фронта в национальном вопросе главной опасностью является не великодержавный шовинизм, а шовинизм местный». По мнению украинской фракции, Покровского призвали публично выступить с чётким изложением позиции по данному вопросу. Докладная записка по позиции Украинского общества направлялась в ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У30.
На обсуждении резолюции Покровский согласился с рядом положений, в частности, признал отсутствие критики «националистически-шовинистических теорий». Однако такое признание оказалось скорее формой вежливости. Далее оратор подчеркнул, что говорить о «самостоятельности истории Украины» не приходится, поскольку такого государства не существовало, и изучать украинскую историю следует в рамках истории других государств. В свойственном ему стиле он съязвил: «Что же, мы должны… воображать, что в это время Николай I, Александр II и III были гетманами?»31.
Скубицкому пришлось написать в редакцию «Историка-марксиста» письмо с признанием, что он недостаточно знаком с ситуацией в украинской историографии, поэтому допустил неправильные и резкие высказывания. Признал он и активную роль КП(б)У в борьбе с «яворщиной»32. Однако об извинениях от всего Общества историков-марксистов и его печатного органа речи не шло. Уступки носили скорее тактический и даже декоративный характер, а вот реальные чистки в УССР вскоре привели к капитуляции Украинского общества историков-марксистов.
Символом победы московских историков стала резолюция «О положении на историческом фронте на Украине». Документ не датирован и обозначен как проект. Его происхождение неясно, но недвусмысленно указано, что текст подготовлен фракцией украинских историков-марксистов. Таким образом, перед нами признание ошибок в форме самокритики. Можно приблизительно датировать его по положению документа в общем комплексе архивной документации Общества историков-марксистов, фонд которого хранится в Архиве РАН. Резолюция находится среди документов, датированных началом 1931 г. Кроме того, в том же фонде хранится письмо Украинского общества историков-марксистов в общество московское, датированное 1 февраля 1931 г., в котором ставится вопрос о том, в каком состоянии находится разработка резолюции «О положении на историческом фронте СРСР»33. Очевидно, она должна была касаться всей советской исторической науки и задавать тон украинской. Скорее всего, они готовились параллельно. Всё это указывает на то, что документ можно датировать первыми месяцами 1931 г.
В тексте отмечалось, что существуют два основных уклона: великодержавный шовинизм и национал-шовинизм. Признавалось, что в условиях обострения классовой борьбы в работах ряда историков-марксистов произошло усиление великодержавных тенденций. «Шовинизм выражается в игнорировании и непонимании самостоятельности истории народов СССР, в попытках рассмотреть подчинение и ограбление отдельных наций как следствие территориальных расширений и простой колонизации и ассимиляции, в игнорировании национальных моментов при рассмотрении этапов революционной борьбы, в игнорировании и замалчивании влияния борьбы угнетённой нации на ход общего исторического процесса и т. д., и т. п.». Основными чертами национал-шовинизма назывались «превращение национального вопроса в основной стержень исторического процесса, подчинение социальных, классовых конфликтов национальным, полный отрыв борьбы за национальное освобождение от общей борьбы трудящихся против крепостничества и капиталистической эксплуатации, рассмотрение истории СССР как суммы изолированных историй, игнорирование влияния борьбы российского пролетариата вообще и в частности в деле национального раскрепощения»34.
Первоочередной задачей украинских историков объявлялась борьба с «яворщиной» как кулацко-националистической идеологией. Далее Украинское общество историков-марксистов фактически каялось за стремление сохранить самостоятельность: «Фракция констатирует совершенно недостаточную связь и крайне ненормальные отношения между Обществом историков-марксистов при Коммунистической академии и Обществом историков-марксистов Украины… попытка Совета общества установить самые тесные отношения и стремление создать деловой контакт не встречали достаточной поддержки со стороны руководящих товарищей Общества историков-марксистов Украины, явно стремившихся обособиться от общего марксистского фронта историков»35. Покровский и его окружение могли торжествовать победу.
Важным элементом процесса выстраивания централизованной структуры вокруг Общества историков-марксистов стало появление при его секции истории народов СССР двух подсекций – Украины и Белоруссии36. Тем самым демонстрировалось, что этой тематикой могут заниматься не только «национальные» историки, фактически им создавался контролирующий противовес.
Но к тому времени и в Москве было неспокойно. К началу 1931 г. весь «исторический фронт» находился в состоянии брожения и «войны всех против всех». Критике подвергся Рубач, проявивший «примиренчество» к «яворщине»37. Одновременно бушевала борьба историков, группировавшихся вокруг Покровского, и тех, кто поддерживал Е. М. Ярославского. В центре конфликта оказался Горин, считавшийся любимым учеником первого38. Противостояние закончилось направлением (фактически изгнанием) его в Белоруссию.
На этом фоне 19 мая 1931 г. прошло заседание секции истории народов СССР Общества историков-марксистов, заслушавшее доклад Н. Л. Рубинштейна «Проблемы украинского исторического процесса и пути развития украинской историографии». Уникальность события заключается в том, что сообщение по теме сделал московский историк – ранее такая прерогатива принадлежала только представителям УССР. Однако в условиях идеологического кризиса украинской историографии, которую обвиняли в следовании традициям «буржуазных националистов», центр получил право оценить её состояние. Впрочем, в Обществе поступили деликатно: Рубинштейн родился в Одессе и, хотя уже проживал в Москве, всё же мог считаться историком с Украины.
Он рассмотрел развитие украинской историографии как борьбу двух подходов. Первым являлся державный, в центре его внимания находилась держава Б. Хмельницкого, считавшаяся пиком государственного развития Украины. Такой подход фактически упразднял единство украинского исторического процесса, поскольку собственная государственность в украинской истории была явлением в лучшем случае кратковременным. Второй подход, развивавшийся школой Грушевского, обозначен как национально-народнический, в его рамках историк «пытается преодолеть разорванность политической истории в единстве обобщающего культурно-этнического и психологического понятия нации». Однако это делает нацию «внеисторическим» феноменом и не позволяет придать историческому процессу «органическую целостность».
По мнению Рубинштейна, украинский историографический процесс – это борьба двух этих подходов: «Исторически сменяющиеся классовые группировки выдвигают последовательно державническую схему в момент устойчивости своей внутренней классовой позиции и переходят к национально-народнической культурно-этнической схеме, когда пошатнувшееся социальное положение толкает их за помощью к третьей силе». Державничество докладчик в соответствии с классовым анализом связал с украинской буржуазией. Однако «в [18]60-е годы выравнивание межнационального классового фронта, ослабление антагонизма с русской буржуазией и одновременно обострение внутренней классовой борьбы со стороны пролетариата и революционного крестьянства заставляют и буржуазию в свою очередь перейти на позицию этнографизма и национально-народнической идеи». Наиболее ярко эта трансформация видна у Н. И. Костомарова и П. А. Кулиша. Украинское народничество собственной исторической схемы не создало. Затем «развитие пролетарского движения и классовая дифференциация села ведёт к оформлению мелко-буржуазной крестьянской платформы, на базе коей утверждается национально-народническая историософия Грушевского и державническая кулацкая схема [В.К.] Липинского. Эти же две схемы получают своё дальнейшее отражение – первая у Яворского, вторая у [М.Е.] Слабченко». Следует указать, что к тому времени последних двух уже арестовали по делу «Союза освобождения Украины».
Докладчик недвусмысленно указал, что украинская историография остаётся в плену свойственных ей «непролетарских» схем, и подвёл итог: «Только классовое пролетарское движение фактически преодолевает дуализм классового и национального антагонизма, утверждая единый фронт классовой борьбы и вскрывая классовое содержание национальной проблемы. И только марксистская историография может преодолеть разорванность старой формальной схемы украинской историографии и дать органический синтез украинского исторического процесса»39. Кто же «научит» погрязших в «историографических грехах» украинских историков? Очевидно, общесоюзное Общество историков-марксистов. Можно отметить, что Рубинштейн повторял основные идеи этого доклада даже в 1950-х гг.40
Таким образом, «кризис» формально закончился победой «москвичей». Однако можно сказать, что она для их организации оказалась «пирровой». Смерть Покровского и борьба за его наследие, а затем крутые повороты в исторической политике парализовали работу Общества, в 1932 г. оно фактически свернуло деятельность41.
Последствия «украинского кризиса» были масштабными. Оказались устранены противники построения централизованной модели исторической науки, в которой республиканские центры подчинялись московским. Это прямо отразилось и на процессе создания историй народов СССР: началось преодоление территориального историко-культурного подхода, ассоциировавшегося в первую очередь с украинской политической и интеллектуальной элитой, появились проекты создания не отдельных историй республик, а общесоюзной истории СССР. Вскоре Институт истории Коммунистической академии выступил с инициативой организации и подготовки таких трудов под своим общим руководством и контролем42.
1 См.: Дорошенко В. А. Образование и основные этапы деятельности Общества историков-марксистов (1925–1932 гг.) // Вестник Московского университета. Сер. 9. История. 1966. № 3. С. 10–22; Метель О. В. Создание сети региональных отделений Общества историков-марксистов в 1930–1932 гг. // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2018. № 1. С. 213–219; Груздинская В. С., Клюев А. И., Метель О. В. Очерки истории институциональной структуры советской исторической науки 1920–1930-х гг. Омск, 2018. С. 90–105; Данилов В. Н. Финальные аккорды «детища» М. Н. Покровского: общество историков-марксистов в начале 1930-х годов // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 26. 2021. № 2. С. 143–156.
2 Данилов В. Н. Общество историков-марксистов и историки «старой школы» // История и историческая память. 2016. № 13–14. С. 93–103; Данилов В. Н. Н. А. Рожков и Общество историков-марксистов (судьба историка и его научного наследия в середине 1920-х – начале 1930-х гг.) // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. Т. 24. 2018. № 2. С. 16–25.
3 Данилов В. Н. Украинская тема в Обществе историков-марксистов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. История. Международные отношения. Т. 15. 2015. № 3. С. 22–30.
4 Об этом см.: Сидоров А. В. «Историк-марксист» восемьдесят лет назад: смена приоритетов в советской исторической науке // История и историки: историографический вестник. 2007. М., 2009. С. 165–166.
5 Доклад Общества историков-марксистов в президиуме Комакадемии // Историк-марксист. 1928. Т. 7. С. 3–17. См. также: Тихонов В. В. Как «История народов СССР» стала «Историей СССР»: к вопросу о трансформации идеологических установок советского курса истории в 1930-е годы // Россия и современный мир. 2023. № 4. С. 168–182.
6 50 лет советской исторической науки. 1917–1967. Хроника / Сост. А. И. Алаторцева, Г. Д. Алексеева. М., 1971. С. 121.
7 Борисёнок Е. Ю. Феномен советской украинизации. 1920–1930-е гг. М., 2006. С. 187–188.
8 О процессе конструирования украинской истории в XIX – начале XX в. см.: Толочко А. П. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке. Киев, 2012. С. 9–45.
9 Подробнее см.: Дроздов К. С. Политика украинизации в Центральном Черноземье, 1923–1933 гг. М., 2016; Круглов В. Н. Организация территории России в 1917–2007 гг.: идеи, практика, результаты. М., 2020. С. 98–100; Шульгина А. Н. Границы по памяти и представлению // Россия в глобальной политике. Т. 20. 2022. № 5. С. 136–152.
10 Текст см.: Яворский М. Современные антимарксистские течения в украинской исторической литературе // Труды Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов. 28.XII.1928–4.I.1929. Т. 1. М., 1930. С. 426–435.
11 Там же. С. 440.
12 Там же. С. 451.
13 Стоит указать, что он окончил Институт красной профессуры и был для московских историков-марксистов «своим», публиковался в сборнике участников историографических семинаров Покровского (Рубач М. А. Федералистские теории в истории России // Русская историческая литература в классовом освещении. Сборник статей с предисловием и под редакцией М. Н. Покровского. Вып. 2. М., 1930). Учившийся с ним А. Л. Сидоров вспоминал: «У меня создалось впечатление, возможно, ошибочное, что Рубач болеет украинским национализмом, хотя ему как украинскому еврею этот национализм не должен быть свойственен» (Сидоров А. Л. Институт красной профессуры // Мир историка. Историографический сборник. Вып. 1. Омск, 2005. С. 381).
14 Труды Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов… С. 455.
15 Подробнее см.: Данилов В. Н. Украинская тема в Обществе историков-марксистов. С. 25–26.
16 Рубач М. Всесоюзна конференція істориків-марксистів та деякі наші чергові завдання // Лiтопис революцїi. 1929. № 2. С. I–X; Покровский М. Н. Всесоюзная конференция историков-марксистов // Историк-марксист. 1929. № 11. С. 7–9.
17 Резолюция Всесоюзной конференции историков-марксистов // Историк-марксист. 1929. № 11. С. 230.
18 Метель О. В. Создание сети региональных отделений… С. 215.
19 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011. С. 343–375; Борисёнок Е. Ю. Феномен советской украинизации… С. 202–207; Дроздов К. С. Большевики против белорусской интеллигенции: деятельность комиссии Затонского в мае–июне 1929 г. и «крутой поворот» в национальной политике в БССР // 1929: «Великий перелом» и его последствия. Материалы XII международной научной конференции (Екатеринбург, 26–28 сентября 2019 г.). М., 2020. С. 108–116.
202 Подробнее см.: Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський. Справа «УНЦ» і останні роки (1931–1934). Київ, 1999.
21 Екельчик С. Iмперiя пам’ятi. Росiйсько-украϊнськi стосунки в радянськiй iсторичнiй уявi. Київ, 2008. С. 40–41. По мнению Я. А. Лазарева, кампания не имела идеологической подоплеки, а оказалась следствием стечения обстоятельств: Лазарев Я. А. Идеологическая кампания или роковая случайность? Дискуссии 1928–1930 гг. и крах карьеры историка М. И. Яворского // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. Т. 26. 2024. № 2. С. 194–212.
22 Ясь А.В. «Покаянные» и «обличительные» тексты украинских историков в первой половине 1930-х гг. как способ организации культурного пространства тоталитарного общества // Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы. Материалы VI международной научной конференции (Киев, 10–12 октября 2013 г.). М., 2014. С. 247–255.
23 Правда. 1930. 6 апреля. № 95. С. 6.
24 Архив РАН (далее – АРАН), ф. 377 (Общество историков-марксистов), оп. 1, д. 80, л. 151.
25 Сталин И. Вопросы ленинизма. М., 1933. С. 566.
26 Дневник историка С. А. Пионтковского (1927–1934) / Отв. ред., вступ. ст. A. Л. Литвина. Казань, 2009. С. 341.
27 Документы обнаружены в фонде Покровского (АРАН, ф. 1759) и частично опубликованы (Юрганов А. Л. Русское национальное государство: жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011. С. 34–43). Однако исследователь работал со случайной выборкой и не мог составить представление об общей картине и контексте.
28 Скубицкий Т. Классовая борьба в украинской исторической литературе // Историк-марксист. 1930. № 17. С. 27–40.
29 АРАН, ф. 377, оп. 1, д. 80, л. 94–95.
30 Там же, л. 79, 83, 84.
31 Юрганов А. Л. Русское национальное государство… С. 41.
32 АРАН, ф. 377, оп. 1, д. 80, л. 42.
33 Там же, л. 34. СРСР – украинская аббревиатура СССР (Союз Радянських Соціалістичних Республік).
34 Там же, л. 52–53.
35 Там же, л. 58–59.
36 Там же, л. 38.
37 Данилов В. Н. Украинская тема в Обществе историков-марксистов. С. 28–29.
38 Подробнее см.: Артизов А. Н. Школа М. Н. Покровского и советская историческая наука, конец 1920-х – 1930-е гг. Дис. … д-ра ист. наук. М., 1998. С. 99–102.
39 АРАН, ф. 377, оп. 2, д. 258, л. 5.
40 Lazarev Ya. Party political course and Ukrainian history in the USSR // Quaestio Rossica. Vol. 8. 2020. № 5. Р. 1769–1784.
41 Данилов В. Н. Финальные аккорды «детища» М. Н. Покровского… С. 143–156.
42 АРАН, ф. 359, оп. 1, д. 303.
Об авторах
Виталий В. Тихонов
Институт российской истории РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: otech_ist@mail.ru
ведущий научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Артизов А.Н. Школа М.Н. Покровского и советская историческая наука, конец 1920х – 1930-е гг. Дис. … д-ра ист. наук. М., 1998. С. 99–102.
- Борисенок Е.Ю. Феномен советской украинизации. 1920–1930-е гг. М., 2006.
- Груздинская В.С., Клюев А.И., Метель О.В. Очерки истории институциональной структуры советской исторической науки 1920–1930-х гг. Омск, 2018.
- Данилов В.Н. Н.А. Рожков и Общество историков-марксистов (судьба историка и его научного наследия в середине 1920-х – начале 1930-х гг.) // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. Т. 24. 2018. № 2. С. 16–25.
- Данилов В.Н. Общество историков-марксистов и историки «старой школы» // История и историческая память. 2016. № 13–14. С. 93–103.
- Данилов В.Н. Украинская тема в Обществе историков-марксистов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. Т. 15. 2015. № 3. С. 22–30.
- Данилов В.Н. Финальные аккорды «детища» М.Н. Покровского: общество историков-марксистов в начале 1930-х годов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 26. 2021. № 2. С. 143–156.
- Дневник историка С.А. Пионтковского (1927–1934) / Отв. ред., вступ. ст. A.Л. Литвина. Казань, 2009.
- Доклад Общества историков-марксистов в президиуме Комакадемии // Историк-марксист. 1928. Т. 7. С. 3–17.
- Дорошенко В.А. Образование и основные этапы деятельности Общества историков-марксистов (1925–1932 гг.) // Вестник Московского университета. Серия IX. История. 1966. № 3. С. 10–22.
- Дроздов К.С. Большевики против белорусской интеллигенции: деятельность комиссии Затонского в мае–июне 1929 г. и «крутой поворот» в национальной политике в БССР // 1929: «Великий перелом» и его последствия. Материалы XII Международной научной конференции (Екатеринбург, 26–28 сентября 2019 г.). М., 2020. С. 108–116.
- Дроздов К.С. Политика украинизации в Центральном Черноземье, 1923–1933 гг. М., 2016.
- Екельчик С. Iмперiя пам’ятi. Росiйсько-украϊнськi стосунки в радянськiй iсторичнiй уявi. Киiв, 2008.
- Круглов В.Н. Организация территории России в 1917-2007 гг.: идеи, практика, результаты. М., 2020.
- Лазарев Я.А. Идеологическая кампания или роковая случайность? Дискуссии 1928–1930 гг. и крах карьеры историка М. И. Яворского // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2024. Т. 26, № 2. С. 194-212.
- Мартин Т. Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.
- Метель О.В. Создание сети региональных отделений Общества историков-марксистов в 1930–1932 гг. // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2018. № 1. С. 213–219.
- Покровский М.Н. Всесоюзная конференция историков-марксистов // Историк-марксист. 1929. № 11. С. 7–9.
- Правда. 1930. № 95 (6 апреля).
- Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський: Справа «УНЦ» і останні роки (1931–1934). Кiив, 1999.
- Резолюция Всесоюзной конференции историков-марксистов // Историк-марксист. 1929. № 11.
- Рубач М. Всесоюзна конференція істориків-марксистів та деякі наші чергові завдання // Лiтопис революцїi. 1929. № 2. С. I–X.
- Рубач М.А. Федералистские теории в истории России // Русская историческая литература в классовом освещении. Сборник статей с предисловием и под редакцией М.Н. Покровского. Вып. 2. М., 1930.
- Сидоров А.В. «Историк-марксист» восемьдесят лет назад: смена приоритетов в советской исторической науке // История и историки: историографический вестник. 2007. М., 2009. С. 165–166.
- Сидоров А.Л. Институт красной профессуры // Мир историка. Историографический сборник. Вып. 1. Омск, 2005.
- Скубицкий Т. Классовая борьба в украинской исторической литературе // Историк-марксист. 1930. № 17. С. 27–40.
- Сталин И. Вопросы ленинизма. М., 1933.
- Тихонов В.В. Как «История народов СССР» стала «Историей СССР»: к вопросу о трансформации идеологических установок советского курса истории в 1930-е годы // Россия и современный мир. 2023. № 4(121). С. 168-182.
- Толочко А.П. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке. Киев, 2012. С. 9-45.
- Шульгина А.Н. Границы по памяти и представлению // Россия в глобальной политике. Т. 20. 2022. № 5. С. 136–152.
- Юрганов А.Л. Русское национальное государство: жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011.
- Яворский М. Современные антимарксистские течения в украинской исторической литературе // Труды Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов. 28.XII.1928 – 4.I.1929. Т. 1. М., 1930. С. 426–435.
- Ясь А.В. «Покаянные» и «обличительные» тексты украинских историков в первой половине 1930-х гг. как способ организации культурного пространства тоталитарного общества // Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы. Материалы VI международной научной конференции (Киев, 10–12 октября 2013 г.). М., 2014. С. 247–255.
- 50 лет советской исторической науки. 1917–1967. Хроника / Сост.: А.И. Алаторцева, Г.Д. Алексеева. М., 1971.
- Lazarev Ya. Party political course and Ukrainian history in the USSR // Quaestio Rossica. Vol. 8. 2020. № 5. Р. 1769–1784.
Дополнительные файлы