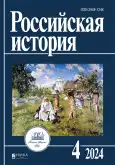«National historiographies» on the history of Russia in the 16th–18th centuries, published in the Hungarian journal «RussianStudiesHu»
- Authors: Varga B.1
-
Affiliations:
- University of Szeged
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 151-161
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268637
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040149
- EDN: https://elibrary.ru/FEZOKC
- ID: 268637
Cite item
Full Text
Abstract
In 2021 and 2022, review articles on the latest international historiography on the history of Russia in the 16th-18th centuries were published in the Hungarian online scientific journal on historical Russian studies RussianStudiesHu. The journal issues also introduce readers to new research by Russian historians, but in this article I will primarily focus on the current state of Russian studies about the 16th-18th centuries in Central, Eastern and Western Europe and the United States. In review articles on the history of Russia from 1462-1689, historians from Hungary, Germany, Austria, Switzerland and the United States, as well as French-speaking scholars, call this period of Russian history the "late medieval", "pre-modern" or "early modern" era. Some researchers argue that until the mid-17th century, Muscovy had little in common with European states. And based on review articles of international historiography, it can be established that the central figures of the historiography of the 18th century in almost every country are Peter I and Catherine II, and there is still no consensus regarding the periodization of Russian history in the 18th century.
Full Text
В 2019 г. членами Центра русистики Будапештского университета им. Лоранда Этвёша был учреждён венгерский научный онлайн-журнал по исторической русистике RussianStudiesHu (главный редактор профессор Д. Свак). В 2021 и 2022 гг. в нём публиковались обзорные статьи о новейшей международной историографии по истории России XVI–XVIII вв. Журнал знакомит читателей и с новыми подходами и дискуссиями, воплощёнными в исследованиях российских историков1, но в данной статье я остановлюсь на современном состоянии русистики ХVI–XVIII вв. в Европе и США.
Обзорные статьи по истории России 1462–1689 гг. Обзор новейших венгерских научных публикаций по истории «Московии» сделал Г. Дьёни2. Название «Московия» автор использует сознательно. Именно так в европейских государствах обозначали Россию с конца XV по XVIII в. Чтобы дать представление об изменениях, произошедших за последние 20 лет, Дьёни кратко рассмотрел прежнее положение русистики в Венгрии. Он констатирует, что исследование истории «Московии» и других восточноевропейских стран до середины XX в. не вызывало большого интереса в венгерской историографии. Ситуация изменилась с созданием в 1953 г. в Будапештском университете кафедры истории Советского Союза, а в 1957 г. – кафедры истории Восточной Европы. С 1980-х гг. в научной жизни Венгрии появилось первое поколение историков России, в том числе и Московии (Д. Свак, С. Филиппов, И. Варга, Ш. Гебеи). В 1990 г. под руководством Свака начал работать Венгерский институт русистики, в 1995 г. преобразованный в Центр русистики, действующий и в настоящее время. С рубежа 1990–2000-х гг. к работе подключались региональные школы русистики, созданные в Печском, Сегедском и Эгерском университетах. С конца 1990-х гг. организованные Центром русистики конференции создавали платформу для научного диалога между историками разных стран. В венгерской же историографии последних лет исследования по истории Московии получили дальнейшее развитие благодаря появлению второго поколения историков-русистов (К. Радноти, Ш. Сили, Э. Шашхалми, Б. Варга). Дьёни отметил, что с приходом нового поколения учёных некоторые вопросы стали дискуссионными.
Приоритетными были и остаются исследования о правлении Ивана IV, Смутном времени, украинском вопросе и русской историографии, а также дискуссии о русском феодализме. В 2001 г. Свак в монографии об Иване IV и Петре I обратил внимание, что несмотря на исключительную важность темы обобщающая историографическая работа, сопоставляющая образы этих двух царей, ещё не написана3. Дьёни указал, что в отношении Ивана IV Свак выступил с критикой новейших российских изданий, где на первый план вышла тенденция восхваления и оправдания политики «сильной руки»4. В свой монографии Свак рассмотрел царствование Ивана Грозного под углом зрения, отличающимся от подходов российских исследователей. По его убеждению, первый русский царь иррационально подходил к идее единоличного правления, и его самодержавие оказалось «наполовину европейским, наполовину азиатским»5. С 1980-х гг. Свак исследует отличительные черты власти в Московии. Если в начале своей научной деятельности он называл XVI в. периодом «расширения и институционализации неограниченной власти» в Московии6, то в 2010 г. развенчал миф о её неограниченности.
Тесно связан с этим вопросом анализ периода самозванчества. Дьёни обратил внимание на организованный в 2009 г. Центром русистики международный семинар по тематике самозванчества с участием ведущих российских исследователей. На этом симпозиуме Свак назвал явление самозванчества мошенничеством, ставшим в эпоху Смутного времени политическим инструментом. По его мнению, большинство русских самозванцев были аполитичными мошенниками, типичный представитель – Тимофей Анкундинов7. Дьёни подчёривает, что исследования самозванчества являются новаторскими и для венгерской, и для международной русистики.
В 2000-х гг. в Печском университете сформировалась сильная школа исторической русистики, где выдающимся исследователем Московии является профессор Э. Шашхалми. Он опирается прежде всего на достижения и методологию англоязычной историографии, отдавая предпочтение анализу идеологии и политической иконографии, символизма и ритуальности социальной жизни Московского государства. Исследуя развитие государственности в Европе в раннее Новое время, Шашхалми высказал сомнение в европейском характере Московского государства с конца XV по XVIII в. 8По его убеждению, московская власть по сути своей была религиозна. Он отрицает и существование в России феодализма, обосновывая это тем, что в отличие от европейских стран в России не сформировалось сословное общество, а Церковь не имела автономии9. В опубликованной в 2020 г. монографии венгерский историк проанализировал спорные вопросы организации власти и государства в России от Ивана III до Петра I в европейском контексте и пришёл к выводу, что в силу отсутствия характерных для западной эволюции «прав и свобод» (регулятором общественных отношений служило прямое подчинение «подданных») эволюция Московского государства шла по отличным от европейских путям10.
В новейшей венгерской историографии возрос интерес к изучению «украинского вопроса». Профессор Эгерского университета Ш. Гебеи, сравнивая украинскую Гетманщину с Трансильванией, пришёл к выводу, что ни одну из них в XVII в. нельзя назвать суверенным государством11. Дьёни подчеркнул, что Б. Варга (Сегедский университет) тоже уделяла большое внимание теме русско-украинских отношений и, в отличие Гебеи, считает, что Гетманщина изначально, особенно во время гетманства Б. Хмельницкого, имела «видимость независимости»12.
Дьёни упоминает также труды К. Радноти, изучающей «образ России». По её мнению, между Европой и Россией существовала своего рода открытость и готовность узнавать друг о друге13. Ш. Сили опубликовал материалы по историографии колонизации Сибири, показав её как жестокое, беспощадное завоевание. Его коллега С. Филиппов проанализировал государственную идеологиию Московии, прежде всего историю церковного раскола, и пришёл к выводу, что концепция «Третьего Рима» была не столько политической идеей, сколько эсхатологической теорией14.
Дьёни пишет, что пока не видит появления в Венгрии третьего поколения русистов. Не могу согласиться с этим: исследователи первого и второго поколения вырастили несколько талантливых преемников, из которых вполне может сформироваться следующее поколение венгерской русистики.
Немецкий профессор Л. Штейндорф представил научные достижения в изучении истории Московии в новейшей германоязычной историографии15. Историк подробно проанализировал институциональные рамки научных работ, количественные оценки и основные направления исследований. Он пришёл к выводу, что хотя в большинстве университетов Германии, Австрии и Швейцарии существуют отделы или кафедры восточноевропейской истории, изучение истории Московии может играть существенную роль лишь в некоторых из них, поскольку каждый научный центр специализируется на определённых областях исследований. Штейдорф выделяет Институт исследования Восточной и Юго-Восточной Европы им. Лейбница в Регенсбурге (Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung), где изучается в первую очередь история Московии. Институт издаёт четыре научных журнала, в том числе «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas». Поскольку историография этих стран образует единую дискурсивную группу, по мнению Штейндорфа, различие между ними в вопросах русской истории искать неразумно. Он указывает на произошедшую в начале 2000-х гг. перемену в позиции немецких историков, начавших более скептически относиться к теории о преемственности между периодами Киевской Руси и Московии16. Среди основных направлений исследований автор выделяет споры об эпохе Ивана IV. Предпочтение этой теме отдано на страницах многочисленных публикаций К. Солдат, среди прочего исследовавшей вопрос о том, насколько можно считать реалистичными западные памфлеты и сообщения о зверствах царя и его окружения17.
Традиционно большой интерес вызывают труды, посвящённые взглядам Запада на Московию. Н. Писсис обратился к гораздо менее разработанной теме – отображению России в политических образах греческого культурного мира со времён Переяславской рады 1654 г. до смерти Петра Великого. Исследователь подчёркивает, что царь прославлялся как всеобщий император и законный преемник византийского имперского наследия18.
Штейндорф обратил внимание на появление специальных изданий о разных путях развития восточных славян в Московии и в пределах Польши и Литвы, а также о украинско-русских и украинско-польских отношения. Большое внимание этому вопросу уделил профессор Венского университета А. Каппелер в монографии «Неравные братья – русские и украинцы»19.
Одной из самых продуктивных областей в историографии Германии, Австрии и Швейцарии последних двух десятилетий является исследование религиозной культуры и церковной истории20. Штейндорф отметил очевидное разнообразие интересов в изучении Московии, но вместе с тем и явный спад исследований по этой тематике. Тем не менее историк с оптимизмом смотрит в будущее, надеясь, что учёные продолжат участвовать в транснациональном дискурсе21.
Американский исследоваетль Ч.Дж. Гальперин 22 начал свою обзорную статью о новейших публикациях в США с утверждения, что «американской школы» исследований московской истории не существует. Согласно его аргументации, историки и филологи в США расходятся во мнениях практически по всем основным вопросам русской истории с 1462 до 1689 г. Автор проанализировал самые важные сюжеты, указал на недостатки и подвёл итоги исследований. Гальперин констатирует, что в новейшей историографии США продолжается полемика о политической природе Московского государства. Некоторые историки поддерживают теорию о гипертрофированности последнего, не требовавшей автократического правителя23, другие – отвергают эту парадигму в пользу консенсуально-коллегиальной модели Русского государства24. Сформулировано мнение, что Московия при Алексее Михайловиче управлялась коалицией царя, бояр, духовных лиц и военных служилых людей, а Ч. Даннинг поставил под сомнение теорию абсолютизма, отдавая предпочтение версии о фискально-военной модели государства25. Некоторые историки утверждают, что до середины XVII в. Московия имела мало общего с европейскими странами, оставаясь во всех отношениях застойной и отсталой26. В США появились специальные издания, освещающие восприятие Европой России и отстаивающие достоверность сообщений иностранцев о деспотическом характере Московского государства27. Одной из самых исследованных представляется тема религии и церковной истории. В новейшей историографии США учёные всё чаще обращаются к изучению духовности и религиозных практик Московии28. Появились многочисленные публикации в связи с возросшим интересом к реформам патриарха Никона29.
Французский историк П. Гоно рассмотрел издания исследователей, работающих во французских научных центрах, а также некоторых франкоязычных бельгийских и швейцарских историков30. Гоно обратил внимание, что исследования по славистике и русской истории во Франции имеют давние традиции31. В 2007 г. университеты здесь перегруппировались в более крупные учреждения под названием COMUE (Communautés d’Universités et d’Établissements). Исследования по русистике сосредоточены в основном вокруг Парижа (Faculté des Lettres de Sorbonne Université, École Pratique des Hautes Études, École des Hautes Études en Sciences Sociales). Ассоциация французских русистов издаёт «Русский журнал» («La Revue russe»), где публикуетcя библиография основных французских научных трудов по истории России. В последнее время публикации всё чаще оцифровываются, что даёт широкий доступ к этим исследованиям.
В то же время Гоно указал, что специальной кафедры или исследовательского центра по истории Московии во Франции нет. На исторических факультетах университетов большинство специалистов по русистике занимаются историей Российской империи XIX в., а также советской и постсоветской России. В новейшей французской и франкоязычной исторической науке о Московии изучаются проблемы самодержавия, самозванцев, бунтов и дворцовых переворотов. Самое большое внимание в последние два десятилетия традиционно уделялось правлению Ивана IV32. Этой тематике посвящены 10 указанных учёным публикаций, тогда как Смутному времени и правлению первых Романовых – пять изданий33.
Многочисленные публикации связаны с возросшим интересом к французско-российским отношениям, прежде всего к восприятию России во Франции34. Гоно выделяет исследования С. Мунда 35 и Ф.-Д. Лихтенана36, проанализировавших взгляды европейской и французской элиты на Россию в эпоху Возрождения и барокко. История Церкви и религиозной мысли в России изучается в парижском Православном теологоческом институте. Приведённый Гоно библиографический список содержит более 50 наименований книг по истории Русской Церкви и показывает, что это одна из наиболее исследованных тем не только в ранней, но и в новейшей французской и франкоязычной историграфии37.
Проанализированные обзорные статьи по истории России XVI–XVII вв. свидетельствуют, что в первые десятилетия XXI в. таким вопросам, как царствование Ивана IV, политическая система Русского государства XVI в., история Церкви, характер восприятия России в Европе, посвящено большое число научных работ не только в России, но и в других странах. Менее изучены Смутное время и эпоха первых Романовых, а также времена Ивана III и Василия III.
Ecли в европейских государствах Россия конца XV – XVII в. обозначалась термином «Московия», то в российской научной терминологии она обычно именуется «Московской Русью», «Московским царством» или «Русским централизованным государством». Историки расходятся во мнениях практически по всем основным проблемам русской истории 1462–1689 гг. В числе самых важных и спорных – вопросы о феодализме и характере восприятия России Европой. Российские историки пишут, что Русское государство тоже прошло стадию феодального развития, хотя и со значительным опозданием, следовательно, допетровская Россия рассматривается как особый вариант общеевропейской модели модерного государства. В международной историографии высказывается мнение, что в Московии западные феодальные элементы смешивались с восточными. Это заставляет сомневаться в европейском характере Московского государства конца XV – начала XVIII в. Историки Венгрии, Германии, Австрии, Швейцарии и США, а также франкоязычные учёные называют этот период российской истории «позднесредневековой», «предмодерной» или «раннемодерной» эпохой. Некоторые исследователи утверждают, что до середины XVII в. Московия имела мало общего с европейскими государствами.
Обзорные статьи по истори России XVIII в. Попытка показать результаты новейших исследований по российскому «долгому XVIII веку» (царствования Петра I, Екатерины II и Павла I) в венгерской исторической науке последних 20 лет предпринята в обзорной статье П. Диннеша38. Центральной фигурой для венгерских историков является Пётр Великий, правление которого обозначило новую эпоху в истории России. Профессор Д. Свак положил начало дискуссии об уместности использования термина «модернизация» по отношению к дореволюционной России39. Профессор Э. Шашхалми, сравнивая идеи общественного договора с вестернизацией российской официальной идеологии власти, заявил, что российская адаптация Запада на самом деле не принесла в Россию западных ценностей40. Почётный профессор Эгерского католического университета Ш. Гебеи изучил контакты между Петром I и Ференцем II Ракоци41, а доцент Сегедского университета Б. Варга рассмотрела историю украинско-российских связей в XVII–XVIII вв., в первую очередь «украинскую» политику Петра до и после Полтавской битвы42.
Диннеш обратил внимание на то, что в новейшей венгерской историографии наименее изучено правление потомков Петра43. Л. В. Молнар опубликовал материалы о выдающихся российских деятелях XVIII в. 44О. Санисло занимается вопросами женской истории и влиянием екатерининских реформ и двора на жизнь русских аристократок45, а Гебеи, Шашхалми и Варга издали материалы, посвящённые екатерининской эпохе46. Главной темой исследований самого Диннеша являются путешествия императора Иосифа II в Россию в 1780 и 1787 гг.47 Историей рубежа веков, в первую очередь политикой великих держав в Восточной Европе и на Балканах, занимается Э. Боднар48.
А. Данильчик посвятил свою статью анализу публикаций по истории России XVIII в. в польской исторической науке последних двух десятилетий49. Он пришёл к выводу о росте в Польше интереса к данной тематике. С 1990-х гг. появилась возможность исследовать материалы АВПРИ, и по инициативе Л. Кондзеля и З. Зелиньской появились важные публикации, основанные на новых для польских исследователей источниках50. По мнению Данильчика, в новейшей польской историографии правление Петра I и первую половину XVIII в. (времена Барской конфедерации и разделов Речи Посполитой) изучают лишь несколько историков, причём почти исключительно с точки зрения русско-польских отношений51. При этом отсутствуют научные публикации по политической истории и дипломатии России той эпохи. П. Крокош исследует военные реформы Петра I и Северную войну52. Данильчик убеждён, что увлечение Петра западноевропейской культурой привело к реформам, поднявшим Россию на более высокий цивилизационный уровень53. Русско-польские связи периода правления Августа III также считаются малоизученной темой. Вместе с тем автор обзорной статьи приводит обширный перечень исследований, в которых большое внимание уделено правлению последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа. З. Зелиньска и Д. Дуквич показали процесс усиления в Польше российского влияния54. Зелиньска также опубликовала много важных источников, в частности, переписку на французском языке Станислава Августа с Екатериной II и её министрами. На страницах некоторых изданий предпочтение отдавалось религиозным вопросам в польско-российских отношениях XVIII в., борьбе за «власть над душами» между православной и католической Церквями55.
Л. Харбулова подготовила историографический обзор научных работ 2000–2020 гг. по истории России до XVIII в. словацких и чешских учёных, показав и основные направления исследований до 2000 г.56 В словацкой историографии внимание сосредотечено преимущественно на первой половине ХХ в., в то время как ранним периодам русской истории внимания уделено мало. Изданы только краткие статьи о правлении Ивана Грозного и Петра Великого (хорошо разработана тема путешествия Петра в Пресбург)57. В связи с возросшим интересом к русско-словацким взаимоотношениям увидели свет многочисленные исследования о жизни и деятельности словаков в России и русских на словацких землях58. В Чехии исследования по русской истории начались в XIX в., но систематический характер приобрели лишь после 1918 г.59 В 1990-х гг. появилось новое поколение чешских историков, исследующих историю России XV–XVIII вв. 60
Анализируя новейшую словацкую и чешскую историографию, Харбулова пришла к выводу, что предпочтение в ней отдаётся российской истории ХIХ–ХХ вв. Что касается более раннего периода, то в Словакии последние достижения связаны в первую очередь с тремя темами: историей Киевской Руси, русского Средневековья и XVIII в., тогда как в чешской историографии можно видеть тематическое расширение исторических исследований61. Харбулова выделяет издания Ф. Штелнера, уделявшего большое внимание культурным аспектам развития России во время правления Екатерины Великой62. Р. Влчек исследует русское политическое мышление XVIII в. с точки зрения геополитических интересов и амбиций русских царей63.
Г. Маркер написал обзорную статью о новейших изданиях по российской истории XVIII в. в США. По его мнению, в последние два десятилетия в историографии его страны произошли три значительных изменения: отход от больших нарративов и сверхдетерминированных телеологий, появление новых подходов к старым вопросам и крах противопоставления Россия/Запад. Однако по сравнению с предыдущими десятилетиями изучение российской истории стало утрачивать прежнее значение64. Тем не менее новейшую американскую русистику можно назвать более творческой и многомерной, история России XVIII в. всё ещё вызывает интерес. Мнение Гальперина, что не существует «американской школы» российской истории, Маркер считает справедливым в отношении к XVIII в. По его мнению, то, что американские русисты, как и историки во всём мире, расходятся во мнениях по разным вопросам, это нормально, тем более что в США работают многие учёные, получившие образование в России или других странах.
Исследования по эпохе Петра I Маркер проанализировал в рамках более крупной темы периодизации истории России. Он выделил теорию Д. Островски, по мнению которого нельзя говорить о «петровской революции», поскольку Россия XVIII в. принадлежит к московской эпохе65. Другие историки с этим категорически не согласны. Дж. Кракрафт видит в царствовании Петра глубокий перелом, приведший к победе в Северной войне, созданию новой столицы и империи66. Маркер проанализировал также исследования о том, в какой степени Российская империя контролировалась центром и какие перспективы дала империя России67. Автор выделяет недавнюю работу Дж. Ле Донна, развившего теорию М. Раеффа о «благоустроенном полицейском государстве»68. Дж. Солл определяет российскую «крепость-империю» как «унитарное государство», где самодержавный режим ведёт агрессивную политику, характеризующуюся унификацией, централизацией и стандартизацией69.
В новейшей историографии США по сравнению с предыдущими периодами значительно возрос интерес к изучению таких вопросов, как институциональная эволюция православия, система взаимоотношений между государством и церковными институтами, богословие, восточнославянскиe униатско-православныe отношения70. Маркер среди прочего выделяет монографию А. Иванова, утверждавшего, что Русская Церковь в XVIII в. подверглась подлинной «реформации», или «духовной революции»71. Таким образом, появилась концепция «православного просвещения» в Российской империи72. Эпоха «женского правления» (1725–1796) имеет особое значение в истории России, поэтому не удивительно, что традиционно большой интерес вызывают труды, посвящённые российским императрицам. По мнению Маркера, важно подчеркнуть, что новейшие достижения американской историографии в исследовании «женской истории» XVIII в. связаны почти исключительно с Екатериной II. М. Круз и Х. Хугенбум издали перевод мемуаров императрицы и критически проанализировали её реформы73.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что центральными фигурами историографии XVIII в. почти в каждой стране являются Пётр I и Екатерина II. Правление потомков Петра, как и прежде, относится к наименее изученным сюжетам. Всё ещё не достигнут консенсус относительно периодизации истории России XVIII в. Не только в российской, но и в зарубежной историографии преобладает точка зрения, что реформы Петра I «европеизировали» Россию и произвели глубокий перелом в русской истории, но появились и версии, отрицающие глубину «петровской революции».
Очевидно, что в изучении большинства научных проблем нет единогласия не только в мировом сообществе русистов, но и в рамках конкретных национальных историографий, имеющих свои специфические черты в выборе приоритетов, тем, методологических подходов и профессиональных приёмов. Проведённое исследование свидетельствует о глобальном характере русистики как субдисциплине науки: разнообразные подходы обогащают исследование Российской истории.
1 См., в частности: Koзляков В. Н., Павлов A. П. Россия XVI–XVII веков в исследованиях российских историков новейшего времени (2000–2020). Ч. 1 // RussianStudiesHu 3. 2021. № 1. O. 135–169; Кром М. М. Рождение государства: Московская Русь XIV–XVI веков. М., 2018; Шапошник В. В. Придворная борьба в Русском государстве 30-х годов XVI века. СПб., 2020; Фроянов И. Я. Драма русской истории. На путях к опричнине. М., 2007.
2 Gyóni G. «Muscovy» in Hungarian Historiography since 2000 // RussianStudiesHu 3. 2021. № 1. О. 107–133.
3 Szvák Gy. IV. Iván és I. Péter utóélete. Budapest, 2001. О. 7–10.
4 Свак Д. Ещё раз об историографии царствования Ивана Грозного // Московия: специфика развития. Будапешт, 2003. С. 69–75.
5 Szvák Gy., Anyiszimov J. IV. Iván – I. Péter. Budapest, 2004. О. 171–173.
6 Szvák Gy. «Az orosz hosszú 16. század fejlődéslogikája» // Világtörténet. 1986. № 3–4. О. 63–98.
7 Szvák Gy. Az Ankungyinov-ügy – Egy európai kalandor Moszkóviából. Budapest, 2011. О. 9–19.
8 Sashalmi E. 16–17th Century of Muscovite Ideology of Power in European Perspective (Proverbs as Means of Understanding Muscovite Ideology) // Место России в Европе (Материалы международной конференции). Budapest, 1999. О. 166–172.
9 Sashalmi E. Létezett-e feudalizmus a Kijevi Ruszban és a moszkvai államban? // Font M., Sashalmi E. Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól. Budapest, 2007. О. 139–158.
10 Sashalmi E. A hatalom és az állam problematikája Oroszországban 1462–1725 között európai perspektívából. Budapest, 2020. О. 50–52.
11 Гебеи Ш. Степень независимости Украинского гетманства (середина XVII в.) // Московия: специфика развития. Budapest, 2003. О. 183–194.
12 Варга Б. Оценка русско-украинских отношений с середины XVII до начала XVIII вв. в современной русской и украинской историографии // Историческая русистика в XXI в. Будапешт, 2017. С. 129–139.
13 Radnóti K. Európa Moszkóvia-képe a XV–XVI században. Budapest, 2002.
14 Филиппов С. Религиозная борьба и кризис традиционализма в России. Будапешт, 2007.
15 Steindorff L. Historiography on Muscovy (1462–1689) in Germany, Austria and Switzerland (2000–2020) // RussianStudiesHu 3. 2021. № 1. О. 65–106.
16 Ibid. О. 67, 68.
17 Soldat C. Erschreckende Geschichten in der Darstellung von Moskovitern und Osmanen in den deutschen Flugschriften des 16. und 17. Jahrhunderts – Stories of Atrocities in Sixteenth and Seventeenth Century German Pamphlets About the Russians and Turks. Lewiston, 2014.
18 Pissis N. Russland in den politischen Vorstellungen der griechischen Kulturwelt 1645–1724 // Sozial- und Kulturgeschichte Osteuropas. 10. Göttingen, 2020.
19 Kappeler A. Ungleiche Bruder: Russen und Ukrainer: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München, 2017.
20 Scheliha W. Russland und die orthodoxe Universalkirche in der Patriarchatsperiode 1589–1721. Wiesbaden, 2004.
21 Steindorff L. Historiography on Muscovy… О. 81.
22 Halperin Ch.J. US Publications (2000–2020) on Muscovite History, 1462–1689 // RussianStudiesHu 3. 2021. № 1. О. 11–44.
23 Halperin Ch. J. Muscovy as a Hypertrophic State: A Critique // Kritika. 2002. № 3. P. 501–507.
24 Ostrowski D. The Façade of Legitimacy: Exchange of Power and Authority in Early Modern Russia // Comparative Studies in Society and History. 2002. № 3. P. 534–563.
25 Dunning Ch., Smith N. S. Moving Beyond Absolutism: Was Early Modern Russia a Fiscal-Military State // Russian History. 2006. № 1. P. 19–43.
26 Kivelson V. A. How Bad Was Ivan the Terrible? The Oprichnik Oath and Satanic Spells in Foreigners’ Accounts // Seeing Muscovy Anew. Politics–Institutions–Culture. Bloomington, 2017. P. 67–84.
27 Marshall T. P. A People Born to Slavery. Russia in Early Modern European Ethnography, 1476–1748. Ithaca, 2000.
28 Ostrowski D., Goldfrank D., Halperin Ch., Bushkovitch P. Forum: Paradigm Lost? The Josephan v. Trans-Volga Elders Question in Flux // Russian History. 2020. № 3. P. 149–200; Crummey R. O. Ecclesiastical Elites and Popular Belief and Practice in Seventeenth-Century Russia // Religion and the Early Modern State. Views from China, Russia and the West / Ed. J. D. Tracy, M. Ragnow. Cambridge, 2004. P. 52–79.
29 Kain K. A Comparative, Semiological and Iconographical Analysis of Patriarch Nikon Inspired by the «Life of Kornili» // Мир старообрядчества. Вып. 7. Ч. 1. Ярославль, 2008. С. 141–168; Crummey R. O. The Orthodox Church and the schism // The Cambridge History of Russia. Cambridge, 2006. P. 618–639; From Peasant to Patriarch. Account of the Birth, Uprising, and Life of His Holiness Nikon, Patriarch of Moscow and All Russia, written by His Cleric Ioann Shusherin. Lanham, 2007.
30 Gonneau P. French and French-speaking Contributions to the Historiography of Muscovy 1462–1689, (2000–2020) // RussianStudiesHu 3. 2021. № 1. О. 45–63.
31 Veyrenc J. Histoire de la slavistique française // Beiträge zur Geschichte der Slawistik in den nichtslawischen Ländern. Wien, 1985. S. 245–303.
32 Gonneau P. Histoire de la Russie. D’Ivan le Terrible à Nicolas II: 1547–1917. P., 2016; Ivan le Terrible. Lettres à un félon: correspondance entre le tsar et le prince Andreï Kourbski passé à l’ennemi, traduction, présentation et notes Bernard Marchadier. P., 2012; Kondratieva T. Gouverner et nourrir: du pouvoir en Russie, XVIe–XXe siècle. P., 2002.
33 Schaub M.-K. The election of sovereigns in Russia at the time of the Time of Troubles (1598–1613) // Elections and political powers from the 7th to the 17th century. P., 2009. P. 325–341.
34 Berelowitch A. Les Origines du capitaine Margeret // L’Influence française en Russie au XVIIIe siècle. P., 2004. P. 301–321.
35 Mund S. Orbis Russiarum: genèse et développement de la représentation du monde «russe» en Occident à la Renaissance. Genève, 2003.
36 Le Coq et l’Ours, trois siècles de relations franco-russes. Mélanges en l’honneur de Michel Cadot / Éd. F.-D. Liechtenhan. P., 2000.
37 Gonneau P. Le Christianisme orthodoxe en Russie: bibliographie sélective // Revue des études slaves. Vol. LXXIV. 2002–2003. P. 193–220.
38 Dinnyés P. Россия XVIII века в современной венгерской историографии (2000–2020 гг.) // RussianStudiesHu 4. 2022. № 1. О. 123–147.
39 Szvák Gy. IV. Iván…
40 Sashalmi E. Contract theory and the westernization of Russian ideology of power under Peter the Great // Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis: A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének Történeti Közleményei. 2003. № 2. P. 89–100.
41 Гебеи Ш. Ференц II Ракоци – кандидат царя Петра Великого на польский престол (1707) // История России, Венгрии и Китая в исследованиях современных учёных. Вып. 5. СПб., 2020. С. 79–96.
42 Varga B. Péter ukrán politikája – Mazepa «árulásának» kérdése // Acta Historica (Szeged). 2003. № 118. O. 25–35.
43 Dinnyés P. Россия XVIII века… O. 136.
44 Молнар Л. В. Венгерско-русские культурные связи в XVIII веке: состояние исследования и постановка проблемы // Государственность, дипломатия, культура в Центральной и Восточной Европе XI–XVIII веков. Вып. 3. М., 2005. С. 194–206.
45 Szaniszló O. Russian Noblewomen’s Family Obligations in the Light of Two Memoirs // Alternatives, Turning Points and Regime Changes in Russian History and Culture: Materials of the First International Conference for Young Scholars of Russian Studies. Budapest, 2015. P. 127–130.
46 Gebei S. Halics-Lodoméria Királyság, mint a Habsburgok 18. Századi új szerzeménye // Hagyomány és történelem: Ünnepi kötet Für Lajos 70. születésnapjára, szerk. Eger, 2000. P. 215–238; Sashalmi E. The Coexistence of Old and New: Elements of Muscovite Ideology and Enlightenment // Fonvizin’s Discourse on the Immutable State Laws. Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis. 2001. № 1. P. 139–154; Varga B. Pjotr Alekszandrovics Rumjancev, Kisoroszország első kormányzója // Hungaro-Ruthenica. 2012. № 6. P. 167–174.
47 Dinnyés P. Szemelvény II. József császár első oroszországi utazásából (1780): P. B. Passzek levele R. A. Rumjancevnek (1780. május 14) // Érték-rend: Válogatás a Kepes György Szakkollégium tagjainak tudományos és művészetialkotásaiból. Eger, 2018. P. 9–89.
48 Bodnár E. A keleti kérdés az orosz külpolitikában. Egy furcsa szövetség. Orosz–török közeledés és együttműködés a 18. század végén // Hatalmi ideológiák a szláv népek körében. Pécs, 2001. P. 129–150.
49 Danilczyk A. Россия XVIII века в польской историографии // RussianStudiesHu 4. 2022. № 1. О. 149–173.
50 Zielińska Z. Studia z dziejów stosunków polsko–rosyjskich w XVIII wieku. Warszawa, 2001.
51 Burdowicz-Nowicki J. Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706. Kraków, 2010; Chojnicka K. Dziedziczka Imperium Rosyjskiego Anna Iwanowna 1730–1740 // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. 2014. Vol. 7. S. 201–216.
52 Krokosz P. Rosyjskie ustawodawstwo wojskowe doby panowania Piotra I. // Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura-urzędy-prawo-finanse. Zabrze, 2011. S. 397–444.
53 Danilczyk A. Россия XVIII века в польской историографии… O. 169.
54 Zielińska Z., Przegrana walka o głosowanie większością. Stanisław August od października do grudnia 1766 roku // Zielińska Z. Studia z dziejów… S. 90–135; Dukwicz D. Czy konfederacja barska była przyczyną pierwszego rozbioru Polski? (Rosja wobec Rzeczypospolitej w latach 1769–1771) // Konfederacja barska. Jej konteksty i tradycje. Warszawa, 2010. S. 103–116.
55 Ćwikła L. Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682–1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczpospolitej // Studia z Prawa Wyznaniowego. 2003. № 6. S. 73–89.
56 Harbuľová L. История России дo конца XVIII века в исследованиях словацких и чешских историков в 2000–2020 гг. // RussianStudiesHu 4. 2022. № 1. O. 109–122.
57 Sás A. Návšteva cára Petra Veľkého v Bratislave // Slovanská Bratislava. roč. I (1948). S. 231–252.
58 Stanislav J. Z rusko-slovenských kultúrnych stykov v časoch Jána Hollého a Ľudovíta Štúra. Bratislava, 1957.
59 Harbuľová L. История России дo конца XVIII века… O. 114.
60 Kolejka J. Evropské ‘obrazy Ruska’ z konce 18. a první poloviny 19. stolеtí // Slovanský přehled 74. 1988. Č. 6. S. 475–482; Picková D. Poseltsví carských a císařských kurýrů. Řezno-Praha-Vídeň-Moskva. 15–17 století. Praha, 2000.
61 Harbuľová L. История России дo конца XVIII века… O. 118.
62 Stellner F. Středoevropský vliv na školské reformy Kateřiny Veliké // Slovanský přehled 97. 2011. Č. 3–4. S. 409–424; Hrebiková A., Stellner F. K tematickému zaměření divadelních her Kateřiny Veliké // Slovanský přehled 101. 2015. Č. 1. S. 95–123.
63 Vlček R. Reformní vize v ruském politickém myšlení druhé poloviny 18. a počátku 19. století // Slovanský přehled 101. 2015. Č. 2. S. 259–292.
64 Marker G. Russia’s Eighteenth Century in Recent US Historiography // RussianStudiesHu 4. 2022. № 1. О. 40.
65 Ostrowski D. The End of Muscovy: The Case for Circa 1800 // Slavic Review. Vol. 69. 2010. № 2. P. 426–438.
66 Cracraft J. The Revolution of Peter the Great. Harvard, 2003.
67 Kollmann N.Sh. The Russian Empire, 1450–1801. Oxford, 2016; Rieber A. The Struggle for the Eurasian Borderlands: From the Rise of Early-Modern Empires to the End of the First World War. Cambridge, 2014.
68 Le Donne J. Forging a Unitary State: Management of the Eurasian Space, 1650–1850. Toronto, 2020; Raeff M. The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change Through Law in Russia and the Germanies, 1600–1800. Yale, 1975.
69 Soll J. The Information Master: Jean Baptiste Colbert’s State Information System. Michigan, 2009.
70 Tsapina O. Was There a Russian Tradition of Church-State Relations? // The State in Early Modern Russia: New Directions. Bloomington, 2018. P. 1–26; Kizenko N. Good for the Souls? Church, State, and Russian Society at Confession. Oxford, 2021; Skinner B. The Western Front of the Eastern Church: Uniate and Orthodox Conflicts in 18th Century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia. DeKalb, 2009.
71 Ivanov A. V. A Spiritual Revolution: The Impact of Reformation and Enlightenment in Orthodox Russia. Wisconsin, 2020.
72 Hamburg G. Russia’s Path Towards Enlightenment: Faith, Politics, and Reason, 1500–1801. Yale, 2016.
73 Hoogenboom H. The Community of Letters and the Nation State: Bio-Bibliographic Compilations as a Transnational Genre Around 1700 // Women Telling Nations. Brill, 2014. P. 271–292.
About the authors
Beata Varga
University of Szeged
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
Phd, Habil, Assistant Professor
HungaryReferences
- Berelowitch A. Les Origines du capitaine Margeret // L'Influence française en Russie au XVIIIe siècle. P., 2004. P. 301–321.
- Bodnár E. A keleti kérdés az orosz külpolitikában. Egy furcsa szövetség. Orosz–török közeledés és együttműködés a 18. század végén // Hatalmi ideológiák a szláv népek körében. Pécs, 2001. P. 129–150.
- Burdowicz-Nowicki J. Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706. Kraków, 2010.
- Chojnicka K. Dziedziczka Imperium Rosyjskiego Anna Iwanowna 1730–1740 // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. 2014. Vol. 7. S. 201–216.
- Cracraft J. The Revolution of Peter the Great. Harvard, 2003.
- Crummey R.O. The Orthodox Church and the schism // The Cambridge History of Russia. Cambridge, 2006. P. 618–639.
- Crummey R.O. Ecclesiastical Elites and Popular Belief and Practice in Seventeenth-Century Russia // Religion and the Early Modern State. Views from China, Russia and the West. Ed. James D. Tracy, M. Ragnow. Cambridge, 2004. P. 52–79.
- Ćwikła L. Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682–1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczpospolitej // Studia z Prawa Wyznaniowego. 2003. № 6. S. 73–89.
- Danilczyk A. Россия XVIII века в польской историографии // RussianStudiesHu 4. 2022. № 1. О. 149–173.
- Dinnyés P. Szemelvény II. József császár első oroszországi utazásából (1780): P.B. Passzek levele R.A. Rumjancevnek (1780. május 14) // Érték-rend: Válogatás a Kepes György Szakkollégium tagjainak tudományos és művészetialkotásaiból. Eger, 2018. P. 9–89.
- Dukwicz D. Czy konfederacja barska była przyczyną pierwszego rozbioru Polski? (Rosja wobec Rzeczypospolitej w latach 1769–1771) // Konfederacja barska. Jej konteksty i tradycje. Warszawa, 2010. S. 103–116.
- Dunning Ch., Smith N.S. Moving Beyond Absolutism: Was Early Modern Russia a Fiscal-Military State // Russian History. 2006. № 1. P. 19–43.
- From Peasant to Patriarch. Account of the Birth, Uprising, and Life of His Holiness Nikon, Patriarch of Moscow and All Russia, written by His Cleric Ioann Shusherin. Lanham, 2007.
- Gebei S. Halics–Lodoméria Királyság, mint a Habsburgok 18. Századi új szerzeménye // Hagyomány és történelem: Ünnepi kötet Für Lajos 70. születésnapjára, szerk. Eger, 2000. P. 215–238.
- Gonneau P. French and French-speaking Contributions to the Historiography of Muscovy 1462–1689, (2000–2020) // RussianStudiesHu 3. 2021. № 1. О. 45–63.
- Gonneau P. Histoire de la Russie. D'Ivan le Terrible à Nicolas II: 1547–1917. P., 2016.
- Gonneau P. Le Christianisme orthodoxe en Russie: bibliographie sélective // Revue des études slaves. Vol. LXXIV. 2002–2003. P. 193–220.
- Gyóni G. «Muscovy» in Hungarian Historiography since 2000 // RussianStudiesHu 3. 2021. № 1. О. 107–133.
- Halperin Ch.J. Muscovy as a Hypertrophic State: A Critique // Kritika. 2002. № 3. P. 501–507.
- Halperin Ch.J. US Publications (2000–2020) on Muscovite History, 1462–1689 // RussianStudiesHu 3. 2021. № 1. О. 11–44.
- Hamburg G. Russia’s Path Towards Enlightenment: Faith, Politics, and Reason, 1500–1801. Yale, 2016.
- Harbuľová L. История России дo конца XVIII века в исследованиях словацких и чешских историков в 2000–2020 гг. // RussianStudiesHu 4. 2022. № 1. S. 109–122.
- Hoogenboom H. The Community of Letters and the Nation State: Bio-Bibliographic Compilations as a Transnational Genre Around 1700 // Women Telling Nations. Brill, 2014. P. 271–292.
- Hrebiková A., František Stellner F. K tematickému zaměření divadelních her Kateřiny Veliké // Slovanský přehled 101. 2015. Č. 1. S. 95–123.
- Ivanov A.V. A Spiritual Revolution: The Impact of Reformation and Enlightenment in Orthodox Russia Wisconsin, 2020.
- Kain K. A Comparative, Semiological and Iconographical Analysis of Patriarch Nikon Inspired by the «Life of Kornili» // Мир старообрядчества. Вып. 7. Ч. 1. Ярославль, 2008. С. 141–168.
- Kappeler A. Ungleiche Bruder: Russen und Ukrainer: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München, 2017.
- Kivelson V.A. How Bad Was Ivan the Terrible? The Oprichnik Oath and Satanic Spells in Foreigners’ Accounts // Seeing Muscovy Anew. Politics-Institutions-Culture. Bloomington, 2017. P. 67–84.
- Kizenko N. Good for the Souls? Church, State, and Russian Society at Confession. Oxford, 2021.
- Kolejka J. Evropské ʻobrazy Ruska᾿ z konce 18. a první poloviny 19. stolеtí // Slovanský přehled 74. 1988. Č. 6. S. 475–482.
- Kollmann N.Sh. The Russian Empire, 1450–1801. Oxford, 2016.
- Kondratieva T. Gouverner et nourrir: du pouvoir en Russie, XVIe–XXe siècle. P., 2002.
- Koзляков В.Н., Павлов A.П. Россия XVI–XVII веков в исследованиях российских историков новейшего времени (2000–2020). Ч. 1 // RussianStudiesHu 3. 2021. № 1. О. 135–169.
- Krokosz P. Rosyjskie ustawodawstwo wojskowe doby panowania Piotra I. // Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura-urzędy-prawo-finanse. Zabrze, 2011. S. 397–444.
- Le Coq et l'ours, trois siècles de relations franco-russes. Mélanges en l'honneur de Michel Cadot. P., 2000.
- Le Donne J. Forging a Unitary State: Management of the Eurasian Space, 1650–1850. Toronto, 2020.
- Marker G. Russia’s Eighteenth Century in Recent US Historiography // RussianStudiesHu 4. 2022. № 1. О. 40.
- Marshall T.P. A People Born to Slavery. Russia in Early Modern European Ethnography, 1476–1748. Ithaca, 2000.
- Mund S. Orbis Russiarum: genèse et développement de la représentation du monde «russe» en Occident à la Renaissance. Genève, 2003.
- Ostrowski D. The End of Muscovy: The Case for Circa 1800 // Slavic Review. Vol. 69. 2010. № 2. P. 426–438.
- Ostrowski D. The Façade of Legitimacy: Exchange of Power and Authority in Early Modern Russia // Comparative Studies in Society and History. 2002. № 3. P. 534–63.
- Ostrowski D., Goldfrank D., Halperin Ch., Bushkovitch P. Forum: Paradigm Lost? The Josephan v. Trans-Volga Elders Question in Flux // Russian History. 2020. № 3. P. 149–200.
- Patrik D. Россия XVIII века в современной венгерской историографии (2000–2020 гг.) // RussianStudiesHu 4. 2022. № 1. О. 123–147.
- Picková D. Poseltsví carských a císařských kurýrů. Řezno-Praha-Vídeň-Moskva. 15–17 století. Praha, 2000.
- Pissis N. Russland in den politischen Vorstellungen der griechischen Kulturwelt 1645–1724 // Sozial- und Kulturgeschichte Osteuropas. 10. Göttingen, 2020.
- Radnóti K. Európa Moszkóvia-képe a XV–XVI században. Budapest, 2002.
- Raeff M. The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change Through Law in Russia and the Germanies, 1600–1800. Yale, 1975.
- Rieber A. The Struggle for the Eurasian Borderlands: From the Rise of Early-Modern Empires to the End of the First World War. Cambridge, 2014.
- Sás A. Návšteva cára Petra Veľkého v Bratislave // Slovanská Bratislava. roč. I (1948). S. 231–252.
- Sashalmi E. A hatalom és az állam problematikája Oroszországban 1462–1725 között európai perspektívából. Budapest, 2020. О. 50–52.
- Sashalmi E. 16–17 th Century of Muscovite Ideology of Power in European Perspective (Proverbs as Means of Understanding Muscovite Ideology) // Место России в Европе (Материалы международной конференции). Budapest, 1999. О. 166–172.
- Sashalmi E. Contract theory and the westernization of Russian ideology of power under Peter the Great // Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis: A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének Történeti Közleményei. 2003. № 2. P. 89–100.
- Sashalmi E. Létezett-e feudalizmus a Kijevi Ruszban és a moszkvai államban? // Font M., Sashalmi E. Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól. Budapest, 2007. О. 139–158.
- Sashalmi E. The Coexistence of Old and New: Elements of Muscovite Ideology and Enlightenment // Fonvizin’s Discourse on the Immutable State Laws. Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis. 2001. № 1. P. 139–154.
- Schaub M.-K. The election of sovereigns in Russia at the time of the Time of Troubles (1598–1613) // Elections and political powers from the 7th to the 17th century. P., 2009. P. 325–341.
- Scheliha W. Russland und die orthodoxe Universalkirche in der Patriarchatsperiode 1589–1721. Wiesbaden, 2004.
- Skinner B. The Western Front of the Eastern Church: Uniate and Orthodox Conflicts in 18th Century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia // NIU Series is Slavic, East European and Eurasian Studies. 2009.
- Soldat C. Erschreckende Geschichten in der Darstellung von Moskovitern und Osmanen in den deutschen Flugschriften des 16. und 17. Jahrhunderts. Stories of Atrocities in Sixteenth and Seventeenth Century German Pamphlets About the Russians and Turks. Lewiston, 2014.
- Soll J. The Information Master: Jean Baptiste Colbert’s State Information System. Michigan, 2009.
- Stanislav J. Z rusko–slovenských kultúrnych stykov v časoch Jána Hollého a Ľudovíta Štúra. Bratislava, 1957.
- Steindorff L. Historiography on Muscovy (1462–1689) in Germany, Austria and Switzerland (2000–2020) // RussianStudiesHu 3. 2021. № 1. О. 65–106.
- Stellner F. Středoevropský vliv na školské reformy Kateřiny Veliké // Slovanský přehled 97. 2011. Č. 3–4. S. 409–424.
- Szaniszló O. Russian Noblewomen’s Family Obligations in the Light of Two Memoirs // Alternatives, Turning Points and Regime Changes in Russian History and Culture: Materials ofthe First International Conference for Young Scholars of Russian Studies. Budapest, 2015. P. 127–130.
- Szvák Gy. IV. Iván és I. Péter utóélete. Budapest, 2001. О. 7–10.
- Szvák Gy. «Az orosz hosszú 16. század fejlődéslogikája» // Világtörténet. 1986. № 3–4. О. 63–98.
- Szvák Gy. Az Ankungyinov-ügy – Egy európai kalandor Moszkóviából. Budapest, 2011. О. 9–19.
- Szvák Gy., Anyiszimov J. IV. Iván – I. Péter. Budapest, 2004. О. 171–173.
- Tsapina O. Was There a Russian Tradition of Church-State Relations? // The State in Early Modern Russia: New Directions. Slavica, 2018. P. 1–26.
- Varga B. Péter ukrán politikája – Mazepa «árulásának» kérdése // Acta Historica (Szeged). 2003. № 118. P. 25–35.
- Varga B. Pjotr Alekszandrovics Rumjancev, Kisoroszország első kormányzója // Hungaro-Ruthenica. 2012. № 6. P. 167–174.
- Veyrenc J. Histoire de la slavistique française // Beiträge zur Geschichte der Slawistik in den nichtslawischen Ländern. Wien, 1985. S. 245–303.
- Vlček R. Reformní vize v ruském politickém myšlení druhé poloviny 18. a počátku 19. století // Slovanský přehled 101. 2015. Č. 2. S. 259–292.
- Zielińska Z., Przegrana walka o głosowanie większością. Stanisław August od października do grudnia 1766 roku // Zielińska Z. Studia z dziejów… S. 90–135.
- Zielińska Z. Studia z dziejów stosunków polsko–rosyjskich w XVIII wieku. Warszawa, 2001.
- Варга Б. Оценка русско-украинских отношений с середины XVII до начала XVII вв. в современной русской и украинской историографии // Историческая русистика в XXI в. Будапешт, 2017. С. 129–139.
- Гебеи Ш. Степень независимости Украинского гетманства (середина XVII в.) // Московия: специфика развития. Budapest, 2003. О. 183–194.
- Гебеи Ш. Ференц II Ракоци – кандидат царя Петра Великого на польский престол (1707) // История России, Венгрии и Китая в исследованиях современных учёных. Вып. 5. СПб., 2020. С. 79–96.
- Кром М.М. Рождение государства: Московская Русь XIV–XVI веков. М., 2018.
- Молнар Л.В. Венгерско-русские культурные связи в XVIII веке: состояние исследования и постановка проблемы // Государственность, дипломатия, культура в Центральной и Восточной Европе XI–XVIII веков. Вып. 3. М., 2005. С. 194–206.
- Свак Д. Ещё раз об историографии царствования Ивана Грозного // Московия: специфика развития. Будапешт, 2003. С. 69–75.
- Филиппов С. Религиозная борьба и кризис традиционализма в России. Будапешт, 2007.
- Фроянов И.Я. Драма русской истории. На путях к опричнине. М., 2007.
- Шапошник В.В. Придворная борьба в Русском государстве 30-х годов XVI века. СПб., 2020.
Supplementary files