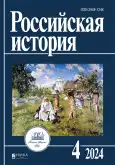«The man of the system»
- Authors: Rostovtsev E.A.1,2
-
Affiliations:
- Saint Petersburg State University
- Tomsk State University
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 182-186
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268644
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040195
- EDN: https://elibrary.ru/FEMCDN
- ID: 268644
Cite item
Full Text
Abstract
The article reviews the monograph by I.E. Barykina ("A typical St. Petersburg official" Count Dmitry Andreevich Tolstoy (1823-1889): The experience of the biography of the minister. M.; St. Petersburg, 2022). Noting the merits of the book by I.E. Barykina, the author of the review dwells on the problematic aspects of D.A. Tolstoy's biography. In particular, his role as an official in charge of the Academy of Sciences and Russian universities is considered, as well as a rare combination of the roles of a dignitary and a scientist in the bureaucratic environment of the hero of the reviewed essay.
Full Text
Узнав о смерти гр. Д. А. Толстого, государственный секретарь А. А. Половцов записал в дневнике, что «это был типичный петербургский чиновник с некоторым лоском исторического образования» (с. 1, 7, 153). И. Е. Барыкина включила данный отзыв в название своей книги, хотя, кажется, сама сомневается в справедливости такой явно небеспристрастной оценки (с. 153–154), произнесённой над гробом политического оппонента. Всё же граф, как «человек системы», оставаясь бюрократом, действовавшим в рамках определённых правил, не только вёл служебную переписку, но и создавал смыслы. Будучи учёным, он добывал и распространял новое знание, умело увязывая исследовательские штудии со служебными делами (с. 268). Такая карьера была типична для просвещённой бюрократии, но она отнюдь не преобладала даже среди столичного чиновничества второй половины XIX в. В то время обычно не сановники шли в науку, а скорее наоборот – профессора (прежде всего университетские) пытались влиять на общественное мнение и правительственную политику. Эти отечественные «мандарины» (как назвал их германских коллег, вовлечённых в общественно-политическую деятельность, Ф. Рингер1) изредка являлись консерваторами, но чаще придерживались либеральных взглядов, как, например, М. М. Ковалевский, Н. И. Кареев и др.
Монография Барыкиной легко и с интересом читается почти с любой страницы. Структура монографии включает четыре тематические части: «Curriculum vitae (жизненный круг)», «Спирали карьеры», «В кругу учёных», «Историк во власти». Такое построение текста делает неизбежными периодические повторы, поскольку автор с разных сторон освещает одни и те же сюжеты. Не всегда обоснованы и обширные (в десятки страниц) отступления: если подробный рассказ о сравнительно малоизвестной фигуре гр. Д. Н. Толстого-Знаменского не только оправдан, но даже необходим для понимания судьбы и особенностей его племянника (с. 25–53), то, например, описание системы академических премий XIX в., хорошо известной специалистам, явно избыточно.
При этом в книге Барыкиной нет ни идеализации, ни демонизации гр. Толстого. Подвергнутый в юности бойкоту за нарушение правил лицейского товарищества, он предстаёт довольно чёрствым человеком, отказавшимся ради карьеры и репутации в свете от отношений с любимой женщиной, с собственной матерью, с воспитавшим его дядей, а также крайне скаредным помещиком, не ладившим со своими бывшими крепостными. Но не раз говорится и о таких его достоинствах, как энергия, основательность, преданность делу, верность жене и любовь к детям.
Характеризуя деятельность гр. Толстого на посту обер-прокурора Святейшего Синода, исследовательница упоминает о его противостоянии значительной части церковных иерархов, тяготившихся любыми формами контроля над собой2. Ярко очерчена политика, проводившаяся графом в средней школе. Однако не менее интересны и его взаимоотношения с университетами. Ведь, как известно, он приложил немалые усилия, готовя пересмотр университетского устава 1863 г. Между тем именно в 1860–1870-е гг. высшее образование стало престижным, а число студентов увеличилось примерно на 60% (с 5 до 8 тыс. человек), причём их абсолютное большинство принадлежало к привилегированным сословиям3. Тогда же российские университеты (в особенности столичные) вышли на мировой уровень. Устав 1863 г. не только увеличил количество кафедр, но и расширил полномочия профессоров, по инициативе которых при университетах возникли новые издания, лаборатории, кабинеты, музеи и научные общества – математическое (1864) и юридическое (1865) в Москве, естествоиспытателей (1868), химическое (1868) и физическое (1872) в Санкт-Петербурге, Нестора Летописца (1873) в Киеве и т. д. Они формировали собственные исследовательские и издательские программы, определявшие направления развития отечественной науки. Неудивительно, что университеты 1860-х – начала 1880-х гг. как по личному составу, так и по выпуску научной продукции превосходили Императорскую Академию наук. Впрочем, сами академики начали в то время преподавать в столичном университете4. Тем самым формировалась институциональная среда, в которой творили научные гиганты «золотого века» российских университетов – Э. Х. Ленц, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. И. Мечников, С. М. Соловьёв, В. О. Ключевский, В. И. Герье и др. Убеждённое во взаимосвязи свободы преподавания и подъёма исследовательской деятельности, университетское сообщество в большинстве своём восприняло изменение устава в 1884 г. как настоящую катастрофу5.
Барыкина лишь вскользь касается борьбы гр. Толстого с профессурой (с. 121–122, 130), констатируя, что министр стремился к ограничению автономии университетских советов, но в 1880 г. реализации его планов неожиданно помешала отставка, последовавшая вскоре после установления «диктатуры сердца» гр. М. Т. Лорис-Меликова. В книге даже не упоминается о том, что в 1875 г. гр. Толстой инициировал учреждение комиссии, которая подготовила проект нового устава, оказавшийся востребованным в эпоху контрреформ6.
Большое внимание Барыкина уделяет тому, как гр. Толстой руководил Академией наук. Однако трудно на основании представленных материалов сказать, насколько его голос как министра и президента имел решающее значение в академических делах, не исключая и выборов. Во всяком случае, граф не препятствовал избранию в академики выдающихся учёных независимо от их взглядов. С одной стороны, при нём по-прежнему активно пополнялась «немецкая партия» (А. О. Баклунд, Ф. Ф. Бейльштейн, В. В. Радлов), традиционно лояльная власти. С другой стороны, их коллегами оказались фрондировавшие профессора Петербургского университета В. П. Васильев и А. С. Фаминцын (в 1879 г. даже подвергавшийся аресту за защиту студентов во время волнений7). Из своих знакомых гр. Толстой привлёк в Академию, вероятно, только Н. В. Калачова. За редким исключением Дмитрий Андреевич действовал не как «реакционер», а как чиновник, полагаясь на мнение экспертов и стремясь избегать конфликтных ситуаций.
Барыкина указывает на связь научной и административной карьеры гр. Толстого, что, по её мнению, лучше всего проявилось при его управлении Академией (с. 218). Как бы то ни было, граф действительно являлся по меркам своего времени настоящим учёным, а его произведения до сих пор цитируются исследователями, изучающими соответствующую тематику. В этом отношении его можно сравнить, пожалуй, лишь с другим высокопоставленным историком (и постоянным противником) – профессором Военной академии Д. А. Милютиным, чьё описание суворовских походов 1799 г. также не устарело. Из трудов Толстого наиболее известны работы о католицизме в России 8 и об Академии наук 9 (с. 188–189). Особую ценность имеют документы, впервые введённые им в оборот. И всё же нельзя полностью согласиться с тем, что он «первым обратил внимание на самый факт учреждения при Академии наук гимназии и университета, тем самым расширив представления о просвещении в XVIII веке» (с. 191). До него об этом ещё в 1830-х гг. писали И. П. Шульгин и А. В. Никитенко10. Однако торжества в Санкт-Петербургском университете, начиная с 1844 г., чётко отграничивали его от Петербургской Академии, чему способствовал и гр. Толстой, являвшийся одним из организаторов празднования 50-летнего юбилея в 1869 г. Кстати, утверждая, что академический «университет угас», граф доводил изложение его истории до окончания директорства кн. Е. Р. Дашковой в 1796 г., но не рассматривал уже трансформацию Академии после изменения её устава и выведения университетских структур за её пределы11.
Сообщая в монографии о знакомстве графов С. С. Уварова и Д. А. Толстого, Барыкина невольно подталкивает читателя к сравнению этих просвещённых сановников (с. 76–77, 168). С одной стороны, в их убеждениях, действиях и карьере можно обнаружить немало схожего. Оба достигли высоких должностей благодаря сочетанию собственных талантов, трудолюбия и семейных связей, были известны как интеллектуалы и идеологи самодержавия, поддерживали привилегии дворянства, совмещали исследовательские штудии с государственной службой, пестовали академиков и желали превращения университетов в научные центры, чуждые политических страстей. Но жили они в разные эпохи. И если Уваров часто оказывался либеральнее своего времени, с чем связаны его отставки с поста попечителя Санкт-Петербургского учебного округа (из-за «дела профессоров») в 1821 г. и министра народного просвещения (из-за намечавшегося пересмотра «учебных уставов») в 1849 г., то гр. Толстой, напротив, обычно был консервативнее тех, кому уступал место и в 1861 г., и в 1880 г.
Очевидно, пик противостояния с либеральными бюрократами и значительной частью общества пришёлся на последние годы его жизни, когда он возглавлял МВД. При освещении данного периода Барыкина, к сожалению, ограничилась краткой характеристикой участия министра в разработке плана контрреформ, игнорируя его борьбу с революционерами. Между тем причастность, пусть и сугубо формальная, к делу А. И. Ульянова и казни в 1887 г. несовершеннолетних участников несостоявшегося покушения окончательно укрепила в обществе «злодейскую» репутацию графа.
А она и раньше оставляла желать лучшего (с. 131–132). Мемуаристам запомнились «бездушные дрессирователи молодёжи времён графа Д. А. Толстого»12. Иным казалось, будто «снисходительное отношение к “волнениям” студентов объясняется не только тем, что в Петербургском университете господствовало либеральное направление профессуры, но и тем, что тогдашний министр просвещения граф Д. Толстой возбудил против себя даже самые умеренные круги русского общества»13. Из всех руководителей учебного ведомства столь же резкую неприязнь, как гр. Толстой, вызывал у своих оппонентов, пожалуй, только Л. А. Кассо14.
Книга Барыкиной, конечно, не даёт исчерпывающий ответ на все вопросы, связанные с личностью и деятельностью гр. Толстого, но она содержит ценный материал для размышлений о его исторической роли. По словам автора, «как “человек системы”, с юности отличавшийся организованностью и дисциплинированным умом, Д. А. Толстой часто больше внимания уделял форме, чем содержанию. Эта особенность мышления, проявившаяся в его сочинениях, отразилась и на политических взглядах: все свои силы он направлял на то, чтобы удержать в рамках традиционного общества процесс модернизации, не признавая его необходимости и неизбежности для России. Однако эта идея оказалась нежизнеспособной: если в конце ХIХ столетия консервативное течение одержало верх, то в начале ХХ в. старые формы государства и порядка управления были сметены революционным взрывом» (с. 271).
И. Е. Барыкиной удалось показать, как приверженность гр. Толстого бюрократическим правилам и методам преобразования жизни фактически привела к неудаче многих его начинаний, в том числе и реформы образовательной системы. Даже под руководством столь энергичного человека, как гр. Толстой, чиновничья машина зачастую работала вхолостую. Но если граф отрицал необходимость и неизбежность модернизации, то почему он не противостоял ей, а пытался удержать её в «рамках традиционного общества»? Характерно, что автор вполне справедливо причисляет его к «западникам», полагавшим, что социально-экономическое развитие российского общества идёт по европейскому пути (с. 165–166). Возможно, в этом и заключалась трагедия русских охранителей пореформенного времени, включая гр. Толстого, Делянова и др., пытавшихся следовать известной формуле Уварова: «Быть Русским по духу прежде, нежели стараться быть Европейцем по образованию». Однако на деле модернизация культуры и науки, а также связанные с ней изменения в экономике и языке, отставали от трансформации массового сознания, но одновременно заметно обгоняли темпы преобразования институтов управления. Синхронизировать эти процессы безуспешно пытались и либеральные консерваторы, и консервативные либералы (в том числе и состоявшие на государственной службе), и последовавший в начале ХХ в. революционный крах свидетельствовал об общем провале интеллектуальной и политической элиты Российской империи.
1 Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: академическое сообщество Германии, 1890–1933. М., 2008; Александров Д. А. Фриц Рингер, немецкие мандарины и отечественные учёные // НЛО. 2002. № 53. С. 90–104; Ростовцев Е. А. Российские мандарины. Столичная профессура, студенчество и власть в начале ХХ века // Родина. 2010. Спецвыпуск. Образование в России: вчера, сегодня, завтра. С. 47–52.
2 Подробнее см.: Алексеева С. И. Святейший синод в системе высших и центральных государственных учреждений России 1856–1904 гг. СПб., 2003. С. 243–151.
3 Россия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 27а. СПб., 1899. С. 388; Временник Центрального статистического комитета МВД. 1888. Вып. 1. Университеты и средние учебные заведения мужские и женские в 50 губерниях европейской России и 10 губерниях привислянских по переписи 20 марта 1880 г. / Сост. А. Дубровский. С. 12–18.
4 Ростовцев Е. А. Академия наук и Санкт-Петербургский университет на рубеже XIX–XX вв.: проблемы корпоративных взаимоотношений // Миллеровские чтения – 2018. Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия. Материалы II международной научной конференции. СПб., 2018. С. 511–519.
5 Симоненко Г. Ф. Возможно ли возрождение наших университетов при сохранении в них нынешней системы преподавания. Варшава, 1901; Виноградов П. Г. Учебное дело в наших университетах // Вестник Европы. 1901. № 10. С. 537–573; Фаминцын А. С. Накануне университетской реформы // Мир Божий. 1903. № 1. С. 238–255; Капнист П. А. Университетские вопросы // Вестник Европы. 1903. № 11. С. 167–218; № 12. С. 465–518; Клоссовский А. В. Материалы к вопросу о постановке университетского дела в России. Одесса, 1903.
6 Председательствовал в ней член Государственного совета И. Д. Делянов, занимавший в 1866–1873 гг. пост товарища министра народного просвещения, а в 1882 г. возглавивший учебное ведомство. Подробнее о её деятельности и о вызванном ею резонансе см.: Университетский вопрос (извлечение из материалов, собранных отделом высочайше учреждённой комиссии для пересмотра Общего устава российских университетов, при посещении их в сентябре, октябре и ноябре 1875 года) // Журнал министерства народного просвещения. 1876. Ч. 187. Отд. IV. С. 134–135, 137–139, 143, 148; Клыкова Е. Д. Споры об университетской автономии в русском обществе (1870-е – начало 1880-х гг.) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2015. № 1; Котов А. Э. «Дело профессора Любимова»: власть и общество в борьбе за университет // Котов А. Э. «Царский путь» Михаила Каткова: идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб., 2016. С. 91–134; Ростовцев Е. А. Столичный университет Российской империи: учёное сословие, общество и власть (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 2017. С. 418–420.
7 ОР РНБ, ф. 1000, оп. 2, д. 117, л. 1; Ольховский Е. Р. Тайный арест академика Фаминцына // Очерки по истории Санкт-Петербургского университета. Т. 7. СПб., 1998. C. 132–145.
8 Толстой Д. А. Римский католицизм в России. Ист[орическое] исслед[ование]. Т. 1–2. СПб., 1876–1877.
9 Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии, по рукописным документам архива Академии наук // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 38. 1885. № 5. С. 1–114; Толстой Д. А. Академический университет в XVIII столетии, по рукописным документам архива Академии наук // Там же. № 6. С. 1–67.
10 Шульгин И.П. О начале и постепенном возрастании Императорского Санкт-Петербургского университета. СПб., 1838. С. 12–13; Никитенко А. В. Похвальное слово Петру Великому, императору и самодержцу всероссийскому, отцу Отечества. СПб., 1838. С. 9–10.
11 Толстой Д. А. Академический университет в XVIII столетии… С. 61–62.
12 Пеликан А. А. Студенческие годы // Санкт-Петербургский университет в воспоминаниях и дневниках. В 3 т. / Сост. Е. А. Ростовцев. Т. 2. Кн. 1. СПб., 2024. С. 59.
13 Шебалин М. П. Клочки воспоминаний // Санкт-Петербургский университет в воспоминаниях и дневниках… Т. 2. Кн. 1. С. 223.
14 Ростовцев Е.А., Баринов Д. А. Образ чужого: «проклятый цыган» (Л. А. Кассо в воспоминаниях современников) // Клио. 2018. № 12. С. 27–36.
About the authors
Evgeniy A. Rostovtsev
Saint Petersburg State University; Tomsk State University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
д.и.н., профессор (СПбГУ), ведущий научный сотрудник (ТГУ)
Russian Federation, Saint Petersburg; TomskReferences
- Александров Д.А. Фриц Рингер, немецкие мандарины и отечественные ученые // НЛО. 2002. №53.
- Алексеева С.И. Святейший синод в системе высших и центральных государственных учреждений России 1856–1904 гг. СПб., 2003.
- Барыкина И.Е. «Типичный петербургский чиновник» граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889): Опыт биографии министра. М.; СПб., 2022.
- Витте С.Ю. Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания / Публ. Б.В. Ананьича, Р.Ш. Ганелина, С.К. Лебедева, И.В.Лукоянова и С.В.Куликова. Т. I. СПб., 2003.
- Клыкова Е.Д. Споры об университетской автономии в русском обществе (1870-е – начало 1880-х гг.) // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2015. №1.
- Котов А. «Пресмыкающийся профессор» против университетской автономии // Гефтер. 24.07.2012. [Электронный ресурс]. URL: https://gefter.ru/archive/5471 (дата обращения: 04.05.2024).
- Ольховский Е.Р. Тайный арест академика Фаминцына // Очерки по истории Санкт-Петербургского университета. СПб., 1998. Т. 7.
- Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество Германии, 1890–1933. М., 2008.
- Ростовцев Е.А. Российские мандарины. Столичная профессура, студенчество и власть в начале ХХ века // Родина. 2010.
- Ростовцев Е.А. Академия наук и Санкт-Петербургский университет на рубеже XIX–XX вв.: проблемы корпоративных взаимоотношений // Миллеровские чтения — 2018: Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия. Материалы II Международной научной конференции. СПб., 2018
- Ростовцев Е.А., Баринов Д.А. Образ чужого: «проклятый цыган» (Л.А. Кассо в воспоминаниях современников) // Клио. 2018. №12.
- Санкт-Петербургский университет в воспоминаниях и дневниках. В 3 т. Т. 2. Кн. 1. / Сост. Е.А. Ростовцев. СПб., 2024.
Supplementary files