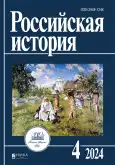Portrait of the mysterious triumvir
- Authors: Kotov A.E.1
-
Affiliations:
- Saint Petersburg State University
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 186-191
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268645
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040206
- EDN: https://elibrary.ru/FEIPAQ
- ID: 268645
Cite item
Full Text
Abstract
Count D.A. Tolstoy is traditionally perceived, along with M.N. Katkov and K.P. Pobedonostsev, as one of the "triumvirs" who directed the policy of "counter-reforms". But if the fates and views of the other triumvirs have already been described in quite a variety of ways, then Count Tolstoy was less fortunate. Therefore, the monograph by I.E. Barykina is in a certain sense not only new, but also unique. Of course, it is written in the traditions of the same liberal and Soviet historiography and partially retains their cliches and assessments, but still its restrained style is far from both excessive complimentarity and caricature.
Keywords
Full Text
Граф Д. А. Толстой традиционно воспринимается, наряду с М. Н. Катковым и К. П. Победоносцевым, как один из «триумвиров», направлявших политику «контрреформ». Ещё Е. М. Феоктистов иронизировал в своих воспоминаниях по поводу этого «триумвирата», сравнивая его с лебедем, раком и щукой1. Однако, хотя в стереотипное представление о царствовании Александра III как времени «застоя» и «реакции» эти образы вполне укладываются, при ближайшем рассмотрении и они, и сама эпоха приобретают иные черты, а описываемое в чёрно-белых тонах противостояние «прогрессистов» и «консерваторов» распадается на множество объективных и субъективных (но от того не менее значимых) коллизий. Так, выясняется, что идеологов и деятелей «контрреформ» критиковали не только либералы, но и другие консерваторы. Например, для государственного контролёра Т. И. Филиппова редактор Московских ведомостей и обер-прокурор Святейшего Синода отнюдь не соратники по «контрреволюционной партии». Для него «сочетание питерского Копронима с московским опричником (Катков) есть миниатюрное изображение “зверя со змием”»2.
Но если судьбы и взгляды других триумвиров описаны уже достаточно разносторонне3, то гр. Толстому повезло меньше: его историографический портрет, как и во времена П. Н. Милюкова и А. А. Корнилова, продолжает устрашать потомков всевозможными оттенками серости петербургского бюрократизма. Даже в наиболее обстоятельной и продуманной его биографии можно обнаружить инерцию обличающего «освободительного» пафоса и некритическое воспроизведение анекдотов, например, о том, как по дороге в Ливадию министр внутренних дел изображал лошадь и кричал: «Человек, порцию сена!»4.
Поэтому монография И. Е. Барыкиной в известном смысле не только нова, но и уникальна. Конечно, она написана в традициях всё той же либеральной и советской историографии и частично сохраняет их клише и оценки, но всё же её сдержанная стилистика далека как от чрезмерной комплиментарности, так и от карикатуры. Значительная часть книги посвящена характеристике научного наследия гр. Толстого (с. 164). При этом он предстаёт как последовательный западник, который в одной из своих работ «в каждой главе… проводил параллели, подчёркивая общие черты России и Западной Европы и придя в заключение к выводу о тождественности элементов русской и западноевропейской финансовых систем и их исторического развития, обусловленной “одинаковостью степени общественных цивилизаций”» (с. 165). В то же время к числу мыслителей, повлиявших на графа, автор относит и П. Я. Чаадаева (с. 212).
Опровергая традиционный стереотип о «реакционности» и «мракобесии» Толстого, Барыкина отмечает его осторожность и, в частности, нежелание «расправляться со всеми печатными изданиями». Так, в 1882–1884 гг. «он долго щадил самое демократичное из них – “Отечественные записки”. Несмотря на крайне негативное отношение к направлению, которое представлял редактор журнала М. Е. Салтыков-Щедрин, министр внутренних дел не мог нарушить неписанный закон лицейской дружбы. Журнал был закрыт только под давлением заместителей Д. А. Толстого – В. К. Плеве и П. В. Оржевского» (с. 137). После смерти графа А. В. Богданович записала в дневнике: «[А.С.] Суворин просидел сегодня долго вечером у нас, он жалеет Толстого, говорит, что печать никогда подобного не будет иметь. Что Толстой никогда никому её не выдавал, что четыре раза он попадался, на него жаловались Толстому, и всё-таки Толстой, не зная его, отстоял все 4 раза: история дружины, Вильома, статьи о Лорисе и Шувалове»5.
Немало страниц в монографии занимает рассказ о дяде и наставнике будущего министра – гр. Д. Н. Толстом, которому, по мнению исследовательницы, были свойственны «консервативные устремления типичного представителя небогатого поместного дворянства, полагавшего, что главные задачи правительства состоят в наведении порядка и поддержке высшего сословия» (с. 48). Но в отличие от тогдашней «аристократической партии», Толстые, как дядя, так и племянник, настаивали на защите православия и «русских начал», в том числе на западных окраинах империи. Старший из них был хорошо знаком с рижским епископом Филаретом (Гумилевским) (с. 38), младший – с виленским митрополитом Иосифом (Семашко) (с. 215). Впрочем, будучи обер-прокурором Святейшего Синода, граф распоряжался в «петровском» духе и никогда не сомневался в том, что православная Церковь во всех мирских делах должна подчиняться государству (с. 102). Как пишет Барыкина, он разделял «неприязненное отношение к чёрному духовенству», распространённое «в чиновничьей среде»: «Видя в каждом епископе претендента на роль патриарха, Толстой выступал против предоставления Русской православной церкви самостоятельности. К вопросу веры Дмитрий Андреевич относился с рациональной точки зрения, считая, что она не должна быть слепой… Несомненно, он был верующим человеком, но не отличался религиозностью, редко причащался и храмы посещал не очень часто» (с. 104)6. Правда, это не мешает автору утверждать при анализе антикатолической публицистики графа, будто «Д. А. Толстой был ревностным православным христианином» (с. 205).
Между тем нельзя не учитывать весьма непростое отношение в те годы представителей «русского направления» (отчасти «восторжествовавшего» при Александре III) к «государственному православию». В книге оно проскальзывает лишь при упоминании о замечаниях, высказанных И. С. Аксаковым и М. О. Кояловичем по поводу трудов гр. Толстого (с. 178–180), однако полемика славянофилов и консервативных сторонников церковной самостоятельности с «катковским направлением»7, к которому принадлежал граф, полностью игнорируется.
Собственно, невнимание к идеологическим аспектам описываемых сюжетов и является, пожалуй, главным недостатком книги. Даже о роли «Московских ведомостей» в пересмотре наследия А. В. Головнина сказано крайне скупо: «Убедившись в необходимости “классической” реформы как для образования, так и для политического строя Российской империи, Д. А. Толстой доверил теоретическую сторону сподвижникам М. Н. Каткова, а сам, как практик, энергично взялся за её осуществление, решительно преодолевая все препятствия, главным из которых было сопротивление членов Государственного совета: А. В. Головнина, Д. А. Милютина, К. К. Грота…» (с. 122). При этом более чем осведомлённый чиновник учебного ведомства Феоктистов в 1871 г. отмечал: «Нет ни малейшего сомнения, что если нынешняя реформа увенчается успехом… то заслуга этого будет принадлежать Каткову, одному Каткову. Он делал во всё это время истинные чудеса. Прежде всего удалось ему совершенно овладеть графом Толстым… Нельзя сказать, чтобы присутствие Каткова не ощущалось довольно тягостно: он не давал покою Толстому, а Толстой, и без того уже нервный, не давал покою нам – и вообще всё министерство находилось как бы в лихорадке»8. Трудно назвать подобную деятельность «теоретической».
Барыкина полагает, что на рубеже 1850–1860-х гг. гр. Толстой являлся чуть ли не крепостником, разделявшим, вместе с дядей, «типичную для представителя родовитого (хоть и небогатого) поместного дворянства» позицию: «По его мнению, подготовку реформы взяла на себя “чиновничья петербургская партия”, состоявшая “исключительно из чиновников, литераторов и журналистов” и действовавшая вопреки интересам помещиков и государства. Следствием стала необдуманность преобразований 1860-х гг., которые вызвали разочарование и недовольство как помещиков, так и крестьян» (с. 41). При освобождении крепостных в его рязанских имениях граф действовал в полном соответствии с идеалами «помещичьей партии» (с. 85). Поэтому и в политике, проводившейся им в 1880-е гг., автор, следуя советской историографической традиции, видит всё ту же логику: «По словам М. В. Толстого, принимая министерский портфель, Д. А. Толстой предупредил Александра III о том, что он является убеждённым сторонником дворянских привилегий и, став министром, будет всячески их защищать. Это было не голословное заявление. Одним из главных результатов деятельности Толстого в МВД стала разработка “Положения о земских начальниках” и земская контрреформа… Император выделил Толстого из всей “консервативной партии” за его последовательность в действиях и верность однажды принятой позиции. От Толстого даже не потребовали представить программу будущих действий. Сама его фигура олицетворяла охранительное направление» (с. 135).
Однако под «охранительным направлением» в то время могли понимать совершенно разные вещи. Представители высшей знати, составлявшие «аристократическую оппозицию» 1860-х гг.9 или входившие в Святую дружину, заигрывавшую с левым подпольем, также считали себя «охранителями» – как самодержавия, так и дворянских привилегий. Современники же отчётливо видели разницу между такими «консерваторами» и гр. Толстым: «Я думаю, – писала 30 декабря 1888 г. Богданович, – что Толстой, раз он хлопочет об усилении губернаторской власти, не хочет потакать дворянам в том, что они этой власти не повинуются, и дать им возможность похвалиться, что по их просьбе меняют губернаторов»10. В историографии на это довольно точно указал В. Л. Степанов: «В своих убеждениях граф шёл до известных пределов. Дворянство ни в коем случае не должно было претендовать на политическую власть в государстве и конкурировать с троном. Интересы самодержавия Толстой ставил превыше всего. Чтобы не допустить сплочения дворянской олигархии, он категорически запретил предполагавшийся в Москве накануне празднования столетия Жалованной грамоты съезд губернских предводителей дворянства»11. Таким образом, намечавшееся на рубеже 1860–1870-х гг. сближение «катковцев» с «дворянской партией» оказалось весьма условным и непрочным.
Совсем стушевался на страницах книги главный разработчик сословных «контрреформ» и один из ближайших сотрудников гр. Толстого в последние годы его жизни – А. Д. Пазухин. Хорошо знавший его К. Ф. Головин, ценивший в нём «искренность и теплоту, столь чуждые нашим бюрократам», вспоминал: «Он искренно любил московского чиновника, приказного дьяка, “служилого человека”, как он называл этого очень малосимпатичного субъекта. Пазухин чистосердечно воображал, будто наши служилые люди коренным образом отличались от юристов, судей и разных коронных чиновников, служивших королевской власти на Западе»12. В Европе, по мнению Пазухина, «вместо крепостного права землевладельцев установилось худшее крепостное право – ростовщиков»13. В России же дворянское сословие, созданное Петром Великим, всегда укреплял приток «новых сильных элементов»: «Аристократическая исключительность и сословная замкнутость противны характеру нашей истории и началам нашего государственного быта… Мудрость законодателя состоит в искусном устройстве ворот, не настолько широких, чтобы в них ворвались негодные элементы, но и не настолько узких, чтобы затруднить получение дворянства для наилучших элементов из других сословий»14.
Пазухин доказывал, что «крепостное право было временным спутником поместной системы, но не было её исторической основой», а «нынешнее дворянство не нуждается для поддержания своего хозяйства в тех мерах, без которых не могли обойтись служилые люди первых царей Дома Романовых»15. Соответственно и Положения 19 февраля 1861 г., ставшие продолжением начинаний Александра I и Николая I, не прервали прежние связи в обществе, но предоставили дворянству «новое право выставлять из среды своей лиц для приведения в исполнение реформы и для управления крестьянским сословием»16. Тем самым, в отличие, например, от Р. А. Фадеева, Пазухин рассматривал дворян не как незаменимый «культурный слой» русского общества, но как важнейший элемент государственного строя, что и обеспечило публицисту поддержку Каткова.
Но взгляды Пазухина разделяли не только «катковцы». Солидаризируясь с ним, подконтрольный Филиппову «Голос Москвы» заявлял: «Дворянин, являющийся действительно знатоком и защитником русского дворянства, резко расходится с верховниками, и не только не стремится, в противоположность требованиям нашей истории, закрыть доступ в дворянство другим сословиям, но, напротив, желает мер, направленных к тому, чтобы двери для входа в дворянство были открыты для всех выдающихся лиц других сословий. Он желает, чтобы неудачное понятие “интеллигенция” перестало существовать, потому что всё действительно развитое соединено в одно сословие, которое пользуется полным доверием царя, опирающегося на него в деле местного самоуправления»17. Сочувствовал Пазухину и К. Н. Леонтьев18.
Речь, таким образом, шла не о «попятном движении» (с. 138), но о коррекции Великих реформ, опирающейся как на национальный (пусть иногда и превратно понимаемый), так и на западный опыт, который, кстати лежал в основе программы университетской «контрреформы»19. И не случайно осуществлять эту политику пришлось именно такому государственному деятелю, как гр. Д. А. Толстой, который, судя по исследованию И. Е. Барыкиной, являлся не «мракобесом» и «реакционером», но осторожным европейским интеллектуалом, добросовестно служившим русской власти.
1 Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы (1848–1896). М., 1991. С. 221.
2 Пророки византизма: переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова (1875–1891) / Сост. О. Л. Фетисенко. СПб., 2012. С. 330.
3 См., в частности: Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М., 2010; Полунов А. Ю. Победоносцев: русский Торквемада. М., 2014; Санькова С. М. Государственный деятель без государственной должности. М. Н. Катков как идеолог государственного национализма. Историографический аспект. СПб., 2007; Котов А. Э. «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб., 2016; Перевалова Е. В. «Русская Times»: газета «Московские ведомости» под редакцией М. Н. Каткова (1863–1887). М., 2020.
4 Степанов В. Л. Дмитрий Андреевич Толстой // Российские консерваторы. М., 1997. С. 262.
5 РГИА, ф. 1620, д. 243, л. 35. К сожалению, Барыкина ссылается лишь на изданную под названием «Три последних самодержца» советскую компиляцию дневника Александры Викторовны, где данный фрагмент отсутствует.
6 Если верить генеральше Богданович, петербургский митрополит Исидор (Никольский) выразился ещё резче: «Никто не помнит, когда он причащался» (Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 112; РГИА, ф. 1620, д. 243, л. 50).
7 Котов А. Э. Был ли Катков православным консерватором? // Тетради по консерватизму. 2018. № 3. С. 59–67.
8 ИРЛИ, ф. 318, д. 9121, ч. 2, л. 21.
9 Подробнее см.: Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. М., 2002.
10 РГИА, ф. 1620, д. 241, л. 88.
11 Степанов В. Л. Дмитрий Андреевич Толстой. С. 275.
12 Головин К. Ф. Мои воспоминания за 35 лет (1859–1894). Изд. 2. Т. 2. СПб.; М., [б. г.]. С. 101–102.
13 Пазухин А. Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1885. С. 52.
14 Там же. С. 48, 57.
15 Там же. С. 28.
16 Там же. С. 10.
17 Действительный голос с места // Голос Москвы. 1885. № 46. 12 февраля.
18 Леонтьев К. Н. Культурный идеал и племенная политика // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем в 12 т. / Под ред. О. Л. Фетисенко. Т. 8(2). СПб., 2009. С. 51.
19 Котов А.Э. «Царский путь» Михаила Каткова… С. 98–99.
About the authors
Aleksandr E. Kotov
Saint Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, профессор
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Богданович А.В. Три последних самодержца. М., 1990.
- Головин К.Ф. Мои воспоминания за 35 лет (1859–1894). Изд. 2. Т. 2. СПб.; М., [б.г.].
- Действительный голос с места // Голос Москвы. 1885. № 46. 12 февраля.
- Котов А.Э. «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб., 2016;
- Котов А.Э. Был ли Катков православным консерватором? // Тетради по консерватизму. 2018. № 3.
- Леонтьев К.Н. Культурный идеал и племенная политика // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем в 12 т. / Под ред. О.Л. Фетисенко. Т. 8(2). СПб., 2009.
- Пазухин А.Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1885. С. 52.
- Перевалова Е.В. «Русская Times»: газета «Московские ведомости» под редакцией М.Н. Каткова (1863–1887). М., 2020.
- Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М., 2010;
- Полунов А.Ю. Победоносцев: русский Торквемада. М., 2014;
- Пророки византизма: переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891) / Сост. О.Л. Фетисенко. СПб., 2012.
- Санькова С.М. Государственный деятель без государственной должности. М.Н. Катков как идеолог государственного национализма. Историографический аспект. СПб., 2007;
- Степанов В.Л. Дмитрий Андреевич Толстой // Российские консерваторы. М., 1997.
- Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы (1848–1896). М., 1991.
- Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. М., 2002.
Supplementary files