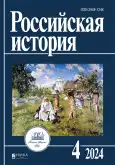The «university question» in the Russian government policy at the beginning of the 20th century
- Authors: Tumanova A.S.1
-
Affiliations:
- HSE University
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 217-221
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/268649
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040247
- EDN: https://elibrary.ru/FEAMPE
- ID: 268649
Cite item
Full Text
Abstract
The text written by A.S. Tumanova is a review on the monograph of A.E. Ivanov, which analyzes the policy of the autocracy in relation to universities in 1899–1908.
Full Text
«Университетский вопрос» в правительственной политике России начала XX в. 1
В новой монографии А. Е. Иванова анализируется политика самодержавия по отношению к университетам в 1899–1908 гг. Автор развивает отдельные положения, которые высказал ещё в кандидатской диссертации, успешно защищённой в 1975 г.2, и заметно раздвигает хронологические рамки рассматриваемого периода. В каком-то смысле эта книга призвана «увенчать здание» исследований, раскрывающих историю взаимоотношений власти и университетского сообщества во второй половине XIX – начале XX в. Многие десятилетия над их изучением трудились такие специалисты, как Р. Г. Эймонтова, Г. И. Щетинина, В. П. Яковлев, Е. А. Ростовцев и сам А. Е. Иванов3.
В начале XX в., как убедительно показал автор, «университетский вопрос» превратился в барометр публичной жизни. Он будоражил умы профессорско-преподавательского корпуса и студенчества, занимал заметное место в программах и практике как политических партий, так и правящей бюрократии. Академическое сообщество стремилось к автономии, т. е. к некоторой учебно-педагогической самостоятельности и самоуправлению в стенах учебного заведения. Но университеты в России готовили к поступлению на государственную службу и поэтому требовали, по мнению представителей власти, пристального контроля. В то же время студенчество и профессура имели собственные представления о культурно-историческом предназначении высшей школы.
Накануне революции 1905 г. университеты стали центрами антиправительственных волнений. Весной 1905 г. возник оппозиционный Академический союз (Всероссийский союз деятелей науки и просвещения), а 27 августа Временные правила об управлении высшими учебными заведениями Министерства народного просвещения фактически восстановили ограниченную университетскую автономию, отменённую при введении устава 1884 г. При этом, как считает автор, проникнув в аудитории, революция не прервала и не ослабила протекавшую там научную работу.
Исследование Иванова основано на широком корпусе источников, включающем различные нормативные акты и делопроизводственные материалы, документы личного происхождения, а также публицистические произведения и публикации в периодической печати.
Книга состоит из семи глав. В первой из них (с. 13–70) показано состояние 11 университетов, действовавших в империи, не считая Великого княжества Финляндского, в конце XIX – начале XX в. (тогда как в Германии к 1911 г. их насчитывалось 32, во Франции – 27, в Великобритании – 18), характеризуется студенчество и профессорско-преподавательский корпус, анализируются проекты разделения фундаментального и прикладного образования и констатируется, что в отличие от европейских стран в России не прижилось совмещение традиционных факультетов (историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский) с «народнохозяйственными».
Как отмечает учёный, результаты университетской контрреформы 1884 г. не оправдали ожиданий правящих кругов и только тормозили развитие отечественной науки. Студенческие беспорядки 1899 и 1905–1907 гг. свидетельствовали об укреплении горизонтальных связей учащихся и их организаций в различных городах и учебных заведениях. Министерство народного просвещения безуспешно противостояло реформаторски настроенному большинству профессуры, активно пополнявшей в 1905–1906 гг. ряды либеральных партий. Всё это придавало академическому пространству конфликтный характер, поскольку бóльшая часть как профессоров, так и студентов, разделявших демократические убеждения, сопротивлялась охранительным методам управления университетом.
В шести главах Иванов последовательно раскрывает политику 1898–1908 гг., проводившуюся министрами народного просвещения – Н. П. Боголеповым (с. 71–157), П. С. Ванновским (с. 158–186), Г. Э. Зенгером (с. 187–225), В. Г. Глазовым (с. 226–270), гр. И. И. Толстым (с. 271–299) и П. М. Кауфманом (с. 300–311). Каждый из них, действуя в рамках правительственного курса, придавал руководству ведомством свой персональный оттенок. Так, для «прямолинейного консерватора» московского профессора Боголепова, опиравшегося на поддержку министра внутренних дел И. Л. Горемыкина и вел. кн. Сергея Александровича, были свойственны недоверие к студенчеству и стремление усилить полицейский надзор за университетами. В итоге репрессии против участников всеобщей студенческой забастовки в феврале–марте 1899 г. и санкционирование в 1900 г. отдачи студентов, участвовавших в беспорядках, в солдаты стоили сановнику жизни: 14 февраля 1901 г. он был тяжело ранен террористом и вскоре скончался.
Возглавивший после этого министерство генерал Ванновский, занимавший в 1881–1897 гг. пост военного министра, совершил «либеральный» поворот и не только освободил студентов от отбывания солдатской службы, но и предоставил учащимся возможность самоорганизации, разрешив проведение курсовых сходок, а также устройство столовых, касс взаимопомощи и научно-литературных кружков. Однако и эта политика «сердечного попечения о студентах», в которой Иванов видит «университетскую зубатовщину», не оправдала надежд охранителей и лишь усилила не прекращавшиеся волнения. Продержавшись всего год, в апреле 1902 г. Ванновский уступил свою должность петербургскому филологу-классику Зенгеру, состоявшему с ноября 1901 г. товарищем министра, а до того служившему профессором и попечителем в Варшаве. Тот поначалу пытался продолжить курс на «сердечное попечение» и создал в конце 1902 г. комиссию для выработки нового университетского устава, оставившую после себя пять увесистых томов, посвящённых положению университетов в России и за рубежом. Впрочем, до реформы дело не дошло, тогда как студенческое движение с конца 1902 г. нарастало, приобретя особый размах после начала русско-японской войны. Тем не менее, когда в январе 1904 г. Зенгер подал в отставку, заменить его оказалось непросто, и лишь в апреле освободившееся место занял генерал-лейтенант Глазов, в 1901–1904 гг. – начальник Николаевской академии Генерального штаба. В августе того же года он инициировал съезд попечителей учебных округов, который выработал положение о гимназиях и новый проект университетского устава, предполагавший некоторое увеличение полномочий профессорских коллегий и, в частности, предоставление им права выбирать ректора и деканов. Одновременно профессорам предписывалось сосредоточиться на научно-учебной деятельности.
27 августа 1905 г. Николай II подписал указ о введении в действие Временных правил об управлении высшими учебными заведениями Министерства народного просвещения. Иванов признаёт их «временной университетской автономией», поскольку они расширяли компетенцию факультетов, профессорского дисциплинарного суда по студенческим делам и совета, которому передавалось избрание ректора и деканов. В стенах учебного заведения студенты могли теперь рассчитывать на неприкосновенность и подчинялись только университетской администрации. Это являлось своего рода «авансом» готовившейся коренной реформы, но правительство всегда могло вернуться к прежней модели управления.
Из общего ряда царских министров резко выделялся гр. Толстой, вошедший в октябре 1905 г. в правительство, сформированное гр. С. Ю. Витте. Начав с радикальной чистки министерства от чиновников, не сочувствовавших либеральным реформам, гр. Толстой в атмосфере широкой гласности и при активном участии профессуры создал ещё один проект университетского устава (уже третий после появившихся во времена Ванновского–Зенгера и Глазова). Граф намечал введение в университетах «предметной системы» преподавания, собирался отменить нормы, ограничивавшие число студентов еврейского происхождения и препятствовавшие обучению женщин. По словам Иванова, это был первый министр народного просвещения, защищавший учёное достоинство высшей школы и не разделявший чисто бюрократический взгляд на её задачи, при котором они сводились к подготовке служащих для правительственного аппарата (с. 373). Он также открыто и официально обличал государственный антисемитизм и не использовал антифеминистскую риторику.
Этот определённо прогрессивный курс отчасти сохранялся и при Кауфмане, стоявшем во главе учебного ведомства с апреля 1906 г. по декабрь 1907 г. Он пытался законодательно оформить такие важные элементы реформаторской программы гр. Толстого, как приём в университеты женщин наравне с мужчинами, отмена процентных норм для «лиц иудейского исповедания», стремившихся к высшему образованию, упразднение непопулярной инспекции по студенческим делам. Вместе с тем его управление запомнилось и Положением 11 июня 1907 г., которое поставило корпоративные организации учащихся (кружки, общества и т. д.) под жёсткий контроль полиции и лишило их права выступать «в качестве представительных органов всех студентов данного учебного заведения» (с. 309). Кратким очерком об этом времени, которое стало «переходным от безбрежно-либерального курса его предшественника гр. Толстого к ультраконсервативному курсу его преемника А. Н. Шварца» (с. 302), и завершается книга. Она не оставляет сомнений в том, что политика самодержавия в университетских делах являлась результирующей различных тенденций, которая определялась расстановкой сил в правящих кругах, позицией императора, динамикой общественных настроений в тот или иной момент. Частая смена министров народного просвещения при Николае II, по справедливому наблюдению историка, свидетельствовала о противоречивости правительственного курса.
Граф Толстой, о котором автор монографии пишет с явной симпатией, сравнивал своё министерство с «огромной фабрикой», выбрасывавшей ежегодно тысячи циркуляров, отношений и отзывов, оснащённой массой рычагов, колёс, паровых котлов и целой армией мастеров, рабочих, надсмотрщиков и десятников4. Что же мешало ей организованно настроиться на новый лад и двигаться к утверждению в России западноевропейской модели высшего образования в соответствии с пожеланиями либерально настроенной профессуры и демократического студенчества? Прямого ответа на этот вопрос, невольно возникающий у читателя, Иванов не даёт. Но он показывает, что, даже идя на определённые уступки и усовершенствования, самодержавная власть не меняла охранительной сущности своей политики. Очевидно также, что чиновники и профессора зачастую по-разному оценивали происходившие события и преследовали разные цели. Это разномыслие иногда приобретало острый конфликтный характер.
В утверждённых императором 4 марта 1906 г. Временных правилах об обществах и союзах и о публичных собраниях Иванов несколько односторонне усматривает символ отказа от уступок, вырванных высшей школой у власти в 1905 г. (с. 298). В частности, особое внимание в книге уделено предоставлению полиции права закрывать студенческие собрания по собственному усмотрению. Но именно этот указ, регулировавший новый порядок, впервые официально допускал проведение в учебных заведениях публичных собраний образовательного характера или разрешённых действовавшими уставами. Правила о союзах дозволяли студентам создавать ассоциации, но также лишь на основаниях, определённых уставами своих учебных заведений и за их пределами. В целом же общеимперскому законодательству о союзах и собраниях были присущи схожие противоречия, что и описанной в книге политике Министерства народного просвещения по отношению к высшей школе.
В первую главу автор включил содержательные приложения (с. 64–70). Опираясь на министерские отчёты, он проследил динамику прироста числа университетских профессоров и приват-доцентов в изучаемый период, численность утверждённых в учёных званиях и т. п. Списки служащих по учебному ведомству позволили раскрыть сословный состав профессорско-преподавательского корпуса университетов и выявить тенденцию к его демократизации.
Монография написана авторитетным учёным ярко и увлекательно. Она несомненно войдёт в «золотой фонд» исследований по истории высшей школы Российской империи. Нельзя не упомянуть и о том, что свой труд А. Е. Иванов «с глубоким почтением» посвятил «светлой памяти Станислава Васильевича Тютюкина» – блестящего знатока описанной в книге эпохи, с которым её автора связывали многие годы близкого и плодотворного сотрудничества.
Примечания
1 Иванов А. Е. Университеты и самодержавная власть в Российской империи. Начало XX века. М.: Принципиум, 2023. 320 с.
2 Иванов А. Е. Университетская политика самодержавия накануне Первой русской революции. 1899–1904. Дис. … канд. ист. наук. М., 1975.
3 Эймонтова Р. Г. Русские университеты на путях реформы. Шестидесятые годы XIX в. М., 1993; Щетинина Г. И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976; Яковлев В. П. Политика русского самодержавия в университетском вопросе (1905–1911). Дис. … канд. ист. наук. Л., 1971; Ростовцев Е. А. Столичный университет Российской империи: учёное сословие, общество и власть (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 2017; Иванов А. Е. Высшая школа Российской империи XVIII – начала XX века. Избранные статьи. М., 2019; и др.
4 Мемуары графа И. И. Толстого / Публ. Л. И. Толстой, Р. Ш. Ганелина и А. Е. Иванова. М., 2002. С. 48–49.
About the authors
Anastasiya S. Tumanova
HSE University
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
доктор исторических наук, профессор Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук
Russian Federation, MoscowReferences
- Иванов А.Е. Высшая школа Российской империи XVIII – начала XX века. Избранные статьи. М., 2019.
- Иванов А.Е. Университетская политика самодержавия накануне Первой русской революции. 1899–1904. Дис. … канд. ист. наук. М., 1975.
- Мемуары графа И.И. Толстого / Публ. Л.И. Толстой, Р.Ш. Ганелина и А.Е. Иванова. М., 2002.
- Ростовцев Е.А. Столичный университет Российской империи: учёное сословие, общество и власть (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 2017.
- Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976.
- Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы. Шестидесятые годы XIX в. М., 1993.
- Яковлев В.П. Политика русского самодержавия в университетском вопросе (1905–1911). Дис. ... канд. ист. наук. Л., 1971.
Supplementary files